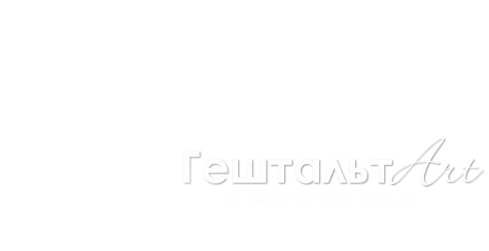Ирвин Ялом - Экзистенциальная психотерапия
Ирвин Ялом
Экзистенциальная психотерапия
Ирвин Ялом
Экзистенциальная психотерапия
1. ВВЕДЕНИЕ
Несколько лет назад мы с друзьями посещали кулинарный курс, который проводила почтенная армянская матрона вместе со своей пожилой служанкой. Так как они не говорили по‑английски, а мы – по‑армянски, общение было затруднено. Она учила путем наглядного показа, на наших глазах создавая целую батарею чудесных блюд из телятины и баклажанов. Мы смотрели (и прилежно пытались записать рецепты). Но результаты наших усилий оставляли желать лучшего: как ни старались, мы не могли воспроизвести ее яства. «Что же придает ее стряпне этот особый вкус?» – гадал я. Ответ от меня ускользал, пока в один прекрасный день, особенно бдительно следя за кухонным действом, я не увидел следующее. Наш ментор с величайшим достоинством и неторопливостью приготовила очередное кушанье. Затем передала его служанке, которая без единого слова взяла его и понесла в кухню на плиту. По дороге она, не замедляя шага. бросала в него горсть за горстью рассортированные специи и приправы. Я убежден, что именно в этих украдкой производившихся «вбрасываниях» и заключался ответ на мой вопрос.
Думая о психотерапии, особенно о критических составляющих успешной терапии, я часто вспоминаю этот кулинарный курс. В академических текстах, журнальных статьях и лекциях психотерапия изображается как нечто точное и систематическое – с четко очерченными стадиями, со стратегическими, техничными вмешательствами, с методическим развитием и разрешением переноса, с анализом объектных отношений и тщательно спланированной рациональной программой направленных на достижение инсайта интерпретаций. Однако я глубоко уверен: когда никто не смотрит, терапевт «вбрасывает» самое главное.
Но что, собственно, представляют собой эти ингредиенты, ускользающие от сознательного внимания и протокола? Они не включены в формальную теорию, о них не пишут, им явным образом не учат. Терапевты зачастую не осознают их присутствие в своей работе; тем не менее, каждый терапевт согласится, что во многих случаях он или она не может объяснить улучшение состояния пациента. Эти принципиально важные компоненты трудно описать и еще труднее определить. Возможно ли дать определение и научить таким качествам, как сочувствие, «присутствие», забота, расширение собственных границ, контакт с пациентом на глубоком уровне и – самое неуловимое – мудрость?
Одно из первых описаний случаев в истории современной психотерапии хорошо иллюстрирует селективное невнимание терапевтов к этим «добавкам». (Последующие описания в этом отношении менее полезны: психиатрия уже стала настолько догматичной в представлениях о правильном ведении терапии, что «неканонические» шаги терапевта вообще перестали упоминаться в протоколах.) В 1892 г. Зигмунд Фрейд успешно лечил фройляйн Элизабет фон Р., молодую женщину, страдавшую от психогенных трудностей передвижения. Свой терапевтический успех Фрейд объяснял исключительно применением техники отреагирования – отмены подавления определенных вредоносных желаний и мыслей. Однако при изучении заметок Фрейда обнаруживается поразительный объем иной терапевтической активности. Например, он предписал Элизабет посетить могилу сестры, а также нанести визит молодому человеку, которого она находила привлекательным. Он проявлял «дружескую заботу о ее текущих обстоятельствах», контактируя с ее семьей, встретился с ее матерью и «умолял» дать пациентке возможность открытого общения, чтобы она могла периодически облегчать свое душевное бремя. Узнав от матери, что у Элизабет нет надежды стать женой бывшего мужа своей покойной сестры, он передал эту информацию пациентке. Он помог семье распутать финансовый узел. В другое время Фрейд убеждал Элизабет спокойно принимать факт неизбежной неопределенности будущего для каждого человека. Неоднократно он утешал ее, заверяя, что она не ответственна за нежелательные чувства и что сила ее переживаний вины и угрызений совести ярко свидетельствует о моральной высоте ее натуры. Прослышав, что Элизабет собирается на танцевальный вечер, Фрейд добился приглашения туда, чтобы увидеть, как она «кружится в веселом танце». Невозможно не задаться вопросом, что, собственно, помогло излечению Элизабет фон Р. Я не сомневаюсь, что фрейдовские «добавки» явились могучими интервенциями, и исключать их из теории было бы ошибкой.
В этой книге я стремлюсь сформулировать и раскрыть определенный подход к психотерапии – теоретическую структуру и ряд вытекающих из нее техник, – рамки которого позволяют обсудить многие из терапевтических «специй». Название этого подхода – «экзистенциальная психотерапия» не объяснить в двух словах, что неудивительно. экзистенциальная ориентация имеет глубоко интуитивный, а не эмпирический фундамент. Тем не менее, я начну с формального определения, прояснению которого будет служить остальная часть книги. Экзистенциальная терапия – это динамический терапевтический подход, фокусирующийся на базисных проблемах существования индивидуума.
Я убежден: огромное большинство опытных терапевтов опираются на многие из описываемых ниже экзистенциальных идей, независимо от их принадлежности к другим идеологическим школам. Например, большинство терапевтов понимают, что осознание своей смертности и вообще «конечности» нередко заставляет человека на многое взглянуть совершенно по‑другому; что целительное действие принадлежит отношениям; что страдания пациентов связаны с выбором; что терапевт должен стимулировать «волю» пациента к действию, что, наконец, большинство пациентов страдают от недостаточной осмысленности своей жизни.
Но экзистенциальный подход – это нечто большее, чем тонкий подтекст или имплицитная установка, присутствующие у терапевта помимо его воли и намерений. На протяжении нескольких лет, читая лекции терапевтам на многие темы, я задавал им вопрос: «Считаете ли вы себя экзистенциально ориентированными?» Немалая доля слушателей, примерно половина, отвечали утвердительно. Но на вопрос «Что такое экзистенциальный подход?» они затруднялись ответить. Надо сказать, что вообще язык описания терапевтами своих терапевтических подходов не отличается ни краткостью, ни однозначностью; однако экзистенциализм с его неопределенным и противоречивым словарем в этом смысле не знает себе равных. У терапевтов экзистенциальный подход ассоциируется с такими заведомо неточными и на первый взгляд не связанными между собой понятиями, как «подлинность», «встреча», «ответственность», «выбор», «гуманистический», «самоактуализация», «центрирование», «сартрианскии», «хайдеггеровский». Многие профессионалы в области психического здоровья привыкли считать его смутным, аморфным, иррациональным, романтическим – даже не «подходом», а некой лицензией на импровизацию, разрешением недисциплинированному и неотесанному терапевту с «кашей» в голове действовать, как его левая нога пожелает. Я надеюсь показать, что это мнение неоправданно, что экзистенциальный подход является ценной, эффективной психотерапевтической парадигмой, столь же рациональной, связной и систематичной, как любая другая.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ: ДИНАМИЧЕСКАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ
Экзистенциальная терапия является формой динамической психотерапии. Термин «динамический» часто используется в сфере психического здоровья, – в которой, собственно говоря, речь идет ни о чем ином, как о «психодинамике», – и без прояснения смысла динамической терапии фундаментальный компонент экзистенциального подхода останется непонятным. Слово «динамический» имеет как общее. так и техническое значение. В общем смысле понятие «динамический» (происходящее от греческого dunasthi «иметь силу и власть») указывает на энергию или движение: «динамичный» футболист или политик, «динамо», «динамит». Но техническое значение этого понятия должно быть иным, ибо, в противном случае, что означала бы «нединамичность» терапевта: медлительность? вялость? малоподвижность? инертность? Конечно же, нет: в специальном, техническом смысле термин имеет отношение к концепции «силы». Динамическая модель психики является наиболее значительным вкладом Фрейда в представление о человеке – модель, согласно которой в индивидууме присутствуют конфликтующие силы, и мысли, эмоции, поведение – как адаптивные, так и психопатологические – представляют собой результат их взаимодействия. Также важно, что эти силы существуют на различных уровнях осознания, и некоторые из них совершенно неосознанны.
Таким образом, психодинамика индивидуума включает различные действующие в нем осознаваемые и неосознаваемые силы, мотивы и страхи. К динамической психотерапии относятся формы психотерапии, основанные на этой динамической модели функционирования психики.
Экзистенциальная психотерапия в моем описании вполне подпадает под категорию динамической психотерапии. Это очевидно. Но затем мы задаем вопрос: какие силы (а также мотивы и страхи) находятся в конфликте? Иначе говоря, каково содержание этой внутренней осознаваемой и неосознаваемой борьбы? Ответ на данный вопрос отличает экзистенциальную психотерапию от других динамических подходов. Она базируется на радикально ином представлении о том, каковы конкретные силы, мотивы и страхи, взаимодействующие в индивидууме.
Установление характера глубинных индивидуальных внутренних конфликтов не бывает легкой задачей. Клиницисту редко доводится наблюдать исходную форму первичных конфликтов у своих страдающих пациентов. Пациент предъявляет невероятно сложную картину симптомов, в то время как первичные проблемы глубоко погребены под многослойной коркой, созданной вытеснением, отрицанием, смещением и символизацией. Клинический исследователь вынужден довольствоваться пестрой картиной, сплетенной из многих нитей, которые нелегко распутать. Установление первичных конфликтов требует использования различных источников информации, глубокой рефлексии, сновидений, ночных кошмаров, вспышек глубинного переживания и инсайта, психотических высказываний и исследования детей. Постепенно я охарактеризую все эти подходы, однако обобщенную схематическую картину имеет смысл дать уже сейчас. Краткий обзор трех резко различающихся подходов к прототипическому индивидуальному внутреннему конфликту – фрейдистского, неофрейдистского и экзистенциального – послужит контрастным фоном для освещения экзистенциальной точки зрения на психодинамику.
Фрейдистская психодинамика
Согласно Фрейду, ребенком владеют инстинктивные силы, которые являются врожденными и в ходе психосексуального развития постепенно пробуждаются, подобно тому, как развертывается лист папоротника. Конфликт происходит на нескольких фронтах: это столкновение между собой противоположных инстинктов (эго‑инстинктов с либидинозными или, согласно второй теории, Эроса с Танатосом); инстинктов – с требованиями среды, а позднее – с требованиями интернализованной среды, то есть Супер‑Эго: наконец, это необходимость достижения ребенком компромисса между потребностью немедленного удовлетворения и принципом реальности, требующим отсрочки удовлетворения. Таким образом, движимый инстинктами индивид противостоит миру, не допускающему удовлетворения его агрессивных и сексуальных аппетитов.
Неофрейдистская (межличностная) психодинамика
Неофрейдисты. прежде всего Гарри Стак Салливан, Карен Хорни и Эрих Фромм, имеют иную точку зрения на фундаментальный индивидуальный конфликт. Для них ребенок не является инстинктивным и запрограммированным созданием", если не считать врожденных нейтральных характеристик, таких как темперамент и уровни активности, он полностью формируется культуральными и межличностными факторами. Базовая потребность ребенка – это потребность в безопасности, то есть в принятии и одобрении со стороны других людей; соответственно, структура его характера определяется качеством взаимодействия со значимыми взрослыми, от которых зависит его безопасность. Он не управляется инстинктами, однако от рождения наделен огромной энергией, любознательностью, невинной свободой тела, неотъемлемым потенциалом роста и желанием безраздельного обладания любимыми взрослыми. Проявление этих свойств не всегда согласуется с требованиями находящихся рядом значимых взрослых: противоречие между естественными тенденциями роста и потребностью в безопасности и одобрении составляет коренной конфликт ребенка. Если ему достались родители, которые вследствие поглощенности собственной невротической борьбой не могут ни обеспечивать безопасность, ни поощрять автономный рост, у него разовьется тяжелый психический конфликт. Причем компромисс между ростом и безопасностью неизменно будет достигаться за счет роста.
Экзистенциальная психодинамика
Экзистенциальный подход акцентирует базисный конфликт другого рода – не между подавленными инстинктивными устремлениями и не с интернализованными значимыми взрослыми.
Это конфликт, обусловленный конфронтацией индивидуума с данностями существования. Под «данностями существования» я подразумеваю определенные конечные факторы, являющиеся неотъемлемой, неизбежной составляющей бытия человека в мире.
Как открывает человек для себя содержание этих данностей? В определенном смысле, это нетрудно. Метод глубокая личностная рефлексия. Условия просты: одиночество, молчание, время и свобода от повседневных отвлечений, которыми каждый из нас заполняет мир своего опыта. Когда мы «заключаем в скобки» повседневный мир, то есть отстраняемся от него; когда глубоко размышляем о своей ситуации в мире, о своем бытии, границах и возможностях; когда касаемся почвы, принадлежащим всем остальным почвам, – мы неизбежно встречаемся с данностями существования, с «глубинными структурами», которые я ниже всюду буду именовать «конечные данности». Катализатором процесса рефлексии часто служит экстремальный опыт. Он связан с так называемыми «пограничными» ситуациями – такими, например, как угроза личной смерти, принятие важного необратимого решения или крах базовой смыслообразующей системы.
В этой книге обсуждаются четыре конечные данности: смерть, свобода, изоляция и бессмысленность. Экзистенциальный динамический конфликт порождается конфронтацией индивидуума с любым из этих жизненных фактов.
Смерть. Наиболее очевидная, наиболее легко осознаваемая конечная данность – смерть. Сейчас мы существуем, но наступит день, когда мы перестанем существовать. Смерть придет, и от нее никуда не деться. Это ужасающая правда, которая наполняет нас «смертельным» страхом. Говоря словами Спинозы, «все сущее стремится продолжать свое существование»; противостояние между сознанием неизбежности смерти и желанием продолжать жить – это центральный экзистенциальный конфликт.
Свобода. Другая конечная данность, значительно менее очевидная, это свобода.
Обычно свобода представляется однозначно позитивным явлением. Не жаждет ли человек свободы и не стремится ли к ней на протяжении всей письменной истории человечества? Однако свобода как первичный принцип порождает ужас. В экзистенциальном смысле «свобода» – это отсутствие внешней структуры. Повседневная жизнь питает утешительную иллюзию, что мы приходим в хорошо организованную вселенную, устроенную по определенному плану (и такую же покидаем). На самом же деле индивид несет полную ответственность за свой мир – иначе говоря, сам является его творцом. С этой точки зрения «свобода» подразумевает ужасающую вещь: мы не опираемся ни на какую почву, под нами – ничто, пустота, бездна. Открытие этой пустоты вступает в конфликт с нашей потребностью в почве и структуре. Это также ключевая экзистенциальная динамика.
Экзистенциальная изоляция. Третья конечная данность – изоляция. Это не изолированность от людей с порождаемым ею одиночеством и не внутренняя изоляция (от частей собственной личности). Это фундаментальная изоляция – и от других созданий, и от мира, – скрывающаяся за всяким чувством изоляции. Сколь бы ни были мы близки к кому‑то, между нами всегда остается последняя непреодолимая пропасть; каждый из нас в одиночестве приходит в мир и в одиночестве должен его покидать. Порождаемый экзистенциальный конфликт является конфликтом между сознаваемой абсолютной изоляцией и потребностью в контакте, в защите, в принадлежности к большему целому.
Бессмысленность. Четвертая конечная данность существования – бессмысленность. Мы должны умереть; мы сами структурируем свою вселенную; каждый из нас фундаментально одинок в равнодушном мире; какой же тогда смысл в нашем существовании? Почему мы живем? Как нам жить? Если ничто изначально не предначертано значит, каждый из нас должен сам творить свой жизненный замысел Но может ли это собственное творение быть достаточно прочным, чтобы выдержать нашу жизнь? Этот экзистенциальный динамический конфликт порожден дилеммой, стоящей перед ищущей смысла тварью, брошенной в бессмысленный мир.
Экзистенциальная психодинамика: общие характеристики
Таким образом, понятие «экзистенциальной психодинамики» относится к названным четырем данностям – четырем конечным факторам, а также к порожденным каждой из них осознаваемым и неосознаваемым страхам и мотивам. Динамический экзистенциальный подход сохраняет описанную Фрейдом базисную динамическую структуру, но радикально изменяет содержание. Прежняя формула:
ВЛЕЧЕНИЕ» ТРЕВОГА» ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ*
заменена следующей:
СОЗНАВАНИЕ КОНЕЧНОЙ ДАННОСТИ» ТРЕВОГА» ЗАЩИТНЫЙ МЕХАНИЗМ**
Обе формулы выражают представление о тревоге как движущей силе развития психопатологии; о том, что задача взаимодействия с тревогой порождает психическую активность, как сознательную, так и бессознательную; что эта активность (защитные механизмы) составляет психопатологию; наконец, что, обеспечивая безопасность, она неизменно ограничивает рост и возможности опыта.
Фундаментальное различие между этими двумя динамическими подходами состоит в том, что формула Фрейда начинается с «импульса», в то время как экзистенциальная формула – с сознавания и страха. Как понимал Отто Ранк, эффективность психотерапевта значительно возрастает, когда он или она видит в человеке прежде всего существо страдающее и полное страха, а не движимое инстинктами.
Эти четыре конечных фактора – смерть, свобода, изоляция и бессмысленность определяют основное содержание экзистенциальной психодинамики. Они играют чрезвычайно важную роль на всех уровнях индивидуальной психической организации и имеют самое непосредственное отношение к работе клинициста. Они также служат организующим началом. В каждом из четырех разделов этой книги рассматривается одна из конечных данностей и исследуются ее философские, психопатологические и терапевтические аспекты.
Экзистенциальная психодинамика: вопрос глубины
Другое глобальное отличие экзистенциальной динамики от фрейдистской и неофрейдистской связано с понятием «глубины». Для Фрейда исследование – это всегда раскопки. С аккуратностью и терпением археолога он соскабливал слой за слоем психический материал, пока не достигал скальной породы фундаментальных конфликтов. являющихся психологическим осадком самых ранних событий жизни индивида. Самый глубокий конфликт – это самый ранний конфликт. Таким образом, психодинамика по Фрейду обусловлена развитием, «фундаментальное», «первичное» следует понимать хронологически: и то, и другое синонимично «первому». Соответственно, например, «фундаментальными» источниками тревоги считаются самые ранние психологические опасности – сепарация и кастрация.
Экзистенциальная динамика не порождается развитием. На самом деле ничто не вынуждает нас рассматривать «фундаментальное» (то есть важное, базовое) и «первое» (то есть хронологически первое) как тождественные понятия. С экзистенциальной точки зрения, глубоко исследовать не значит исследовать прошлое; это значит отодвинуть повседневные заботы и глубоко размышлять о своей экзистенциальной ситуации. Это значит размышлять о том, что вне времени – об отношениях своего сознания и пространства вокруг, своих ног и почвы под ними. Это значит размышлять не о том, каким образом мы стали такими, каковы мы есть, а о том, что мы есть. Прошлое, точнее, память о прошлом, важно постольку, поскольку является частью нашего теперешнего существования, повлиявшей на наше текущее отношение к конечным данностям жизни; но – я буду подробнее говорить об этом ниже – это не самая перспективная область терапевтического исследования. В экзистенциальной терапии главное время – «будущее‑становящееся‑настоящим».
Это отличие экзистенциальной динамики не означает невозможность исследования экзистенциальных факторов с точки зрения развития (в главе 3 этой книги глубоко обсуждается развитие концепции смерти у детей): но оно означает, что когда кто‑либо спрашивает: «В чем состоят первопричины моего ужаса, заложенные в глубочайших пластах моего существа и действующие в настоящий момент?» – ответ с точки зрения развития не вполне уместен. Самые ранние впечатления индивида, при всей их важности, не дают ответа на этот фундаментальный вопрос. Собственно говоря, следы первых событий жизни порождают явления биологического застоя, которые могут затуманивать ответ, являющийся трансперсональным и всегда находящийся за пределами жизненной истории индивидуума. Он приложим к любому человеку, поскольку в нем идет речь о «ситуации» человеческого существа в мире.
Различие между динамической, аналитической, апеллирующей к развитию моделью, с одной стороны, и неопосредованной, внеисторичной, экзистенциальной – с другой – имеет не только теоретический интерес: как будет обсуждаться в дальнейших главах, оно имеет очень важное значение для терапевтической техники.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ: НЕЧТО ЧУЖОЕ, НО СТРАННО ЗНАКОМОЕ
Значительная часть моего материала, касающегося конечных данностей существования, для клинициста будет непривычна, но в то же время покажется странно знакомой. Непривычна, потому что экзистенциальный подход нарушает общепринятые классификации и организует клинические наблюдения по‑новому. Более того, его словарь во многом отличен. Даже при том, что я избегаю профессионального философского жаргона и описываю экзистенциальные концепции словами в их обычных значениях, мой язык остается психологически чужд клиницисту. Едва ли можно найти психотерапевтический словарь, содержащий такие понятия, как «выбор», «ответственность», «свобода», «экзистенциальная изоляция», «смертность», «жизненная цель», «волнение». Компьютеры медицинской библиотеки буквально подняли меня на смех, когда я запросил литературу на эти темы.
Тем не менее, многое здесь клиницисту будет знакомо. Я уверен, что опытный терапевт часто неявным, в том числе и для себя самого, образом работает в экзистенциальной модели: он «кожей» чувствует коренную проблему пациента и соответственно реагирует. Это и есть критические «вбрасывания», на которые я ссылался выше. Существенная задача данной книги – сместить фокус сознательного внимания терапевта, тщательно исследовав эти витальные проблемы и связанные с ними терапевтические взаимодействия, происходящие обычно на периферии формальной терапии – и тем самым позволив им занять подобающее место в центре терапевтической арены.
Ощущение чего‑то знакомого будет связано еще и с тем, что главные экзистенциальные данности осознаются и обсуждаются, начиная с самых истоков письменной культуры; их примат никогда не переставал подтверждаться философами, теологами и поэтами. Наша гордость модернизмом, наше чувство вечной спирали прогресса могут быть оскорблены этим фактом. Однако иной взгляд на ситуацию подсказывает: есть некое успокоение в том, что мы, оказывается, движемся по исхоженному пути, история которого теряется в прошлом, по пути, некогда проложенному самыми мудрыми и пытливыми из когда‑либо живших людей.
Наконец, терапевт, будучи таким же человеком из плоти и крови, как всякий другой, на собственном опыте знаком с экзистенциальными источниками страха, которые отнюдь не являются исключительной прерогативой психологически нарушенных индивидов. Я не устану повторять, что экзистенциальные данности являются частью человеческой ситуации. Но тогда возникает естественный вопрос: может ли теория психопатологии* опираться на механизмы, общие для всех людей? Ответ, разумеется, состоит в том, что каждый человек воспринимает стресс человеческой ситуации в высшей степени индивидуально. В этом смысле экзистенциальная модель мало отличается от других крупных конкурентных ей теорий. Индивид проходит определенные стадии развития, каждой из которых сопутствует своя специфическая тревога. Каждый проходит через эдипов конфликт, переживает смятение от появляющихся агрессивных и сексуальных чувств, кастрационную тревогу (во всяком случае, каждый мужчина), боль индивидуации и сепарации и многие другие серьезные испытания развития. Единственная модель психопатологии, не основанная на всеми переживаемых состояниях, – это модель острой травмы. Однако травматические неврозы встречаются редко. В подавляющем большинстве пациенты страдают от стресса, в разной степени присутствующего в опыте каждого человека.
*Под психопатологией здесь, как и всюду в книге, я подразумеваю психологически обусловленные расстройства, в отличие от «больших» психозов, обусловленных в первую очередь биохимически.
Собственно говоря, лишь универсальностью человеческого страдания можно объяснить тот широко признаваемый факт, что пациенты встречаются везде и всюду. Так, Андре Мальро однажды спросил приходского священника, в течение пятидесяти лет принимавшего исповедь, что же тот узнал о человеческом роде. И получил ответ. «Во‑первых, что люди куда более несчастны, чем кажется… и еще одну фундаментальную вещь – что взрослых людей на свете не существует». Зачастую один человек становится пациентом, а другой – нет лишь вследствие внешних обстоятельств: финансовых возможностей, доступности психотерапевтов, личностных и культуральных установок по отношению к терапии, выбранной профессии (большинство психотерапевтов становятся добросовестными пациентами). Универсальность стресса – одна из главных причин того, что ученым так трудно определить и описать норму, различие между нормой и патологией количественно, а не качественно.
Наблюдаемые факты, вероятно, лучше всего укладываются в современную концепцию, аналогичную медицинской модели, согласно которой инфекционная болезнь – не просто результат вторжения бактериального или вирусного агента в незащищенный организм, а продукт дисбаланса между действием болезнетворного агента и сопротивляемостью организма. Иными словами, патогенные факторы присутствуют в организме всегда, точно так же, как стресс всегда присутствует в жизни каждого индивида. Возникнет ли болезнь, зависит от индивидуальной сопротивляемости агенту (то есть от таких факторов, как иммунная система, питание и степень утомления): когда она понижается, то болезнь может развиться, пусть даже токсичность и плодовитость болезнетворного агента не изменились. Аналогично, все люди находятся в трудном положении, но некоторые неспособны с ним справиться, психопатология зависит не просто от присутствия или отсутствия стресса, а от соотношения вездесущего стресса с индивидуальными защитными механизмами.
Утверждение, что в терапии темы конечных экзистенциальных данностей никогда не затрагиваются пациентами, целиком и полностью обусловлено селективным невниманием терапевта. Слушатель, настроенный на соответствующий информационный канал, обнаруживает явное и интенсивное присутствие этих тем. Терапевт может предпочесть не уделять внимание конечным экзистенциальным данностям именно вследствие того, что они универсальны и потому якобы ничего полезного их исследование не даст. Я действительно часто замечал, что когда в ходе клинической работы начинают обсуждаться экзистенциальные вопросы, и пациент, и терапевт короткое время испытывают мощный подъем, но вскоре беседа становится бессвязной, и оба, кажется, неявно говорят друг другу: «Такова жизнь, и что тут поделаешь! Давайте перейдем к чему‑нибудь невротическому, что мы можем изменить!»
Другие терапевты отказываются иметь дело с экзистенциальными данностями не только из‑за их универсальности, но и потому, что встреча с ними слишком страшна. В конце концов, невротическим пациентам (в том числе и терапевтам) есть от чего расстраиваться и без размышлений о таких «ободряющих» вещах, как смерть и бессмысленность. Такие терапевты уверены, что экзистенциальные вопросы лучше всего игнорировать, поскольку на беспощадные экзистенциальные факты можно реагировать лишь двумя способами – признанием тревожной истины или отрицанием – и оба они неприятны. Сервантес выразил эту проблему словами своего бессмертного Дон Кихота. «Так что тебе больше понравилось бы – мудрое умопомешательство или глупое здравомыслие?»
Как я попытаюсь показать в последующих главах, в экзистенциальной терапевтической позиции эта дилемма отвергается. Мудрость не ведет к безумию, как и отрицание к здравомыслию, конфронтация с данностями существования болезненна, но, в конечном счете, целительна. Хорошая терапевтическая работа всегда соединяется с проверкой реальности и поиском индивидуального просветления; терапевт, решивший, что определенных аспектов реальности и истины следует избегать, оказывается на нетвердой почве. Замечание Томаса Гарди «Если это путь к Лучшему, то нам не уйти от того, чтобы как следует разглядеть Худшее» – хорошая формулировка в русле терапевтического подхода, который я собираюсь описать.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОТЕРАПИЯ: ПОЛЕ ОТНОШЕНИЙ
Экзистенциальная психотерапия, подобно бездомному бродяге, ничему не принадлежит. У нее нет ни законного места жительства, ни формального образования, ни собственной организации. Академические соседи не признают ее за свою. Она не породила ни официальное сообщество, ни стабильный журнал (немногочисленные хилые чада скончались во младенчестве), не имеет ни стабильной семьи, ни определенного главы семейства. Однако у нее есть генеалогия, несколько разбросанных по свету кузин и кузенов, а также друзья семьи – кое‑кто в Европе и кое‑кто в Америке.
Экзистенциальная философия: родовой очаг
«Экзистенциализму нелегко дать определение», – так начинается статья об экзистенциальной философии в одной из крупнейших современных философских энциклопедий". Подобным образом начинаются и многие другие справочные тексты; в них подчеркивается тот факт, что два философа, получившие ярлык «экзистенциальных», могут расходиться в своих воззрениях абсолютно по всем кардинальным пунктам (кроме негативной реакции на получение данного ярлыка). В большинстве философских работ эта проблема разрешается путем перечисления экзистенциальных тем (например, бытие, свобода, выбор, смерть, изоляция, абсурдность) и определения экзистенциального философа как того, чья работа посвящена их исследованию. (Конечно же, именно эту стратегию я использую для установления связей в экзистенциальной психотерапии.)
В философии существуют экзистенциальная «традиция» и формальная экзистенциальная «школа». Нет сомнения, что экзистенциальная традиция вечна. Какой выдающийся мыслитель на определенном этапе своей работы и своего жизненного пути не обращался к вопросам жизни и смерти? Однако формальная школа экзистенциальной философии имеет совершенно четкое начало. Некоторые считают отправной точкой воскресный полдень 1834 года, когда молодой датчанин сидел в кафе, курил сигару и размышлял над тем, что ему грозит опасность состариться, не оставив следа в этом мире. Он думал о многих своих успешных друзьях:
«Благодетели века те, которые знают, как осчастливить человечество, делая жизнь все легче и легче: кто‑то с помощью железных дорог, кто‑то – омнибусов и пароходов, кто‑то – телеграфа, другие составлением удобопонятных компендиумов и кратких изложений всего, что стоит знать; и, наконец, подлинные благодетели века, которые с помощью мысли систематически все более облегчают духовное существование».
Сигара догорела. Молодой датчанин, Серен Кьеркегор, зажег другую и продолжал размышлять. Внезапно в его сознании вспыхнула мысль:
«Ты должен что‑то сделать, но поскольку твои ограниченные способности не позволят тебе облегчить что‑либо еще более, чем оно есть, то ты должен, с тем же гуманитарным энтузиазмом, как у других, приняться за то, чтобы что‑либо затруднить».
Он подумал: когда люди дружно стремятся все на свете облегчить, возникает опасность, что станет слишком легко. Возможно, нужен кто‑то, кто вновь затруднит жизнь. Он решил, что открыл свое предназначение. Подобно новому Сократу, он должен отправиться на поиски трудностей. Каких именно? Найти было нетрудно. Достаточно было поразмыслить о ситуации собственного существования, собственном смертельном страхе, стоящих перед собой выборах, своих возможностях и ограничениях.
Остаток своей короткой жизни Кьеркегор посвятил исследованию своей экзистенциальной ситуации и в 40‑е годы опубликовал несколько значительных экзистенциальных монографий. В течение многих лет его работы оставались непереведенными; их влияние было невелико вплоть до первой мировой войны, когда они нашли благоприятную среду и были подхвачены Мартином Хайдеггером и Карлом Ясперсом.
Отношения между экзистенциальной терапией и экзистенциальной школой философии во многом сходно со связью между клинической фармакотерапией и биохимическими лабораторными исследованиями. Я часто буду опираться на философские работы для прояснения, подтверждения, иллюстрации тех или иных клинических вопросов. Но в мои намерения не входит (а также не соответствует моей научной специализации) задача всестороннего обсуждения работ какого‑либо философа или основных принципов экзистенциальной философии. Эта книга для клиницистов, и я рассчитываю, что она будет полезна в их работе. Мои экскурсы в философию будут краткими и прагматичными; я ограничу себя областями, дающими подспорье в клинической работе. И мне нечего будет возразить профессиональному философу, если он уподобит меня мародерствующему викингу, который забрал драгоценные камни, но пренебрег их изысканными, совершенной работы оправами.
Поскольку в образовании огромного большинства психотерапевтов философия занимает незначительное место, я не рассчитываю на философскую подготовку моих читателей. Там, где я опираюсь на философские тексты, я пытаюсь использовать простой, свободный от специального жаргона язык, что сделать весьма нелегко, поскольку профессиональные экзистенциальные философы по неясности и усложненности своей манеры выражения превосходят даже психоаналитиков‑теоретиков. Исключительный, важнейший в данной области философский текст – «Бытие и время» Хайдеггера остается непревзойдённым примером словесного тумана.
Я никогда не понимал, зачем нужен неудобопонятный, глубокомысленный язык. Сами по себе конечные экзистенциальные данности не сложны: они нуждаются в раскрытии, но отнюдь не в расшифровке и тщательном анализе. Каждый человек на определенном этапе жизни погружается в мрачные раздумья и вступает в некоторый контакт с конечными данностями жизни. Потому требуется отнюдь не формальная экспликация. Задача, как философа, так и терапевта, – снятие подавления, ознакомление индивида с тем, что тот на самом деле всегда знал. Именно поэтому многие ведущие экзистенциальные мыслители (например, Жан‑Поль Сартр, Альбер Камю, Мигель де Унамуно, Мартин Бубер) философской аргументации предпочитают литературную форму. Философ и терапевт, прежде всего, должны побуждать индивида посмотреть внутрь себя, уделить внимание своей экзистенциальной ситуации.
Экзистенциальные аналитики: «кузены из Старого Света»
У ряда европейских психиатров возникли сомнения по поводу многих базовых принципов психоаналитического подхода Фрейда. Они возражали против его модели функционирования психики и против его попыток объяснить человеческое существо заимствованной из естественных наук энергетической схемой, утверждая, что такой путь ведет к неадекватному представлению о человеке. Они говорили: если ко всем людям приложен один шаблон, то игнорируется уникальный опыт индивидуальной личности. Они выступали против редукционизма Фрейда (то есть против сведения всего человеческого поведения к нескольким базовым инстинктам), против его материализма (объяснения высшего через низшее) и детерминизма (веры в то, что вся будущая психическая деятельность порождается уже существующими и доступными выявлению причинами).
Различные экзистенциальные аналитики сходятся во мнениях по одному фундаментальному процедурному вопросу: подход аналитика к пациенту должен быть феноменологическим, то есть он должен входить в мир переживаний пациента и воспринимать феномены этого мира без предубеждений, искажающих понимание. Как сказал один из наиболее известных экзистенциальных аналитиков Людвиг Бинсвангер, «нет единственного пространства и единственного времени, а есть столько времен и пространств, сколько существует субъектов».
Однако, если не считать реакции на механистическую, детерминистскую модель Фрейда и принятия феноменологического подхода в терапии, экзистенциальные аналитики имеют мало общего между собой, и они никогда не воспринимались как представители единой идеологической школы. Эти мыслители – к ним относятся Людвиг Бинсвангер, Мелард Босс, Евгений Минковский, В.Е.Гебзаттель, Ролан Кун, Г.Бэлли и Виктор Франкл – были почти неизвестны американскому психотерапевтическому сообществу, пока Ролло Мэй не познакомил с их творчеством в своей имевшей большой резонанс книге «Existence» (1958), – и прежде всего во вводном эссе.
Однако поразительно, что и сегодня, спустя более чем двадцать лет после выхода в свет книги Мэя, эти фигуры не оказывают большого влияния на психотерапевтическую практику в Америке. Они остались чем‑то вроде неизвестных лиц на выцветших дагерротипах в семейном альбоме. Забвение отчасти обусловлено языковым барьером: эти философы, кроме Бинсвангера, Босса и Франкла, мало переводились. Но главная причина состоит в малопонятности их сочинений, проникнутых европейским философским Weltanschauung*, чуждым американской прагматической традиции в терапии.
* Мировоззрение (нем.).
Таким образом, экзистенциальные аналитики из старушки Европы остаются разбросанными и, по большей части, потерянными кузенами экзистенциального терапевтического подхода, который я намереваюсь описать. Я не слишком опираюсь здесь на них, за исключением Виктора Франкла, чрезвычайно прагматического мыслителя, чьи работы много переводились.
Гуманистические психологи: блестящие американские кузены
Европейское экзистенциальное аналитическое направление порождено, с одной стороны, желанием приложить философские концепции к клиническому исследованию личности, с другой реакцией на фрейдовскую модель человека. В Соединенных Штатах аналогичное движение проявило первые признаки жизни в конце 50‑х, вышло на поверхность социальной жизни и консолидировалось в 60‑е, дико расползлось во всех направлениях одновременно в 70‑е.
В академической психологии к 50‑м годам уже долгое время доминировали две идеологические школы. Первая – и значительно более влиятельная – научный позитивистский бихевиоризм; вторая – фрейдовский психоанализ. Скромный голос, услышанный впервые в конце 30‑х и в 40‑е, принадлежал пато– и социальным психологам, уютно сосуществовавшим в бастионах экспериментальной психологии. Личностных теоретиков (например, Гордона Олпорта, Генри Мюррея и Гарднера Мерфи, а позднее Джорджа Келли, Абрахама Маслоу, Карла Роджерса и Ролло Мэя) постепенно начали тяготить рамки как бихевиоральной, так и аналитической школ. Они полагали, что оба этих идеологических подхода к человеку исключают из рассмотрения некоторые важнейшие свойства, которые, собственно, и делают человека человеком, – такие, как выбор, ценности, любовь, креативность, самосознавание, человеческий потенциал. В 1950 году они формально учредили новую идеологическую школу, которую назвали «гуманистическая психология». Иногда именуемая «третьей силой» в психологии (после бихевиоризма и аналитической психологии Фрейда), школа гуманистической психологии стала устойчивой организацией со все возрастающим числом членов и ежегодным съездом, посещаемым тысячами профессионалов сферы психического здоровья. В 1961 г. Американская ассоциация гуманистической психологии основала «Журнал гуманистической психологии», в редколлегию которого вошли такие крупные личности, как Карл Роджерс, Ролло Мэй, Льюис Мамфорд, Курт Голдстейн, Шарлотта Бюлер, Абрахам Маслоу, Олдос Хаксли и Джеймс Бьюдженталь.
Окрепшая организация сделала первые попытки самоопределения. В 1962 году во всеуслышание было сказано:
"Гуманистическая психология посвящена главным образом тем человеческим возможностям и потенциям, которым отводится мало или вовсе не отводится места как в позитивистской бихевиоральной, так и в классической психоаналитической теориях. Это, например, любовь, креативность, "я", рост, целостный психический организм, удовлетворение базовых потребностей, самоактуализация, высшие ценности, бытие, становление, спонтанность, игра, юмор, привязанность, подлинность, тепло, трансцендирование Эго, объективность, автономия, ответственность, смысл, честность, опыт трансцендирования, психологическое здоровье, а также связанные с этими концепции".
В 1963 г. президент ассоциации, Джеймс Бьюдженталь, выдвинул пять основополагающих постулатов:
Человек как. целостное существо превосходит сумму своих составляющих (иначе говоря, человек не может быть объяснен в результате научного изучения его частичных функций).
Человеческое бытие развертывается в контексте человеческих отношений (иначе говоря, человек не может быть объяснен своими частичными функциями, в которых не принимается в расчет межличностный опыт).
Человек сознает себя (и не может быть понят психологией, не учитывающей его непрерывное, многоуровневое самосознавание).
Человек имеет выбор (человек не является пассивным наблюдателем процесса своего существования: он творит свой собственный опыт).
Человек интенциален* (человек обращен в будущее; в его жизни есть цель, ценности и смысл).
* Следует отличать употребление здесь этого понятия от его использования в качестве философского термина, когда оно обозначает тот феномен, что сознание всегда направлено на некоторый объект, то есть оно всегда есть сознание чего‑то.
В этих ранних манифестах многое – антидетерминизм, подчеркивание свободы, выбора, цели, ценностей, ответственности, внимание к уникальному миру индивидуального опыта – имеет огромную важность для экзистенциального подхода, представленного мной здесь. Но американская гуманистическая психология ни в коей мере не тождественна европейской экзистенциальной традиции: они фундаментально различаются между собой расстановкой акцентов. Экзистенциальная традиция в Европе всегда подчеркивала человеческие ограничения и трагическую сторону существования. Возможно, причина состоит в том, что европейцы больше испытали географическую и этническую замкнутость, с сопутствующими войной, смертью и жизненной неопределенностью. Соединенным Штатам (и возникшей там гуманистической психологии) свойствен Zeitgeist* экспансии, оптимизма, бесконечных дистанций и прагматизма. В соответствии с этим привнесенная экзистенциальная мысль претерпела изменения. Каждый из фундаментальных принципов получил явственный отпечаток Нового Света. Европа сосредоточена на ограничениях, на конфронтации с тревогой неопределенности и небытия и на ее принятии. Гуманистические психологи больше говорят о развитии потенциала, чем об ограничениях и игре случая; больше о сознавании, чем о принятии; больше о пиковых переживаниях и глубинном единстве, чем о тревоге; больше о самореализации, чем о смысле жизни; больше о Я‑Ты отношениях и встрече, нежели об отчужденности и базовой изоляции.
* Дух времени (нем.)
В 60‑е годы гуманистическое психологическое движение было поглощено контркультурой с такими сопутствовавшими ей социальными феноменами, как движение за свободу слова,* движение хиппи, наркокультура, движение в защиту человеческого потенциала, сексуальная революция. Вскоре съезды ассоциации стали походить на карнавалы. В большом шатре гуманистической психологии приют находил каждый, и вскоре там образовался хаос различных школ и течений, которые даже на экзистенциальном эсперанто едва могли объясняться между собой. Гештальттерапия, трансперсональная терапия, группы встреч, холистическая медицина, психосинтез, суфизм и многое, многое другое – все это оказалось под одной крышей. Новые направления несут с собой ценностные ориентации, не остающиеся без последствий для психотерапии. Это усиливающиеся влияния гедонизма («если тебе это нравится, делай это»), антиинтеллектуализма (согласно которому любой когнитивный подход представляет собой «промывание мозгов»), установок на реализацию индивидуальности («делай свое», «пиковые переживания») и на самоактуализацию (в человеческое совершенство верят большинство гуманистических психологов – правда, за таким крупным исключением, как Ролло Мэй, глубже других укорененный в экзистенциальной философской традиции).
* Движение за свободу публичных высказывании в любой форме. – Прим. переводчика
Все эти новые присоединявшиеся течения, в особенности антиинтеллектуалистические, вскоре привели к разрыву между гуманистической психологией и академическим сообществом. Те из гуманистических психологов, кто имел признанный академический статус, из‑за сомнительного окружения стали чувствовать себя дискомфортно и постепенно отошли в сторону. Фриц Перлз, далекий от культа дисциплины, выражал большую озабоченность движениями под лозунгами «мгновенного сенсорного сознавания», «подключки»*, «все средства хороши»**. В итоге три человека, обеспечившие гуманистической психологии ее первоначальное интеллектуальное превосходство, – Мэй, Роджерс и Маслоу, отношение которых к этим иррациональным тенденциям было глубоко противоречиво, постепенно ослабили свою активную поддержку.
* «Подключиться» – «turn on» – значило включить свое внутреннее "я" посредством, например, стимуляции ЛСД. – Прим. переводчика
** Для достижения экстаза – Прим. переводчика
Таким образом, отношения экзистенциальной психотерапии с гуманистической психологией весьма неоднозначны. Однако многие ключевые идеи у них общие, и ряд гуманистических психологов придерживается экзистенциальных взглядов. Принадлежащие к их ЧИСЛУ Маслоу, Перлз, Бьюдженталь, Бюлер и особенно Ролло Мэй будут часто цитироваться на этих страницах.
Гуманистические психоаналитики: «друзья семьи»
Неохваченной осталась группа «родственников», которых я буду называть «гуманистические психоаналитики» и которые рано отделились от вышеописанных генеалогических ветвей. Никогда не рассматривавшие себя как членов одного клана, они, тем не менее, очень близки друг другу в своей работе. Основные глашатаи этой группы – Отто Ранк, Карен Хорни, Эрих Фромм и Гельмут Кайзер получили образование в рамках европейской фрейдистской психоаналитической традиции, но впоследствии эмигрировали в Америку и все, за исключением Ранка, главный свой вклад внесли, уже принадлежа к американскому интеллектуальному сообществу. Каждый из них имел возражения против основанной на инстинктах фрейдовской модели человеческого поведения и каждый предлагал значительные коррективы. Их работы охватывали широкий спектр областей, и у каждого в этот спектр входил тот или иной аспект экзистенциальной терапии. Ранк, чье наследие блестяще разработано современным интерпретатором Эрнестом Бекером, подчеркивал значение воли и тревоги, связанной со смертью; Хорни – критическое влияние представлении о будущем на поведение (индивида в большей степени мотивируют устремления, идеалы и цели, чем формируют и обусловливают прошлые события); Фромм уверенно прояснил роль и страх свободы в поведении; Кайзер писал об ответственности и изоляции.
На генеалогическом древе экзистенциальной терапии, кроме этих массивных ветвей – философов, гуманистических психологов и гуманистически ориентированных психоаналитиков, – имеется еще одно важное ответвление: великие писатели, которые не менее полно исследовали и раскрыли экзистенциальную проблематику, чем их вышеперечисленные собратья. В этой книге часто будут звучать голоса Достоевского, Толстого, Камю, Кафки, Сартра и многих других выдающихся наставников человечества. Как заметил Фрейд в своем обсуждении «Царя Эдипа», великие произведения литературы продолжают жить рядом с нами, так как что‑то в нас раскрывается навстречу их правде. Мы не остаемся равнодушными к правде вымышленных характеров, поскольку это наша собственная правда. Более того, великие художественные произведения рассказывают нам о нас самих, ибо они сногсшибательно честны, не менее честны, чем любые клинические данные: большой романист, при том, что его личность расщеплена на множество персонажей, в конечном счете сообщает о себе очень многое. Торнтон Уайлдер однажды написал: «Если бы королева Елизавета, или Фридрих Великий, или Эрнест Хемингуэй прочли свои биографии, они бы с облегчением воскликнули: 'О, моя тайна пока не раскрыта!' Но если бы Наташа Ростова прочитала „Войну и мир“, она бы вскричала, закрыв лицо руками: 'Как он узнал? Как он узнал?'»
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ И АКАДЕМИЧЕСКОЕ СООБЩЕСТВО
Выше я сравнил экзистенциальную терапию с бездомным сиротой, которого не принимают в «лучших домах» академических соседей. Отсутствие поддержки со стороны академической психиатрии и психологии имеет значительные последствия для состояния дел в экзистенциальной терапии, поскольку полностью подвластные академии институты контролируют все ресурсы, жизненно важные для развития клинических дисциплин: подготовку клиницистов и академических ученых, исследовательские фонды, лицензирование и журнальные публикации.
Имеет смысл слегка задуматься о том, почему экзистенциальный подход так дискриминирован академическим истэблишментом. Ответ заключается прежде всего в различии источников знания – то есть того, как мы узнаем то, что мы узнаем. Академическая психиатрия и психология, укорененные в позитивистской традиции, в качестве метода валидизации знаний высоко ценят эмпирическое исследование.
Какова типичная академическая карьера (я говорю исходя не только из наблюдений, но и из двадцати одного года собственного академического пути)? Молодого человека принимают на работу лектором или профессором‑ассистентом, поскольку он обнаруживает способность и склонность к эмпирическим исследованиям; впоследствии тщательно и методологически верно проведенные исследования дают ему поощрения и продвижение в карьере. Кардинальное решение о приеме в штат* принимается исходя из количества публикаций о выполненных эмпирических исследованиях в признанных научных журналах. Другие факторы – преподавательские навыки, написанные книги неэмпирического характера, главы в книгах, эссе имеют значительно меньший вес.
* В американских университетах прием в штат означает, что человека уже не могут уволить. Штатные должности начинаются с «адъюнкт‑профессора» – должности, следующей после должности профессора‑ассистента. – Прим. переводчика
Сделать академическую карьеру, занимаясь эмпирическим изучением экзистенциальных вопросов, невероятно трудно. Главные посылки экзистенциальной терапии таковы, что применение к ней методов эмпирического исследования невозможно или неадекватно. Например, согласно этим методам исследователь должен изучать сложный организм путем расчленения его на составные части, каждая из которых достаточно проста, чтобы быть доступной эмпирическому изучению. Однако это фундаментальное требование противоречит базовому экзистенциальному принципу. История, рассказанная Виктором Франклом, служит тому иллюстрацией.
Два соседа ожесточенно спорили между собой. Один заявил, что кот другого сожрал его масло и, соответственно, потребовал компенсации. Не будучи в состоянии разрешить конфликт, эти двое, прихватив с собой злосчастного кота, пришли к деревенскому мудрецу, чтобы тот их рассудил. Мудрец спросил обвинителя: «Сколько масла съел кот?» «Десять фунтов», – последовал ответ. Мудрец посадил кота весы. И оказалось, что он весит ровно десять фунтов! «Mirabile dictu!* – провозгласил арбитр. – Это масло. Но где же кот?»
* Странно сказать! (лат.)
Где же кот? Все части, собранные вместе, не воссоздают творение. Гуманистическое кредо гласит, что «человек больше, чем сумма своих частей». Сколь бы тщательно мы ни анализировали составные части психики, разделяя ее, например, на сознательное и бессознательное, на Супер‑Эго, Эго и Ид, – мы не постигнем саму жизненную единицу, личность с этим бессознательным (или Супер‑Эго, или Ид, или Эго). Более того, эмпирический анализ не помогает понять смысл той или иной психической структуры для обладающей ею личности. Изучение составных частей никогда не приводит к смыслу, поскольку он не является причинно обусловленным, а порожден личностью, превосходящей все свои компоненты.
Впрочем, экзистенциальный подход создает для эмпирического анализа проблему, еще более фундаментальную, чем «Где же кот?». Ролло Мэй коснулся ее, когда определил экзистенциализм как «стремление понять человека на уровне тех глубин, где уже нет раскола между субъектом и объектом, – раскола, который начал преследовать западное мышление и западную науку вскоре после Ренессанса». «Раскол между субъектом и объектом» – посмотрим на это поближе. Экзистенциальная позиция противостоит традиционному картезианскому взгляду, который видит мир полным объектов и воспринимающих их субъектов. Несомненно, главная предпосылка научного метода – наличие объектов с конечным набором свойств, постигаемых путем объективного исследования. Экзистенциальный взгляд смотрит «сквозь» субъект‑объектное расщепление и глубже него; он видит человека не как субъекта, который при определенных условиях может воспринимать внешнюю реальность, но как сознание, участвующее в построении реальности. Подчеркивая этот момент, Хайдеггер всегда говорил о человеке как о dasein, бытии. Da («здесь») указывает на то, что человек присутствует в мире, является организованным объектом («эмпирическое Эго»), но в то же время и организует мир как нечто запредельное ему («трансцендентальное эго»). Dasein – одновременно и творец значения, и означенное. Dasein неизменно конструирует собственный мир; поэтому использование одного стандартного подхода для изучения всех «бытий», как если бы они обитали в общем объективном мире, порождает принципиальную ошибку в наших наблюдениях.
Однако важно иметь в виду, что ограничения эмпирических исследований психотерапии дают знать о себе не только применительно к экзистенциальной терапевтической ориентации, в связи с которой они лишь становятся более явными. Постольку терапия – глубоко личностный человеческий опыт, эмпирическое исследование психотерапии в рамках любой идеологической школы неизбежно чревато ошибками и имеет весьма относительную ценность. Общеизвестно, что на протяжении всех тридцати лет своей истории исследования терапии мало влияли на терапевтическую практику. Как грустно заметил Карл Роджерс, основоположник эмпирического изучения психотерапии, на самом деле даже сами исследователи психотерапии не настолько серьезно относятся к результатам своих исследований, чтобы изменить собственный подход к психотерапевтической практике.
Общеизвестно также, что подавляющее большинство клиницистов прекращают заниматься эмпирическими исследованиями, как только заканчивают диссертацию или получают штатную должность. Если эмпирическое исследование – на самом деле поиск и нахождение истины, почему психологи и психиатры, едва выполнят требования академической карьеры, навсегда откладывают в сторону статистические таблицы? Я полагаю, что, достигая профессиональной зрелости, клиницист постепенно осознает внушительные проблемы, заключенные во всяком эмпирическом исследовании психотерапии.
Мой личный опыт может послужить иллюстрацией. Несколько лет назад мы с двумя коллегами выполняли большой исследовательский проект, посвященный процессу и эффекту инкаунтер‑групп. Результаты мы опубликовали в книге «Группы встреч: введение», тогда же провозглашенной образцом точной клинической работы и одновременно энергично раскритикованной многими гуманистическими психологами. Целый номер упоминавшегося выше «Журнала гуманистической психологии» был посвящен мощной атаке на наше сочинение. Оба моих коллеги написали здравые и убедительные ответы на критику, но я отказался это делать. В глубине души я сам испытывал сомнения относительно смысла наших исследований не по тем причинам, которые послужили поводом к публичной критике, а по другим. Я не мог поверить, что с помощью нашего высоко технического, компьютеризованно‑статистического подхода можно адекватно описать подлинные переживания участников групп. Особенно беспокоил меня один результат, методологически касавшийся самой сути нашей работы. Дело в том, что мы с помощью грандиозного психологического инструментария оценивали перемены, наступавшие в каждом из участников группы. Оценивание производилось с четырех позиций: 1) с точки зрения самого участника, 2) с точки зрения лидера группы, 3) с точки зрения других участников группы, 4) с точки зрения непосредственного социального окружения участника. Так вот, корреляции между этими четырьмя оценками изменения равнялись нулю! Иными словами, информация из различных источников о том, кто и насколько изменился, абсолютно не согласовывалась!
Ну конечно, для «обработки» этого результата существуют статистические методы. Однако остается фактом, что оценка результата в значительной мере относительна и зависит от источника информации. Это не проблема, специфичная только для данного проекта, – с ней сталкивается каждое исследование, посвященное анализу результатов психотерапии. Чем больше методов применяется для оценки исхода, тем меньше исследователь уверен в своих выводах!
Как справляются с этой проблемой? Один путь состоит в повышении надежности путем уменьшения количества вопросов и использования единственного источника информации. Другой распространенный метод – обходиться без «мягких», то есть субъективных, критериев и учитывать лишь объективные показатели, такие, например, как количество потребленного алкоголя, то, сколько раз в течение определенного периода времени один супруг перебивает другого, сколько раз человек «перекусил» за день, кожно‑гальваническая реакция, объем набухания пениса при просмотре слайдов с изображениями обнаженных молодых людей. Но как быть исследователю, который пытается оценивать такие важные факторы, как способность любить, способность заботиться о другом, жизненный энтузиазм, целенаправленность, великодушие, щедрость чувств, автономия, спонтанность, юмор, мужество, включенность в жизнь? Снова и снова мы встречаемся с закономерностью, неизменно проявляющейся при научном исследовании психотерапии: точность результатов тем выше, чем тривиальнее изучаемые параметры. Ну и наука!
Альтернативу составляет «феноменологический» метод, непосредственно ведущий к самим феноменам, к встрече с другим без посредства «стандартизованных» методов и предпосылок. Это тот путь, на котором достижимо понимание внутреннего мира другого индивида. По возможности, мы должны «взять в скобки» собственное мироощущение и погрузиться в опыт другого человека. Для психотерапии такой путь к пониманию другого в высшей степени естественен: каждый хороший терапевт стремится следовать ему в отношениях с пациентом. Именно его описывают такие понятия, как эмпатия, соприсутствие, активное слушание, безоценочное принятие – или, используя удачный оборот Ролло Мэя, позиция «дисциплинированной наивности». Экзистенциальные терапевты всегда настаивали на том, чтобы терапевт стремился понять личный мир пациента, вместо того чтобы установить, как именно последний отклоняется от «норм». Однако для исследователя, которому требуется высокий научный уровень его работы, феноменологический подход, по определению неэмпирический, сопряжен с гигантскими, не решенными на сегодняшний день проблемами.
Моя профессиональная подготовка вынудила меня, невзирая на все эти «но», провести обзор имеющихся научных работ по каждой из четырех конечных данностей – смерти, свободы, изоляции и бессмысленности. Несомненно, вдумчивое исследование может пролить свет на определенные важные вопросы. Например, оно может сообщить нам, сколь часто пациенты обнаруживают открытую заинтересованность экзистенциальными темами или сколь часто терапевты осознают эту заинтересованность пациентов.
Для тех многочисленных экзистенциальных вопросов, которые никогда явным образом не были объектом научного исследования, я искал косвенную научную информацию в сопредельных областях. Например, в главе 6 обсуждаются исследования, посвященные теме «Фокус контроля», имеющей отношение к вопросам ответственности и воли.
Есть еще темы, которые по тем же названным причинам не поддаются эмпирическому изучению. Поэтому в отношении их ученые ограничивались избранными частичными проблемами, более доступными для исследования. Например, как мы увидим далее, существует множество шкал «тревоги смерти», изучающих феномен ужаса, но настолько поверхностно и стандартизованно, что информации получается мало. Это напоминает мне историю о человеке, который ночью ищет потерянный ключ не в том темном переулке, где он его потерял, а под фонарем, где светлее. Итак, я, с соответствующими оговорками, привожу данные исследований, посвященных частичным проблемам.
Имеются и другие сферы, знание о которых должно оставаться интуитивным. Есть истины существования, столь ясные и определенные, что их обоснование с помощью логических аргументов или эмпирических исследовании можно считать более или менее лишней работой. Рассказывают, что нейропсихолог Карл Лэшли однажды заметил: «Если вы научили эрдельтерьера играть на скрипке, то для доказательства этого вам не нужен струнный квартет».
Я попытался написать эту книгу языком достаточно прозрачным и свободным от жаргона, чтобы он был понятен читателю‑непрофессионалу. Однако аудитория, к которой я обращаюсь прежде всего, студенты и практики психотерапии. Следует отметить, что я не рассчитываю на формальное философское образование читателя, но ожидаю от него некоторой клинической подготовки. Я не рассматриваю свой текст как начальное, то есть содержащее всю полноту объяснений, руководство по психотерапии и надеюсь, что читатель знаком с клиническими объяснительными системами. Поэтому, описывая клинические феномены с экзистенциальной точки зрения, я не всегда предлагаю альтернативные их объяснения. Я исхожу из того, что моя задача – представить связный психотерапевтический подход, основанный на экзистенциальных данностях и явным образом описывающий процедуры, неявно используемые большинством терапевтов.
Я не претендую на изложение теории психопатологии и психотерапии. Я даю парадигму, психологический конструкт, который обеспечивает клинициста объяснительной системой, позволяющей осмыслить большой массив клинических данных и сформулировать систематическую психотерапевтическую стратегию. Это парадигма, обладающая значительной объяснительной силой; она экономична (основывается на относительно малом числе базовых предпосылок) и доступна (ее предпосылки коренятся в опыте, интуитивно понятном любому интроспективному индивиду). Более того, это фундаментально гуманистическая парадигма, созвучная с глубинно человечной природой терапевтического процесса.
Но это парадигма, а не Парадигма – она полезна для некоторых пациентов, но не для всех; подходит некоторым терапевтам, но не всем. Экзистенциальная ориентация – это клинический подход, существующий бок о бок с другими клиническими подходами. Он реорганизует клинические данные, но так же, как и все остальные подходы, не является исключительным и не может объяснить все поведение. Человек – существо слишком сложное и наделенное слишком многими возможностями, чтобы могло быть иначе.
В экзистенции неизбежно присутствует свобода, и с ней неопределенность. Культуральные институты и психологические конструкты часто скрадывают такое положение дел, но конфронтация с собственной экзистенциальной ситуацией напоминает нам, что любая парадигма – это воздвигнутая нами самими стенка, не толще куска картона, отделяющая нас от страдания неопределенности. Зрелый терапевт должен быть способен переносить эту фундаментальную неопределенность, независимо от того, какого теоретического подхода он придерживается экзистенциального или любого другого.
Часть I СМЕРТЬ
В последующих четырех главах я исследую роль, которую представления о смерти играют в психопатологии и психотерапии. Базовые постулаты, из которых я исхожу, просты:
Страх смерти имеет огромное значение в нашем внутреннем опыте: он преследует нас как ничто другое, постоянно напоминает о себе неким «подземным гулом», словно дремлющий вулкан. Это темное, беспокоящее присутствие, притаившееся на краю сознания.
В раннем возрасте ребенка глубоко поглощает вопрос смерти; преодоление мучительного страха уничтожения – фундаментальная задача его развития.
Чтобы справиться с этим страхом, мы воздвигаем защиты против сознавания смерти, основанные на отрицании и формирующие наш характер; если эти защиты дезадаптивны, они порождают клинические синдромы. Иными словами, психопатология есть результат неэффективных способов преодоления смерти.
Наконец, сознавание смерти может служить фундаментом здоровой и эффективной психотерапевтической стратегии.
Глава 2 посвящена обзору психотерапевтических подходов с точки зрения характерных для них представлений о смерти, с релевантными клиническими и научными свидетельствами и последующим рассмотрением вопроса о причинах тщательного избегания традиционным психоанализом темы смерти как в теории, так и в технике психотерапии.
В главе 3 речь идет о развитии представления о смерти у детей, причем особое внимание уделяется индивидуальным защитным механизмам, направленным на защиту от тревоги, связанной со смертью. В главе 4 предлагается парадигма психопатологии, основанная на этих отрицающих смерть защитах; наконец, в главе 5 описываются теория и практические приложения терапевтического подхода, построенного на сознавании смерти.
2. ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ТРЕВОГА
«Не чешите там, где не чешется», – советовал великий Адольф Мейер (Adolf Meyer) поколению будущих психиатров. Не великолепный ли это аргумент против того, чтобы любопытствовать о том, как относятся к смерти ваши пациенты? У них хватает опасений и страхов и без напоминаний заботливого терапевта о самом неотвратимом из ужасов жизни. Зачем концентрироваться на горькой и неотвратимой реальности? Если цель терапии – вселить надежду, то зачем обращать мысли к смерти, которая сокрушает всякую надежду? Терапия направлена на то, чтобы помочь человеку научиться жить. Почему бы не оставить смерть умирающим?
Эти вопросы требуют ответа, и здесь я его даю. Суть моего ответа заключается в том, что смерть – это то, что «чешется» постоянно, а также в том, что наше отношение к смерти влияет на нашу жизнь и психологическое развитие, на то, в чем и как мы теряем уверенность и силу. Я рассмотрю два основных тезиса, каждый из которых имеет фундаментальное значение для психотерапевтической практики.
Жизнь и смерть взаимозависимы; они существуют одновременно, а не последовательно; смерть, непрерывно проникая в пределы жизни, оказывает огромное воздействие на наш опыт и поведение.
Смерть – первичный источник тревоги и, тем самым, имеет фундаментальное значение как причина психопатологии.
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ ЖИЗНИ И СМЕРТИ
Мысль о переплетенности жизни и смерти столь же стара, как письменная история. Всему на свете приходит конец – это одна из наиболее самоочевидных жизненных истин, так же как и то, что мы боимся этого конца и тем не менее должны жить с сознанием его неизбежности и своего страха перед ним. Стоики говорили, что смерть – самое важное событие жизни. Научиться хорошо жить – это значит научиться хорошо умирать, и наоборот, уметь хорошо умирать значит уметь хорошо жить. Известны слова Цицерона: «Смысл занятий философией – подготовка к смерти» и Сенеки: «Только тот человек воистину наслаждается жизнью, кто согласен и готов оставить ее». Ту же мысль выразил св. Августин: «Только перед лицом смерти по‑настоящему рождается человек».
Невозможно оставить смерть умирающим. Биологическая граница между жизнью и смертью относительно четка, но психологически они переходят друг в друга. Смерть – это факт жизни; нам достаточно минуты размышления, чтобы понять: смерть – не просто последний момент жизни. «Уже рождаясь, мы находимся в процессе умирания; и в начале присутствует конец» (Манилий). Монтень в своем глубочайшем эссе о смерти вопрошает: «Почему вы боитесь своего последнего дня? Он приближает вас к смерти не больше, чем любой другой день вашей жизни. Не последний шаг создает усталость: он лишь обнаруживает ее».
Нетрудно (и весьма соблазнительно) было бы продолжить изложение глубокомысленных цитат о смерти. Практически каждый большой мыслитель думал и писал о смерти (как правило, в молодости или ближе к концу жизни); многие приходили к заключению, что смерть – неотъемлемая часть жизни, и, постоянно принимая ее в расчет, мы обогащаем жизнь, а отнюдь не обкрадываем ее. Физически смерть разрушает человека, но идея смерти спасает его.
Последняя мысль столь существенна, что ее стоит повторить: вещественность смерти разрушает человека, идея смерти спасает его. Но каков точный смысл этих слов? Как именно идея смерти спасает человека? И от чего спасает?
Короткий взгляд на центральную концепцию экзистенциальной философии может помочь прояснению. В 1926 году Мартин Хайдеггер изучал вопрос о том, от чего идея смерти уберегает человека, и у него состоялся важный инсайт: сознание предстоящей личной смерти побуждает нас к переходу на более высокий модус существования. Хайдеггер считал, что имеются два фундаментальных модуса существования в мире: 1) состояние забвения бытия, 2) состояние сознавания бытия.
Забвение бытия означает жизнь в мире вещей, погружение в жизненную рутину. Человек «снижен», поглощен «пустой болтовней», затерялся в «они». Он капитулировал перед повседневностью, перед заботами о том, «каковы» вещи.
С другой стороны, сознавая бытие, человек сосредоточен не на «как», а на "что " – не на свойствах и оценках вещей, а на том, что эти вещи есть, что они обладают бытием. Существовать в данном модусе, который часто называют «онтологическим» (от греческого онтос – существование), значит непрерывно сознавать бытие – не только мимолетность бытия, но и ответственность за свое бытие (о которой я буду говорить в главе 6). Лишь в онтологическом модусе существования человек соприкасается с собой как творением собственной самости и потому обладает властью изменить себя.
Обычно люди пребывают в первом модусе. Забвение бытия это повседневный способ существования. Хайдеггер называет его «неподлинным» – в нем мы не сознаем себя творцами собственной жизни и мира, мы «спасаемся бегством», «попадаем в ловушку» и становимся успокоенными; мы избегаем выбора, будучи "унесены в «никтовость». Перейдя же во второй модус (сознавания бытия), мы существуем подлинно (отсюда – частое использование термина «подлинность» в современной психологии). Мы становимся полностью самосознающими – сознающими себя одновременно как трансцендентное (детерминирующее) Эго и как эмпирическое (детерминированное) Эго; приемлющими свои возможности и ограничения; конфронтирующими с абсолютной свободой и небытием – и испытывающими тревогу перед их лицом.
Какое отношение ко всему этому имеет смерть? Хайдеггер отдавал себе отчет, что просто благодаря раздумьям, стойкости и «скрежету зубовному» не перейти из состояния забвения бытия в более просветленное и беспокойное состояние сознавания бытия. Нужны какие‑то неотвратимые и непоправимые обстоятельства, определенный «экстремальный» опыт, который «вытряхивает», «вырывает» человека из повседневного модуса существования в состояние сознавания бытия. В качестве такого опыта (Ясперс имел в виду то же самое, говоря о «пограничных», или «предельных» состояниях) смерть превосходит все остальное: смерть есть условие, дающее нам возможность жить подлинной жизнью.
Эту точку зрения – что смерть вносит позитивный вклад в жизнь – не так‑то легко принять. Для большинства из нас смерть ужасное, нестерпимое зло, и любое сомнение в этом воспринимается в лучшем случае как неуместная острота. Нет уж, спасибо, мы отлично обойдемся без чумы и прочих казней египетских.
Но давайте отвлечемся на мгновение от своего отчаянного «нет!» и попытаемся представить жизнь, в которой отсутствует какая‑либо мысль о смерти. Когда смерть отрицается, жизнь суживается. Фрейд – по причинам, на которых ниже я коротко остановлюсь, мало упоминавший о смерти – полагал, что скоротечность жизни увеличивает нашу радость от нее. «Ограничение возможности наслаждаться повышает ценность наслаждения». Во время первой мировой войны Фрейд писал о притягательной силе войны, возвращающей смерть в жизнь: «Жизнь и вправду снова стала интересной; она вновь обрела свою полноту». Когда с исключением смерти человек теряет представление о ставках в игре, жизнь оказывается обедненной. Фрейд писал, что она превращается в нечто «столь же мелкое и пустое, как, например, американский флирт, при котором заранее известно, что ничего не произойдет, в отличие от европейской любовной интриги, где партнеры должны постоянно помнить о серьезных последствиях».
У многих авторов встречается мысль, что отсутствие факта смерти так же притупляло бы нашу сензитивность, как отсутствие идеи смерти. Например, эта мысль присутствует в пьесе французского драматурга Жана Жироду «Амфитрион 38», где происходит беседа между бессмертными богами. Юпитер рассказывает Меркурию о том, что испытываешь, когда принимаешь земное обличье, чтобы любить смертную женщину:
«Она говорит маленькие словечки, от которых пропасть между нами становится огромной… Она говорит: 'Когда я была ребенком', или 'Когда я состарюсь', или 'Никогда в жизни'. Это терзает меня, Меркурий… Меркурий, мы лишены чего‑то – может быть, остроты мимолетного, чувства смертности, этой сладостной печали обладания чем‑то, что не сможешь удержать?».
О том же идет речь у Монтеня: Хирон, полубог, получеловек, отказался от бессмертия, после того как его отец Сатурн (бог времени и сроков) описал ему последствия этого выбора:
«Честно вообрази себе, насколько менее терпима и более мучительна для человека была бы вечная жизнь, чем такая, какую я дал ему. Не имея возможности умереть, ты беспрестанно проклинал бы меня за то, что я лишил тебя смерти. Я намеренно добавил к ней немного горечи, чтобы ты, увидев удобства смерти, не ухватился за нее слишком рьяно и преждевременно. Дабы ты остался в среднем состоянии, которое мне нужно от тебя – не избегающим жизни и не устремляющимся к ней вновь в бегстве от смерти – я смешал в той и другой сладость с горечью».
Я вовсе не желаю участвовать в некрофильском культе или выступать в защиту жизнеотрицающей болезненности. Но не следует забывать, в чем состоит наша основная дилемма: каждый из нас – одновременно ангел и дикий зверь, мы смертные создания, обладающие самосознанием и потому знающие о своей смертности. Отрицание смерти на любом уровне есть отрицание собственной природы, ведущее ко все большему сужению поля сознания и опыта. Интеграция идеи смерти спасает нас: она действует отнюдь не как приговор, обрекающий на пожизненный ужас или на мрачный пессимизм, а скорее как стимул к переходу в более подлинный модус существования. Она увеличивает наше удовольствие от проживания своей жизни. Подтверждением тому служат свидетельства людей, переживших личную встречу со смертью.
Конфронтация со смертью: шанс личностного изменения
В некоторых величайших литературных произведениях отображено позитивное влияние на индивида близкой встречи со смертью.
Великолепной иллюстрацией стимула к радикальному личностному изменению, который дает смерть, служит «Война и мир» Толстого. Главный герой, Пьер, чувствует, что на него омертвляюще действует бессмысленная, пустая жизнь русской аристократии. На первых девятистах страницах романа он потерянная душа, ищущая какого‑либо смысла жизни.
Кульминационным моментом романа является захват Пьера в плен войсками Наполеона и приговор его к расстрелу. Шестой в очереди смертников, он смотрит, как перед ним казнят пятерых, и готовится умереть – но в последний момент неожиданно исполнение приговора откладывается. Этот опыт преображает Пьера – на оставшихся трехстах страницах он проживает свою жизнь осмысленно и горячо. Он становится способен полностью отдавать себя в отношениях с другими людьми, остро сознавать естественное окружение; он находит для себя осмысленную жизненную задачу и посвящает себя ей.*
* Реальное событие такого рода случилось с Достоевским, который в возрасте двадцати девяти лет был приговорен к расстрелу, но в последнюю минуту было объявлено об отсрочке приговора. Этот эпизод оказал критическое влияние на его жизнь и творчество.
В рассказе Толстого «Смерть Ивана Ильича» выражены сходные мысли. Иван Ильич, бюрократ и низкая душа, заболевает смертельной болезнью, предположительно раком желудка. У него сильнейшие боли. Страдания ни на мгновение не оставляют его, пока, незадолго до смерти, Иван Ильич не осознает ошеломляющую правду: он плохо умирает, потому что плохо жил. В течение нескольких оставшихся ему дней Иван Ильич претерпевает драматическую трансформацию, которую трудно описать иначе, чем в понятиях личностного роста. Если бы он был пациентом психотерапевта, последний имел бы все основания гордиться произошедшими изменениями: Иван Ильич стал более эмпатически контактировать с другими, а его некогда постоянные желчность, надменность и самовозвеличивание исчезли. Коротко говоря, за последние дни своей жизни он достиг значительно более высокого уровня интеграции, чем когда‑либо прежде.
В клинической реальности этот феномен наблюдается очень часто. Например, шесть из десяти интервью с людьми, пытавшимися покончить с собой, спрыгнув с моста над проливом Золотые Ворота, но выжившими, свидетельствуют о том, что после «прыжка в смерть» у этих людей изменился взгляд на жизнь. Вот цитаты из нескольких интервью: «Моя воля к жизни взяла верх… Есть милосердный Бог в небесах, проницающий собой все вещи вселенной». «Все мы принадлежим Божественному – единому Богочеловеческому началу». «У меня сейчас появился сильный стимул к жизни… Вся моя жизнь обновлена… Мне удалось уйти со старых путей… Я способен теперь ощущать существование других людей…». «Я чувствую теперь, что люблю Бога и хочу делать что‑то для других». И еще:
«Я преисполнилась новой надеждой, новым смыслом в жизни. Это непостижимо для большинства людей. Я умею теперь ценить чудо жизни – например, когда смотрю на летящую птицу. Если вы близки к тому, чтобы все утратить, то все становится более значимым. Я пережила чувство единения со всеми проявлениями этого мира и чувство единства с каждым человеком. После своего психического возрождения я сопереживаю страданиям каждого человека. Все стало отчетливым и ярким».
Известно и множество других клинических примеров. Абрахам Шмит подробно описывает хронически депрессивную пациентку, предпринявшую серьезную суицидальную попытку и выжившую по чистой случайности. Он говорит о «пропасти между двумя половинами ее жизни» – до и после суицидальной попытки. Свой профессиональный контакт с ней Шмит характеризует не как терапию, а как мониторинг разительной перемены в ее жизни. Ее друзья говорят о том, что она полна трепета жизни и энтузиазма, используя слова, передающие аналогию с вибрацией чистого звука. Терапевт утверждает, что после своей суицидальной попытки она пришла «в контакт с собой, своей жизнью и своим мужем. Ее жизнь теперь полна и заполняет многие другие жизни… В течение года после своей попытки самоубийства и переживания переходного состояния она забеременела первым из нескольких детей, родившихся один за другим. (До того она долго была бесплодна.)».
Рассел Нойс интервьюировал две сотни людей, переживших близость смерти (кто‑то из них попал в автомобильную катастрофу, кто‑то тонул, кто‑то сорвался при горном восхождении и т.д.). Он сообщает, что, по свидетельству многих из них (23 процентов), в результате этого опыта даже спустя годы у них сохраняется
«… острое чувство быстротечности жизни и ее драгоценности… больший жизненный энтузиазм, повышение восприимчивости и отзывчивости к непосредственному окружению… способность жить и наслаждаться настоящим моментом… большее сознавание жизни – самой жизни и живых существ и стремление радоваться ей, пока еще не поздно».
Многие говорят об «изменении приоритетов», о том, что они стали более способными испытывать сострадание, более непосредственно обращены к людям, чем прежде.
Абдул Хусейн и Сеймур Тозман, врачи камер смертников, в клиническом сообщении описывают троих приговоренных к смерти, которым в последний момент было отсрочено исполнение приговоров. Авторы отмечают у каждого из них глубокую перемену в личностной манере и «разительное изменение жизненных позиций», сохранявшиеся на протяжении нескольких месяцев, пока они могли их наблюдать.
Рак: конфронтация со смертью. Китайская пиктограмма слова «кризис» является сочетанием двух символов «опасности» и «возможности». Многие годы работая с больными раком на терминальной стадии, я поражался тому, сколь многие из этих людей используют свою кризисную ситуацию и нависшую над ними угрозу как стимул к изменению. Они рассказывали о поразительных сдвигах, о внутренних переменах, которые нельзя охарактеризовать иначе, чем «личностный рост»:
изменение жизненных приоритетов, уменьшение значения жизненных тривиальностей;
чувство освобожденности: появление способности сознательно не делать то, что не хочешь;
обостренное переживание жизни в настоящем, вместо откладывания ее до пенсии или до какой‑нибудь еще точки будущего;
переживание природных явлений: смены времен года, перемены ветра, опадания листьев, последнего Рождества и т.д., – как высоко значимых событий;
более глубокий, чем до кризиса, контакт с близкими;
уменьшение страхов, связанных с межличностным общением, и озабоченности отвержением; большая, чем до кризиса, готовность к риску.
Сенатор Ричард Нойбергер незадолго до своей смерти от рака описал произошедшую в нем перемену подобного рода:
"Во мне произошло изменение, которое, я уверен, необратимо. Престиж, политический успех, финансовый статус – все это вдруг утратило свою значимость. В первые часы после того, как я понял, что у меня рак, я ни разу не подумал о моем месте в Сенате, о моем банковском счете или о судьбе свободного мира… С тех пор, как был поставлен диагноз, мы с женой ни разу не поссорились. Я имел привычку ворчать на нее за то, что она выжимает пасту из верхушки тюбика, а не со дна, что недостаточно угождает моим прихотям в еде, что составляет списки гостей, не советуясь со мной, что слишком много тратит на одежду… Теперь подобные заботы либо вообще не существуют для меня, либо кажутся неуместными…
С другой стороны, я вновь стал ценить возможности, которые прежде воспринимал как само собой разумеющиеся: позавтракать с другом, почесать ушки Маффета и послушать, как он мурлычет, побыть в обществе жены, вечером под мягким светом ночника почитать книгу или журнал, обшарить холодильник в поисках стакана апельсинового сока или ломтика кофейного торта. Мне кажется, я впервые по‑настоящему наслаждаюсь жизнью. Наконец‑то я понимаю, что не бессмертен. Я содрогаюсь, вспоминая все благоприятные шансы, отвергнутые мной именно тогда, когда я находился на вершине здоровья, – вследствие ложной гордости, надуманных ценностей и переживания мнимых оскорблений".
Насколько часто конфронтация со смертью влечет за собой позитивные личностные изменения? Изученная мной группа больных раком составилась на основе выбора самих больных: это были женщины с «психологическим» складом ума, пожелавшие заниматься в поддерживающей группе для раковых пациентов. Поэтому, чтобы составить представление об общей распространенности феномена, мы с коллегами разработали программу исследования выборки из группы пациентов, определяющейся исключительно медицинским диагнозом.
Составив опросник для оценки некоторых личностных изменений, мы попросили ответить на него подряд семьдесят пациенток, обратившихся за консультацией к онкологу по поводу метастатического рака груди (рака, распространившегося и на другие части тела, не поддающегося хирургическому или терапевтическому лечению.*
* Никто из участвовавших в исследовании пациентов не находился в то время в стационаре; почти никто не потерял трудоспособности и не имел инвалидизирующих физических болей. Все знали свой диагноз, как и то, что, хотя у них есть еще впереди сколько‑то месяцев или даже лет, в конце концов они умрут от своей болезни.
Одна часть опросника состояла из семнадцати утверждений на тему личностного роста,* каждое из которых испытуемых просили оценить для себя по пятибалльной шкале (от «практически никогда» до «всегда») по отношению к двум периодам жизни: перед манифестацией онкологического заболевания и «сейчас». В тех случаях, когда для двух периодов оценка была разная, почти неизменно эта разница указывала на личностный рост от «до» к «сейчас». По четырнадцати утверждениям из семнадцати большее число пациенток сообщали о позитивных изменениях, чем о негативных.** Оценки некоторых утверждений для двух периодов значительно различались. Например, оценивая четырнадцатое («Мне кажется, я знаю нечто важное о жизни, что могу передать другим»), восемнадцать пациенток сообщали о позитивном сдвиге и три о негативном; одиннадцатое («Я отстаиваю свои личностные права») – двенадцать о позитивном и три о негативном; второе («Я чувствую красоту природы») – одиннадцать о позитивном и две о негативном. Кто бы мог ожидать, что рак на терминальной стадии может увеличить число «моментов глубокой умиротворенности» (десятое утверждение)? Тем не менее, восемнадцать пациенток отметили это увеличение (в противоположность восьми, указавшим на негативную перемену).
* 1. Я могу открыто говорить со своим мужем.
2. Я чувствую красоту природы.
3. У меня есть ощущение личной свободы.
4. Я стараюсь быть открытой со своими детьми.
5. Для меня важно, чтобы все любили меня.
6. Я получаю от жизни много удовольствия.
7. В общении я честна и открыта.
8. Я делаю только то, что по‑настоящему хочу делать.
9. Я живу в настоящем, а не в прошлом или будущем.
10. Я меня бывают моменты глубокой умиротворенности.
11. Я отстаиваю свои личностные права.
12. Я чувствую себя психологически комфортно.
13. В общении с друзьями я открыта.
14. Мне кажется, я знаю нечто важное о жизни, что могу передать другим.
15. Я способна определять, что хочу делать.
16. Моя жизнь имеет смысл и значение.
17. Религиозные или духовные взгляды имеют для меня большое значение.
** Противоположная тенденция обнаружилась лишь для третьего утверждения («У меня есть ощущение личной свободы»), оценки которого, по моему мнению, отражают физические ограничения, испытываемые больными раком, и для тринадцатого («Я открыта в общении с друзьями»). В последнем случае дело, вероятно, в том, что многие из друзей наших испытуемых демонстрировали крайний дискомфорт. Пациентки обнаруживали, что в то время как некоторые отношения укрепились. многие другие стали напряженными.
Другая часть опросника была посвящена анализу изменений интенсивности обычных страхов. Из стандартного списка было выбрано двадцать девять страхов,* и пациенток попросили оценить их силу («до» рака и «после»). Результаты в этой части показали ту же тенденцию личностного роста, хотя не столь явно выраженную. По девяти пунктам испытуемые сообщили об усилении страхов после манифестации рака; по одному оценки распределились поровну (одинаковое число пациенток отметило ослабление и усиление страха); по девятнадцати из двадцати девяти пунктов большинство испытуемых отметили ослабление страха по сравнению с периодом «до».
* 1. Мертвые люди
2. Сердитые люди
3. Расставание с друзьями
4. Закрытые помещения
5. Переживание отвержения со стороны других
6. Переживание осуждения со стороны других
7. Игнорирование другими
8. Темнота
9. Люди с уродствами
10. Совершить ошибку
11. Выглядеть глупо
12. Потерять контроль
13. Начальствование или ответственность за принятие решении
14. Психическое заболевание
15. Прохождение письменных испытаний
16. Прикосновения других людей
17. Ощущение своей непохожести на других
18. Одиночество
19. Пребывание в незнакомом месте
20. Публичное выступление
21. Плохие сны
22. Провал
23. Входить в комнату, где уже сидят другие люди
24. Смотреть вниз из окон высоких зданий
25. Незнакомцы
26. Разозлиться
27. Власть имущие, авторитетные люди
28. Пауза в разговоре
29. Ползающие насекомые
В литературе отсутствуют сообщения о других систематических исследованиях данного феномена,* однако большинство терапевтов могут найти его примеры в своем опыте. Многим терапевтам доводилось работать с пациентами, пережившими угрозу смерти во время прохождения терапии по той или иной причине, что привело к резкой перемене в их взглядах и жизненных приоритетах.
* Некоторые исследования, проведенные при участии умирающих пациентов стационара, дали значительно более негативные результаты, чем наше. Однако эти пациенты часто изолированы, истощены и испытывают сильные боли. Недавно один раковый больной критиковал Кюблер‑Росс (Kubler‑Ross) по этому самому поводу, подчеркнув, что «стадии» умирания Кюблер‑Росс описывают ситуацию истощенных пациентов больниц, игнорируя «счастливый период», наступающий для пациента, имевшего возможность принять для себя встречу со смертью.
У Шмита была пациентка, которая вследствие отказа почек оказалась очень близка к смерти. После длительного почечного диализа ей была проведена успешная трансплантация почки. Она вернулась к жизни, чувствуя себя заново родившейся как физически, так и психологически. Она так описывает произошедшие в ней перемены:
"Честно говоря, я могу сказать о себе лишь одно: я чувствую себя человеком, прожившим две жизни. Я могу даже называть это первая и вторая Кэти. Первая Кэти умерла во время диализа. Она не могла долго выдержать близость смерти. Должна была появиться другая Кэти – Кэти, родившаяся из смерти… Первая Кэти была легкомысленное дитя. Она жила одной минутой. Она вечно жаловалась на холодную пищу в кафетерии, на занудность лекций по уходу за хирургическими больными, на несправедливость своих родителей. Ее жизненной целью было повеселиться в уикэнд… Будущее было где‑то в туманной дали и представляло мало интереса. Она жила исключительно пустяками.
Вторая Кэти – это я сейчас. Я влюблена в жизнь. Посмотрите, как прекрасно небо! Как великолепна его голубизна! Я иду в сад, и каждый цветок сияет такими потрясающими красками, что я ошеломлена его красотой… Уверена в одном: останься я первой Кэти, я бы играла в свои игрушки до самого конца, так и не узнав подлинную радость жизни. Чтобы начать жить, я должна была увидеть смерть глаза в глаза. Мне нужно было умереть для того, чтобы жить".
Встреча со смертью в необычных обстоятельствах стала поворотным пунктом в жизни Артура, пациента, страдавшего алкоголизмом. Перед тем его состояние неуклонно ухудшалось. В течение нескольких лет он сильно пил, ни разу не оставаясь трезвым настолько долго, чтобы стал возможен эффективный психотерапевтический контакт. Он вступил в терапевтическую группу и однажды пришел на групповую сессию настолько переполненным алкоголем, что потерял сознание. Пока он без чувств лежал на кушетке, группа продолжила свою работу, обсуждая, что же с ним делать. В конце концов участники группы все вместе доставили его прямо с сессии в больницу.
Удачей было то, что сессия снималась на видеокассету: позже, просматривая се, Артур глубоко пережил свою конфронтацию со смертью. Не один год все вокруг говорили ему, что он допьется до смерти; но он никогда не позволял себе осознать, что это действительно может произойти, – до тех пор, пока не увидел видеозапись. Он сам, распростертый на кушетке, и участники группы, собравшиеся вокруг его тела и говорящие о нем, – это слишком сильно напоминало картину похорон его брата‑близнеца, умершего от алкоголизма годом раньше. Он представил и самого себя около собственного тела, лежащего на столе и окруженного вспоминающими о нем друзьями. Это видение так потрясло его, что стало началом самого длительного за всю взрослую жизнь Артура периода трезвости. В это время он впервые взял на себя ответственность участия в терапии, которая в конечном счете принесла ему значительную пользу.
Интерес к экзистенциальной терапии появился у меня после того, как несколько лет назад я наблюдал влияние смерти на одну из моих пациенток. Джейн, двадцатипятилетняя «вечная» студентка колледжа, обратилась за терапией по поводу подавленности, тяжелого функционального гастрита, а также глубоких переживаний беспомощности и бесцельности. На первичном приеме она сбивчиво и пространно излагала свои проблемы, неоднократно повторяя: «Я не знаю, что происходит». Я не понимал, какой смысл пациентка вкладывает в эти слова, которые к тому же были частью долгой самоуничижительной тирады, и вскоре о них забыл. Я взял Джейн в терапевтическую группу, и там она вновь остро ощущала, что не знает, что происходит. Она не понимала, что с ней, почему другие члены группы так равнодушны к ней, почему у нее возник конверсионный паралич, почему развились мазохистические отношения с другими участниками, почему она без ума от терапевта. Жизнь была огромной загадкой: что‑то приходило к ней «оттуда»; что‑то на нее сыпалось.
В терапевтической группе Джейн была робка и скучна. Каждую ее реплику можно было предсказать заранее; прежде чем открыть рот, она обводила взглядом лица окружающих, ища намеков на то, что они хотят услышать, и строила свое высказывание так, как если бы стремилась угодить наибольшему числу слушателей. Она не позволяла себе ничего, что могло бы обидеть, оттолкнуть других. (Разумеется, в результате она отталкивала от себя, вызывая не гнев, но скуку.) Было ясно, что Джейн находится в состоянии хронического бегства от жизни. Все участники группы наперебой пытались отыскать «подлинную Джейн» внутри кокона угодливости, который она вокруг себя сплела. Все старались подбодрить Джейн; уговаривали ее выходить в социум, учиться, написать дипломную работу, купить себе новую одежду, уплатить по счетам, привести себя в порядок, сделать прическу, подготовить свое резюме, искать работу.
Когда эти увещевания, разделив судьбу большинства увещеваний в терапии, остались безуспешными, группа попробовала другую тактику: они стали предлагать Джейн подумать о соблазнах и благах неуспешности. Каковы дивиденды от неудачи? Чем она так щедро вознаграждает? Этот подход оказался более продуктивным, и мы узнали, что дивиденды значительны. Неуспешность позволяла Джейн оставаться молоденькой, опекаемой и спасала от необходимости делать выбор. Идеализация и обожествление терапевта служили той же функции. Помощь могла прийти только откуда‑то извне. В терапии она считала своей задачей стать настолько слабой, чтобы терапевт не мог воздержаться от наложения своей королевской длани, не ощутив при этом горьких угрызений совести.
Критический перелом в терапии произошел тогда, когда Джейн заболела. Это была опасная опухоль подмышечного лимфатического узла. Группа встречалась по вторникам; так случилось, что именно во вторник утром у Джейн взяли материал для биопсии, и ей предстояло двадцать четыре часа ожидать результата, чтобы узнать, злокачественное образование или нет. На групповую встречу во вторник вечером она пришла в состоянии шока. Прежде она никогда не думала о собственной смерти. Эта сессия стала очень важным событием для Джейн, поскольку группа помогла ей увидеть и выразить ее страхи. Основным переживанием Джейн было мучительное одиночество – одиночество, которое всегда присутствовало на периферии ее сознания, и которого она всегда очень боялась. Во время этой групповой сессии Джейн поняла на глубинном уровне: что бы она ни делала, сколь бы себя ни ослабляла, все равно в конце концов ей придется встретиться со смертью один на один – никто не встанет между ними, никто не умрет вместо нее.
На следующий день она узнала, что разрастание лимфатического узла доброкачественно, тем не менее психологический эффект пережитого был глубоким. Многое для Джейн встало на свои места. Она начала принимать решения так, как никогда прежде, и взяла в свои руки управление собственной жизнью. На одной встрече мы услышали от нее: «Мне кажется, я знаю, что происходит». Тогда я вспомнил и наконец‑то понял ее первоначальную жалобу, о которой давно и думать забыл. Прежде для нее важно было не знать, что происходит. Более, чем чего бы то ни было, она стремилась избежать одиночества и смерти, приходящих к взрослым. Она пыталась победить смерть магическим путем – оставаясь молодой, избегая выбора и ответственности, предпочитая держаться за иллюзию, что всегда найдется кто‑то, кто будет выбирать за нее, кто будет рядом с ней и для нее. Взросление, самостоятельный выбор, сепарация от других означают также встречу с одиночеством и смертью.
Суммируя, скажу, что концепция смерти играет критически важную роль в психотерапии, поскольку она затрагивает жизненный опыт каждого из нас. Жизнь и смерть взаимозависимы: физически смерть уничтожает нас, но идея смерти спасает нас. Сознание смерти обостряет чувство жизни и радикально меняет взгляд на нее; оно дает нам толчок к переходу из модуса существования, основанного на отвлечениях, успокоениях и мелких тревогах, в более подлинный. Истории людей, у которых после конфронтации со смертью произошли значительные личностные изменения, несут недвусмысленное и важное сообщение для психотерапии. Дело за техниками, которые позволили бы психотерапевтам использовать этот терапевтический ресурс для всех пациентов, вне зависимости от их жизненных коллизий или наступления смертельной болезни. Подробному рассмотрению этого вопроса я посвятил главу 5.
СМЕРТЬ И ТРЕВОГА
Тревога играет в психотерапии столь очевидную и столь первостепенную роль, что едва ли нужно говорить об этом особо. Специальному месту тревоги отдает должное традиционная психиатрическая нозология, в которой главные психиатрические синдромы именуются «реакциями»: психотические реакции, невротические реакции, психофизиологические реакции. Мы рассматриваем эти состояния как реакции на тревогу. Они представляют собой попытки, хотя и дезадаптивные, овладеть тревогой. Психопатология – векторная сумма тревоги и индивидуальных механизмов защиты от нее, как невротических, так и характерологических. Обычно в начале работы с пациентом терапевты главное внимание уделяют манифестной тревоге, эквивалентам тревоги и защитам, построенным в попытках оградить себя от тревоги. Впоследствии терапия может идти по многим направлениям, но терапевты продолжают использовать тревогу пациента как маяк или компас, прокладывая курс терапии в направлении ее истоков и ставя конечной целью их обезвреживание и устранение.
Тревога смерти: важный детерминант человеческого опыта и поведения
Ужас смерти является настолько сильным и всеобъемлющим, что на отрицание смерти расходуется значительная доля нашей жизненной энергии. Преодоление смерти – фундаментальный мотив человеческих переживаний, начиная от глубоко личностных внутренних событий, защит, мотиваций, снов и кошмаров вплоть до самых массовых макросоциальных феноменов, включая наши памятники, теологии, идеологии, кладбища со «спящими» на них мертвецами, бальзамирование, стремление в космос и, по сути, весь строй нашей жизни заполнение времени, пристрастие к развлечениям, твердокаменная вера в миф о прогрессе, гонка за успехом, томление по долгой славе.
По спекулятивному предположению Фрейда, ядерные человеческие группы, молекулы социума, составлялись под действием страха смерти: первые люди жались друг к другу из боязни остаться одним и страха перед тем, что скрывалось во тьме. Мы увековечиваем группу, желая увековечить себя; историографическая деятельность группы – это символическое искание косвенного бессмертия. Воистину, как утверждал Гегель, сама история – это то, что человек делает со смертью. Роберт Джей Лифтон описал несколько путей, которыми человек пытается достичь символического бессмертия. Только представим себе их всеохватывающие культурные последствия: 1) биологический путь – продолжение собственной жизни через потомство, через бесконечную цепочку биологических связей; 2) теологический путь – жизнь на ином, более высоком плане существования; 3) творческий путь – жизнь через свои труды, через устойчивое влияние личных творении или личное воздействие на других людей (Лифтон высказывает мысль, что терапевт черпает личностную поддержку именно из этого источника: помогая пациенту, он дает начало бесконечной цепи, поскольку дети пациента и другие связанные с ним люди передают зароненное им семя дальше); 4) путь вечной природы – мы продолжаем жить благодаря тому, что принадлежим круговороту жизненных энергий природы; 5) путь превосхождения – внутреннего опыта трансцендирования эго, «потери себя» в переживании столь интенсивном, что время и смерть исчезают и мы остаемся жить в «непрерывном настоящем».
Ветви культурального древа, вырастающего из страха смерти и искания бессмертия, простираются очень широко, уводя далеко за рамки этой книги. Из числа авторов, писавших на эти темы, следует отметить Нормана Брауна (Norman Brown), Эрнеста Бекера (Ernest Becker) и Роберта Джея Лифтона, которые блестяще продемонстрировали, что страх смерти пропитывает собой всю нашу социальную ткань. Меня здесь интересует воздействие тревоги смерти на внутреннюю динамику индивида. Я буду говорить о том, что страх смерти является первичным источником тревоги. Хотя этот тезис прост и созвучен житейской интуиции, он влечет, как мы увидим, обширные последствия для теории и клинической практики.
Тревога смерти: определение
Прежде всего я хотел бы исследовать значение понятия «тревога смерти». Я буду использовать как синонимы несколько выражений: «тревога смерти», «страх смерти», «ужас смерти», «страх конца». Философы говорят о сознавании «мимолетности бытия» (Ясперс), об ужасе «не‑бытия» (Кьеркегор), о «невозможности дальнейшей возможности» (Хайдеггер), об онтологической тревоге (Тиллих). Многие из этих формулировок имеют свои нюансы смысла: люди переживают страх смерти очень по‑разному. Можем ли мы быть более точными? Чего именно мы боимся в смерти?
Исследователи, занимавшиеся этим вопросом, выдвинули гипотезу о том, что страх смерти составлен из нескольких отдельных страхов. Так, например, Джеймс Диггори и Дорен Ротман опросили большую выборку (N=563) из общей популяции, предлагая проранжировать по значимости несколько событий, сопутствующих смерти. Список распространенных страхов, связанных со смертью, если их расположить в порядке уменьшения частоты, выглядит так:
Моя смерть причинит горе моим родным и друзьям.
Всем моим планам и начинаниям придет конец.
Процесс умирания может быть мучительным.
Я уже не смогу ничего ощущать.
Я уже не смогу заботиться о тех, кто зависит от меня.
Я боюсь того, что со мной будет, если окажется, что есть жизнь после смерти.
Я боюсь того, что будет с моим телом после смерти.
Некоторые из этих страхов, видимо, не имеют прямого отношения к личной смерти. Страх боли, несомненно, лежит по эту сторону смерти; страх посмертной жизни лишает смерть ее смысла как конечного события; страх за других – это, разумеется, не страх, связанный с собой. Страх личного исчезновения – вот что должно составлять суть беспокойства: «Моим планам и начинаниям придет конец» и «Я уже не смогу ничего ощущать».
Жак Хорон в своем обзоре основных философских взглядов на смерть приходит к аналогичной картине. Он различает три типа страхов смерти: 1) страх того, что наступит после смерти; 2) страх самого «события» умирания; 3) страх прекращения бытия. Первые два из них, как указывает Роберт Кастенбаум, – это страхи того, что связано со смертью. Третий, страх «прекращения бытия» (уничтожения, исчезновения, аннигиляции), ближе к собственно страху смерти, и именно о нем я говорю в этих главах.
Первым, кто четко разграничил страх и тревогу (ужас), был Кьеркегор; он противопоставил предметному страху, страху чего‑либо, страх ничто: как он сам путано выразился, «ничто, с которым у индивида нет ничего общего». Мы испытываем ужас (или тревогу) в связи с перспективой потерять себя и стать ничем. Эта тревога не может быть локализована. Говоря словами Ролло Мэя, «она атакует нас со всех сторон одновременно». Страху, который нельзя ни понять, ни локализовать, противостоять невозможно, и от этого он становится еще страшнее: он порождает чувство беспомощности, неизменно вызывающее дальнейшую тревогу. (Фрейд считал тревогу реакцией на беспомощность: он писал, что это «сигнал об опасности» и что индивид «ожидает наступления ситуации беспомощности»).
Как мы можем бороться с тревогой? Смещая ее от ничто к нечто. Именно это Кьеркегор имел в виду, когда писал, что «ничто, являющееся объектом ужаса, так или иначе, становится все более чем‑то». И это же имел в виду Ролло Мэй, утверждая, что «тревога стремится стать страхом». После того как нам удалось трансформировать страх ничто в страх чего‑либо, мы можем начать защищаться – избегать объекта страха, искать союзников против него, создавать магические ритуалы для его умиротворения или планировать систематическую кампанию для обезвреживания.
Тревога смерти: клинические манифестации
Стремление тревоги стать страхом отнюдь не способствует попыткам клиницистов установить первичный источник тревоги. В клинике тревога смерти в своей первичной форме встречается редко. Она подобна кислороду, который, едва выделяясь, быстро переходит в другое состояние. Чтобы отгородиться от тревоги смерти, маленький ребенок развивает защитные механизмы, основанные, как я буду рассказывать в следующей главе, на отрицании. В процессе формирования эти механизмы проходят несколько стадии и в результате включают сложный комплекс психических действий, позволяющих вытеснить «чистую» тревогу смерти и замаскировать ее с помощью сложного ряда защитных операций, таких как смещение, сублимация и конверсия. Иногда бывает, что под действием какого‑нибудь жизненного потрясения защитные механизмы дают сбой и первоначальная тревога смерти вырывается в сознание. Однако бессознательное Эго быстро ликвидирует неисправность, и природа тревоги вновь оказывается скрытой от глаз наблюдателя.
Могу привести пример из личного опыта. В период работы над этой книгой я попал в автомобильную аварию. Это было лобовое столкновение. Я ехал по тихой пригородной улице и вдруг увидел перед собой машину, потерявшую управление и движущуюся прямо на меня. Удар был достаточной силы, чтобы разбить оба автомобиля, и другой водитель серьезно пострадал, однако мне повезло: я не получил никаких значительных травм. Двумя часами позже я уже сидел в самолете и в тот же вечер смог прочесть лекцию в другом городе. Но, конечно, это была большая встряска. Я был в каком‑то оцепенении; меня била дрожь, и я не мог ни есть, ни спать. Следующим вечером я был настолько неблагоразумен, что сел смотреть страшный фильм, и он так напугал меня, что я не досмотрел его до конца. Через два дня я вернулся домой, не ощущая явных психологических последствий происшедшего, если не считать эпизодической бессонницы и тревожных сновидений.
Однако появилась странная проблема. В то время у меня была годичная стипендия в Центре передовых исследовании по поведенческим наукам (Centre for Advanced Study in tlie Bchavioial Sciences) в Паоло Альто, Калифорния. Я получал большое удовольствие от общества своих коллег, и в особенности от ежедневных неторопливых ученых бесед за ланчем. И вот, сразу же после аварии, эти ланчи стали вызывать у меня сильнейшую тревогу. Как мои коллеги будут оценивать меня? Не выставлю ли я себя идиотом? Спустя несколько дней тревога достигла такой силы, что я начал искать предлоги, чтобы завтракать где‑нибудь в одиночестве.
Но я начал также и анализировать свое неприятное состояние, и одно стало мне предельно ясным: «ланчевая» тревога впервые появилась непосредственно после автомобильной аварии. В то же время от явной тревоги по поводу самого несчастного случая, в котором я едва не лишился жизни, через день или два не осталось и следа. Было понятно, что тревоге удалось превратиться в страх. Авария вытолкнула на поверхность сознания интенсивную тревогу смерти, с которой я «справился» главным образом путем смещения – отщепив ее от подлинного источника и связав с подходящей конкретной ситуацией. Таким образом, первичная тревога смерти, просуществовав короткое время, трансформировалась в более мелкие страхи – страх потери самоуважения, отвержения другими людьми, унижения.
Я справился со своей тревогой, иначе говоря, «переработал» ее. Но я не устранил ее, и она давала знать о себе еще месяцы спустя. После проработки «ланчевой» фобии возник ряд других страхов – страх вождения машины, страх езды на велосипеде. А когда через несколько месяцев я встал на лыжи, то оказался настолько осторожным и опасливым, что от моих лыжных навыков и радостей мало что осталось. Но все эти страхи были локализуемы в пространстве и времени, с ними можно было делать что‑то целенаправленное. Они были досадными, но не угрожали моему существованию, не были базовыми.
Кроме этих страхов, я заметил еще одну перемену: мир стал казаться ненадежным. Он утратил свою домашность: опасность могла прийти откуда угодно. Характер реальности стал другим: я переживал в ней то, что Хайдеггер называл «зловещностью» («unheimlich»), иначе говоря, я стал ощущать себя «в мире неуютно». Хайдеггер считал это (и я присоединяюсь к нему) закономерным следствием сознавания смерти.
Другое свойство тревоги смерти, часто приводившее к путанице в специальной литературе, – то, что она может переживаться на многих различных уровнях. Как я уже сказал, человек может бояться акта умирания, боли и страдания при умирании; может сожалеть о незаконченных делах или об исчезновении личностного опыта; может, наконец, взирать на смерть рационально и бесстрастно, подобно эпикурейцам, считавшим, что смерть не страшна просто потому, что «где есть я, там нет смерти; где есть смерть – нет меня. Поэтому смерть – ничто для меня» (Лукреций). Однако не следует забывать, что все это – результат сознательной взрослой рефлексии феномена смерти, ни в коей мере не тождественный живущему в бессознательном примитивному ужасу смерти – ужасу, составляющему часть самой ткани бытия и развивающемуся очень рано, еще до формирования четких понятий, – тому зловещему, цепенящему, примитивному ужасу, который существует до и вне всякого языка и образа.
Клиницист редко сталкивается с тревогой смерти во всей полноте, поскольку она модифицируется стандартными защитами (такими как вытеснение, смещение, рационализация), а также некоторыми другими, характерными только для нее (см. главу 4). Разумеется, это обстоятельство не должно слишком нас обескураживать: его не может отменить никакая теория тревоги. Первичная тревога всегда трансформируется во что‑либо не столь ядовитое для индивида – на то и существует вся система психологических защит. Говоря во фрейдистских терминах: клиницист редко может наблюдать незамаскированную кастрационную тревогу, обычно он имеет дело с некой ее трансформацией. Например, пациент‑мужчина может страдать женофобией, или бояться соперничества с мужчинами в определенных социальных ситуациях, или иметь склонность к получению полового удовлетворения иным путем, чем гетеросексуальный акт.
Однако клиницист, развивший в себе экзистенциальную «установку», сможет распознавать тревогу смерти и в «переработанном» виде, и его изумит частота и разнообразие форм ее проявления. Позвольте привести некоторые клинические примеры. Недавно я работал с двумя пациентками, которые жаловались отнюдь не на экзистенциальную тревогу, а на мучительные, но вполне банальные проблемы отношений.
Джойс, тридцатитрехлетняя преподаватель университета, находилась в процессе мучительного развода. У них с Джеком было первое свидание, когда ей было пятнадцать лет, и в двадцать один она вышла за него замуж. Три года назад, после нескольких лет трудного брака, они разошлись. Но, хотя у Джойс сложились удовлетворяющие ее отношения с другим мужчиной, она никак не могла оформить развод. Собственно, ее главной жалобой в начале терапии было то, что при разговоре с Джеком она всякий раз начинала рыдать и ничего не могла с этим поделать. Исследование ее реакции плача позволило раскрыть несколько важных факторов.
Во‑первых, для нее было крайне важно, чтобы Джек продолжал ее любить. Сама она уже не любила его и не нуждалась в нем, но очень хотела, чтобы он часто о ней думал и любил ее так, как никогда никакую другую женщину. Я спросил: «Почему?» – «Каждый хотел бы, чтобы его помнили, был ответ, – это способ оставить себя в потомстве». Она напомнила мне, что еврейский ритуал Каддиш основан на представлении: пока человека помнят его дети, он продолжает существовать.*
* Аллен Шарп в «Зеленом дереве в Геддесе» описывает маленькое мексиканское кладбище, разделенное на две части «мертвых», могилы которых кто‑то еще украшает цветами, и «по‑настоящему мертвых», за чьими могилами уже никто не ухаживает, – их не помнит ни одна живая душа. Когда умирает очень старый человек, в определенном смысле вместе с ним умирают и многие другие: он берет их с собой. В момент его смерти все мертвые, о которых больше никто теперь не помнит, становятся «по‑настоящему» мертвыми.
Другой причиной слез Джойс было ее чувство, что они с Джеком вместе пережили много прекрасного и значительного. Ей казалось, что теперь, когда их союз распался, все это должно кануть в лету. Угасание прошлого служит острым напоминанием о неостановимом течении времени. По мере исчезновения прошлого вокруг нас сокращается кольцо будущего. Муж Джойс помогал ей «законсервировать» время – будущее так же, как и прошлое. Было ясно, что Джойс, не сознавая того, боится «израсходовать» будущее. Например, у нее была привычка не завершать дело. занимаясь уборкой, она всегда оставляла невымытый угол. Она боялась исчерпаться. Она никогда не начинала читать книгу без того, чтобы на ее ночном столике не лежала еще одна или две в ожидании своей очереди. Вспоминается Пруст, тема главного литературного творения которого – воссоздание прошлого ради избежания «пожирающей глотки времени».
Еще Джойс плакала потому, что боялась неудачи. Жизнь ее до недавнего времени являлась непрерывным восхождением к успеху. Неудача в браке означала, что она, по ее собственному выражению, «такая же, как все». Она была весьма талантливым человеком, но амбиции ее были грандиозны. Она намеревалась достичь международной известности, возможно, получить Нобелевскую премию за проводимую ею тогда исследовательскую программу. Она также планировала, если успех не придет в течение пяти лет, обратить свои силы на художественную прозу и написать «Домой возврата нет» для 70‑х – притом, что никогда в жизни не писала ничего художественного. Впрочем, она, до сих пор достигавшая всех поставленных целей, имела основания верить в свою исключительность. Неудачное замужество стало первой запинкой в ее восхождении, первым вызовом ее надменному солипсизму. Распад брака явился угрозой ее чувству исключительности, которое, как будет обсуждаться в главе 4, представляет собой одну из самых распространенных и мощных смертеотрицающих защит.
Таким образом, вполне банальная проблема Джойс уходила корнями в первичную тревогу смерти. Как экзистенциально ориентированный терапевт, я рассматриваю все эти клинические феномены – желание, чтобы любили и вечно помнили, желание остановить время, веру в личную неуязвимость, стремление к слиянию с другим – как служащие Джойс для выполнения одной задачи: ослабления тревоги смерти.
После того как Джойс проанализировала каждый из этих симптомов и пришла к пониманию их общего источника, ее психическое состояние значительно улучшилось. Самое удивительное: освободившись от своей невротической зависимости от Джека и перестав использовать его в своих механизмах отрицания смерти, Джойс впервые смогла обратиться к нему подлинно любящим образом, и в результате их брак восстановился на совершенно новой основе. Но это уже другая тема, о которой речь будет идти в главе 8.
Вторая пациентка – Бет, тридцатилетняя одинокая женщина – жаловалась на неспособность установить удовлетворяющие отношения с мужчиной. У нее было много случаев, когда она, говоря ее собственными словами, «плохо выбирала», впоследствии теряя интерес к мужчине и прекращая отношения. Уже во время терапии она повторила этот цикл: влюбилась, затем впала в мучительную нерешительность и в конце концов так и не смогла решиться на обязывающие отношения.
Когда мы исследовали ее дилемму, стало ясно, что она чувствует необходимость установить прочные отношения: она устала от жизни одинокой женщины и отчаянно хочет иметь детей. Это давление необходимости еще более усиливалось ее озабоченностью тем, что она стареет и может выйти из детородного периода.
Тем не менее, когда любовник заговаривал о браке. Бет впадала в панику, и чем больше он настаивал, тем она становилась тревожней. Для нее брак был неким «пришпиливанием»: он угрожал зафиксировать подобно тому, как формальдегид фиксирует биологический образец. Для Бет было важно продолжать расти, меняться, становиться отличной от той, какой она была прежде. Она опасалась, что ее возлюбленный слишком самодоволен, слишком удовлетворен собой и своей жизнью. Постепенно Бет стала осознавать важность этого мотива в своей судьбе. Она никогда не жила в настоящем. Даже за едой или подавая на стол она мысленно была на одно блюдо впереди: во время второго ее мысли уже витали где‑то в десерте. Она часто с ужасом думала о перспективе «осесть» – для нее это было то же самое, что «засесть». Думая о том, чтобы выйти замуж или принять на себя обязательства в любой другой форме, она часто спрашивала себя: «И что, больше ничего в жизни нет?»
Прочувствовав все это в терапии – свое навязчивое стремление всегда быть впереди самой себя, свой страх старения, смерти и застоя – Бет стала тревожней, чем когда‑либо. Однажды вечером после сессии, когда мы с ней проникли особенно глубоко, она испытала состояние сильнейшего ужаса. Она гуляла с собакой, и вдруг у нее возникло жуткое чувство, что ее преследует какое‑то сверхъестественное существо. Она стала озираться вокруг, затем пустилась бежать без оглядки и так добралась домой. Позже начался ливень, и она всю ночь лежала без сна, против всякого здравого смысла ожидая, что вот‑вот с ее дома сорвет крышу или он будет смыт потоками воды. В главе 5 я буду говорить о том, что нередко в тех случаях, когда страх чего‑то конкретного (в случае Бет – страх замужества или неправильного выбора) осознается как то, что он есть на самом деле – страх ничто, – тревога усиливается. У Бет и страх замужества, и внутреннее понуждение к нему отчасти были поверхностными отзвуками идущей в глубинах психики борьбы за сдерживание тревоги смерти.
У клиницистов можно найти описания тревоги смерти и ее трансформаций во всем спектре клинической психопатологии. В главе 4 эта тема обсуждается подробно, а здесь я лишь коснусь ее. Р. Скуг сообщает, что более 70 процентов пациентов с тяжелым неврозом навязчивых состояний на этапе начала заболевания пережили нарушающий чувство безопасности опыт встречи со смертью. С развитием своего синдрома эти пациенты все более сосредоточиваются на контролировании своего мира, предотвращении неожиданностей и случайностей. Они избегают беспорядка и неопрятности и создают ритуалы, имеющие целью отвратить зло и угрозу. Эрвин Штраус отмечает, что отвращение к болезням, микробам, гниению, распаду, грязи, характерное для страдающих навязчивостями пациентов, имеет непосредственную связь со страхом личного уничтожения". У.Швиддер делится наблюдением, что защиты, выражающиеся в форме навязчивостей, не вполне эффективны в связывании тревоги смерти. В работе, описывающей исследование ста с лишним человек с навязчивостями и фобиями, он указывает, что более трети из них боялись удушья и темноты, и несколько большая часть пациентов испытывала явную тревогу смерти.
Герберт Лазарус и Джон Костан в своем обширном исследовании гипервентиляционного синдрома (очень распространенного состояния, на которое жалуются от 5 до 10 процентов всех людей, обращающихся за консультацией к врачу), указывают на основополагающую для данного состояния динамику тревоги смерти, трансформируемой в ряд различных фобий. Гипервентиляционная паника является результатом неспособности в достаточной мере связать тревогу смерти.
Д.Б.Фридман описывает пациента с неврозом навязчивых состояний, у которого тревога смерти приняла форму навязчивой мысли, что он будет всеми забыт. С этой мыслью было связано также его беспокойство о том, что все интересное в мире происходит без него. «Все по‑настоящему новое случается только тогда, когда меня нет рядом, до моего времени или после, до того, как я родился или после того, как я умру».
У ипохондрика, постоянно озабоченного сохранностью и благополучием своего тела, тревога смерти лишь слабо замаскирована. Ипохондрия часто начинается после тяжелой болезни самого пациента или кого‑то из его близких. По наблюдению В.Крала, для ранней стадии этого заболевания характерно непосредственное переживание страха смерти, позже «распределяющегося» среди многих телесных органов.
В нескольких клинических исследованиях говорится о центральной роли тревоги смерти в деперсонализационных синдромах. Например, Мартин Рот нашел, что у более чем 50 процентов пациентов толчком к манифестации деперсонализационного синдрома являлась смерть или тяжелая болезнь.
У этих невротических синдромов имеется одно общее качество. ограничивая человека и причиняя ему неудобства, они, тем не менее, успешно защищают его от ужаса неприкрытой тревоги смерти.
Тревога смерти: эмпирическое исследование
Последние три десятилетия в эмпирических социальных науках наблюдался постоянный, хотя и слабый поток исследований на тему смерти. Практически каждая научная статья, посвященная смерти, начинается с призыва к исследованиям и жалобы либо возмущенного протеста по поводу недостаточности тщательных изысканий. После обзора литературы мне остается лишь выразить то же самое. Расхождение между количеством спекулятивных или импрессионистических текстов на тему смерти, с одной стороны, и методологически выдержанных исследовании – с другой, не может не поразить. В частности, библиография по этой теме до 1972 года включает более 2600 книг и статей, из которых лишь менее двух процентов посвящены эмпирическим исследованиям, а непосредственное отношение к экзистенциальной теории и терапии имеют и того меньше.
Для того чтобы исследование имело хотя бы отдаленное отношение к настоящей дискуссии, в нем должны быть затронуты следующие вопросы: распространенность тревоги смерти; корреляции между тревогой смерти и рядом параметров – демографических (возраст, пол, семейное положение, род занятии, вероисповедание, образование и т.д.), личностных (шкалы MMPI, уровни общей тревоги и депрессии), жизненного опыта (ранняя утрата близких, пребывание в специальном детском или лечебном учреждении); связь тревоги смерти с психопатологией и другим психологическим содержанием, особенно с фантазиями, сновидениями и кошмарами.
Но, как указывают Роберт Кастенбаум и Рут Айзенберг в своем вдумчивом обзоре, научные исследования, за немногими исключениями, либо охватывают очень узкий спектр переменных, либо методологически несостоятельны. Исследуемые понятия зачастую точно не определены; например, не разграничиваются страх собственной смерти, страх смерти другого и страх последствий собственной смерти для других.
Однако еще более серьезная проблема состоит в том, что в большинстве работ оцениваются сознательные позиции по отношению к смерти или осознаваемая манифестная тревога. Вдобавок, словно для того, чтобы еще больше осложнить ситуацию, в научных исследованиях (за редкими исключениями) используется второпях придуманный инструментарий – доморощенные шкалы, валидность и надежность которых остаются загадкой.
Интересно одно исследование, проведенное в рамках профессии. Студентов‑медиков тестировали с помощью шкалы осознаваемой тревоги смерти и шкалы «авторитарности» (F‑шкала Калифорнийского личностного опросника). Была обнаружена негативная связь между тревогой смерти и авторитарностью, чем выше авторитарность, тем ниже тревога смерти, и наоборот. Более того, студенты, выбравшие в качестве специализации психиатрию, имели более высокую тревогу смерти (и были менее авторитарны), чем студенты, избравшие хирургию. Возможно, хирурги лучше защищены от тревоги смерти, – если только психиатры не лучше ее сознают. (Возможно также, что будущие психиатры имеют более высокую исходную тревогу смерти и именно потому, в поисках собственного облегчения, выбирают сферу психического здоровья.)
Согласно результатам нескольких научных программ, у глубоко религиозных людей тревога смерти ниже. Студенты, потерявшие одного родителя, имеют более высокую тревогу смерти. Большинство исследований не обнаруживают значительных различий в зависимости от возраста, хотя наблюдается позитивная корреляция между тревогой о смерти и близостью смерти. Исследование наиболее распространенных страхов, проведенное среди тысячи студентов колледжа, показывает, что в этой группе связанные со смертью страхи занимают очень большое место.
В нескольких научных отчетах продемонстрировано, без попытки объяснения, что у женщин осознаваемая тревога смерти выше, чем у мужчин.*
* В большом исследовании (N=825) не было обнаружено различий по изучавшимся параметрам между мужчинами и женщинами, однако внимательный анализ данных показал, что женщины менее, чем мужчины, склонны отвечать на тревожные вопросы. Например, на вопрос «Можете ли вы живо представить себя умирающим(ей) или мертвым(ой)?» ответили 98 процентов мужчин и только 78 процентов женщин.
Изучение осознаваемой тревоги смерти, хотя и представляет определенный интерес, все же не слишком помогает понять личностную структуру и психопатологию. Главный тезис динамической психологии состоит в том, что сильная тревога не остается сознательной: она вытесняется и «перерабатывается». Один из главных этапов переработки тревоги – сепарация или изоляция аффекта от объекта. Так, например, мысль о смерти вызывает у человека лишь легкий дискомфорт, и в то же время он переживает смещенную тревогу, в которой мало что указывает на ее подлинный источник. В нескольких кратко обсуждаемых ниже исследованиях различие сознаваемой и неосознаваемой тревоги смерти не игнорируется и делается попытка исследовать страх смерти на бессознательном уровне. В них использовался такой инструментарии, как ТАТ,* тест Роршаха, анализ сновидений, словесные ассоциации, незаконченные предложения, тахистоскопическая проекция и кожно‑гальваническая реакция.
* Тематический Апперцептивный тест
Тревога смерти и психопатология
Осознаваемая тревога смерти. Попытки оценить соотношение между осознаваемой тревогой смерти и психопатологией описываются в нескольких спорадических сообщениях. У студентов‑добровольцев наблюдалась положительная корреляция между тревогой смерти и невротизмом (по шкале невротизма Айзенка). Обитатели тюрем, осужденные за «малые» правонарушения (других деталей об этих правонарушениях не сообщается), по сравнению с контрольной нормой имели достоверно большие показатели тревоги смерти, интереса к теме смерти, страха похорон и страха внутренних заболеваний, а также осознания подавления мыслей о смерти. Осознаваемая тревога смерти у психиатрических пациентов престарелого возраста положительно коррелирует со шкалой депрессии MMPI; более того, эта корреляция оказалась настолько велика, что исследователи предложили рассматривать повышенную тревогу смерти у пожилых людей как часть депрессивного синдрома. В том же исследовании не было обнаружено корреляции между тревогой смерти и соматической симптоматикой (оцениваемой по Медицинскому индексу Корнелла). Может быть, соматизация возникает в ответ на тревогу смерти и действует как ее заместитель.
Исследования показывают отсутствие явной тревоги смерти в нормальной пожилой популяции, однако при психологической незрелости или наличии психиатрического расстройства у пожилых людей обнаруживаются свидетельства высокой тревоги смерти. У подростков тревога смерти в целом выше, чем в других возрастных группах; здесь мы вновь обнаруживаем, что индивиды с признаками психопатологии (в исследовании, о котором идет речь, эти признаки заключались в делинквентных поступках, достаточно серьезных, чтобы вести к тюремному заключению) обнаруживают более высокую тревогу смерти, чем контрольная группа. Исследование нормальных и «субнормальных институционализированных» девушек показало, что у обитательниц специальных учреждений имеется больше страхов, явным образом связанных со смертью. Аналогичные результаты получил другой автор, который нашел, что плохо успевающие ученицы средней школы испытывают значительно более сильный страх смерти – «зачастую настолько всепроникающий, что допускает лишь косвенное сообщение о нем».
Бессознательная тревога смерти. Однако изучение сознаваемой тревоги смерти мало что дает для понимания роли тревоги смерти в психодинамике. Поэтому некоторые исследователи попытались изучить бессознательное беспокойство о смерти. Фейфель и его коллеги выделили три уровня проблематики смерти: 1) сознательный (оцениваемый по ответу на вопрос: «Боитесь ли Вы своей смерти?»), 2) фантазийный (определяемый путем оценивания позитивности ответов на вопрос. «Какие мысли или образы приходят Вам в голову, когда Вы думаете о смерти?»); 3) подпороговое сознавание смерти (оцениваемое по среднему времени реакции на связанные со смертью слова в тесте словесных ассоциаций и тесте словесно‑цветовой интерференции).
Исследователи обнаружили, что озабоченность смертью на этих уровнях очень различается. На сознательном уровне подавляющее большинстве испытуемых (свыше 70 процентов) отрицали страх смерти. На фантазийном уровне его отрицали 27 процентов, 62 процента отвечали амбивалентно и 11 процентов обнаружили признаки выраженной тревоги смерти. На бессознательном уровне у большинства испытуемых проявилось сильное отвращение к смерти. Основное различие между нормальными, невротическими и психотическими испытуемыми состояло в том, что у психотических пациентов суммарная тревога смерти была больше, чем у остальных. Испытуемые более старшего возраста и более религиозные на сознательном уровне воспринимали смерть «в относительно позитивном ключе, однако в самой глубине они поддавались тревоге». В этих исследованиях использовался грубый инструментарий, однако они убедительно показали необходимость изучать отношение к смерти на разных уровнях сознания.
В.В.Мейснер в интересном эксперименте продемонстрировал существование значительной бессознательной тревоги. Он измерял кожно‑гальваническую реакцию (КГР) нормальных испытуемых, которым были предъявлены пятьдесят слов и словосочетаний: тридцать нейтральных и двадцать символически связанных со смертью (например, «черный», «догорающая свеча», «путешествие», «спящий человек», «безмолвный», «переход по мосту»). Символы смерти вызывали значительно более сильную кожно‑гальваническую реакцию, чем контрольные слова.
Клас Магни оценивал бессознательную тревогу смерти иным способом. В тахистоскопической проекции с возрастающим временем экспозиции предъявлялись изображения, имеющие отношение к смерти (похороны, разложившиеся и изувеченные трупы и т.д.). Магни измерял время, требующееся испытуемому для распознавания изображения. Он показал, что у студентов‑богословов, собирающихся стать приходскими священниками, это время было достоверно меньше (и, предположительно, меньше бессознательная тревога смерти), чем у студентов‑богословов, планирующих для себя академическую или преподавательскую карьеру. Несколько работ, где использовались данные интервью или ТАТа, указывают на то, что индивиды с более высоким уровнем невротизма отличаются и более высокой тревогой смерти.
Исследования бессознательной тревоги смерти у престарелых, проведенные с использованием ТАТа и неоконченных предложений, показывают, что пожилые люди, которым предоставлено отдельное жилье с обстановкой, приближенной к привычной, испытывают меньшую тревогу смерти, чем обитатели традиционных учреждений для престарелых". Более того, престарелые люди, вовлеченные в различную жизненную активность, меньше подвержены тревоге смерти. Тревога смерти по ТАТу положительно коррелирует с невротическими шкалами MMPI (ипохондрией, зависимостью, импульсивностью и депрессией). Исследование бессознательной тревоги смерти (прожективный тест неоконченных предложений) среди взрослых от среднего до престарелого возраста продемонстрировало, что у более молодых из них тревога смерти выше.
Если страх смерти – первичный источник тревоги, то он должен обнаруживаться в сновидениях, где неосознаваемые содержания зачастую представлены в относительно открытой форме. Большое нормативное исследование показало, что 29 процентов снов свидетельствуют о явной тревоге смерти. Обширное исследование кошмаров выявило, что в тревожных сюжетах, наиболее распространенных у взрослых, они умирают или их убивают. В других часто встречавшихся сюжетах также присутствовала тема смерти, умирал член семьи или другой человек; жизни сновидца угрожал несчастный случай или преследователь. Имеется ли корреляция между сознаваемой тревогой смерти и частотой ночных кошмаров? Результаты исследований противоречивы и разнятся в зависимости от того, каким образом измерялась тревога смерти. Однако испытуемым, пережившим (особенно в возрасте до десяти лет) смерть близких друзей или родственников, кошмары с участием смерти снятся чаще. В одной работе получен интригующий результат: сознательная тревога смерти и тема смерти в сновидениях соотносятся по криволинейному закону. Иначе говоря, смерть чаще снится людям с очень высокой либо очень низкой сознательной тревогой смерти. Может быть, высокая сознательная тревога смерти отражает слишком высокую бессознательную тревогу, которая не поддается сдерживанию и выплескивается в неудавшиеся сны (кошмары) и в сознание. Очень низкая сознательная тревога смерти (ниже среднего уровня) может свидетельствовать о высокой бессознательной тревоге смерти, которая у человека в состоянии бодрствования сдерживается с помощью отрицания и вытеснения, но цензор сновидений перед ней капитулирует.
В целом можно сказать, что данные исследований тревоги смерти весьма ограниченно могут способствовать нашему пониманию роли страха смерти в психопатологии и психотерапии. Большинство этих работ заключается в оценке соотношения сознательной тревоги смерти (определяемой по достаточно грубым шкалам) с рядом демографических и психометрических переменных. В них показаны определенные положительные корреляции высокой тревоги смерти с депрессией, ранней потерей значимого другого, слабой либо отсутствующей религиозностью и выбором профессии. В других исследованиях, предметом которых являются более глубокие пласты психики, показано, что значительная доля тревоги смерти находится вне сознания; по мере движения от сознательных переживаний к бессознательным тревога смерти возрастает; страх смерти подстерегает нас в наших сновидениях; люди престарелого возраста больше боятся смерти, если они психологически незрелы или мало вовлечены в жизненную активность; наконец, тревога смерти, как сознательная, так и бессознательная, связана с невротизмом.
НЕВНИМАНИЕ К СМЕРТИ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ПСИХОТЕРАПИИ
Все, что выше было сказано о смерти – с точки зрения культурной традиции, клинического опыта и эмпирических исследований – имеет непосредственное отношение к психотерапии. Инкорпорация смерти в жизнь обогащает жизнь, освобождает людей от удушливого гнета банальности, позволяет им жить более осмысленной и подлинной жизнью. Полное осознание смерти может дать толчок к кардинальным личностным изменениям. В то же время смерть – базисный источник тревоги, ею наполнен наш внутренний опыт, и мы защищаемся от нее посредством ряда личностных динамик. Более того: как будет обсуждаться в главе 4, дезадаптивные защиты от тревоги смерти порождают огромный спектр особенностей, симптомов и черт характера, которые мы называем «психопатологическими».
Однако, несмотря на эти более чем достаточные основания, психотерапевты редко говорят о смерти. Смерть не замечается, и не замечается самым вопиющим образом, почти во всех областях профессиональной сферы, связанной с психическим здоровьем, – в теории, фундаментальных и клинических исследованиях, клинической практике. Единственное исключение составляет сфера, где смерть невозможно игнорировать: забота об умирающих. Статьи о смерти появляются в психотерапевтической литературе лишь эпизодически, обычно во второ– или третьеразрядных журналах и по форме представляют собой описания случаев. Это продукция «на любителя», далекая от основного русла теории и практики.
Описания клинических случаев
«Упускания» страха смерти, в частности, в клинических описаниях случаев настолько вопиющи, что хочется думать как минимум о некоем «заговоре молчания». В клинических описаниях встречаются три стратегии обращения с темой смерти. Первая: авторы селективно невнимательны к этой теме и не сообщают ни о каком материале по ней. Вторая: авторы дают обширный клинический материал по теме смерти, но в динамическом анализе случая игнорируют его полностью. Так обстоит дело, например, в описаниях случаев у Фрейда, чему я приведу короткие свидетельства. Третья стратегия, авторы включают в свое сообщение связанный с темой смерти клинический материал, однако при анализе случая интерпретируют его в рамках другой концепции, отвечающей их идеологической школе.
В широко цитируемой статье «Позиции психоневротиков по отношению к смерти», опубликованной в ведущем журнале, два видных клинициста, Уолтер Бромберг и Пол Шильдер, приводят описания нескольких случаев, где смерть играет заметную роль. Например, одной пациентки острая тревога развилась после смерти подруги, вызывавшей у нее определенные эротические желания. Хотя сама пациентка утверждала, что страх собственной смерти развился у нее после того, как она видела смерть подруги, авторы приходят к выводу, что «…ее реакция тревоги была вызвана бессознательной гомосексуальной привязанностью, с которой она боролась… Собственная смерть означала для нее воссоединение с умершей гомосексуальной возлюбленной… Умереть означает вновь соединиться с утраченным объектом любви».
Другая пациентка, отец которой был владельцем похоронного бюро, так описывала свою тяжелую тревогу: «Я всегда боялась смерти. Я боялась, что проснусь, когда они будут бальзамировать меня. У меня есть это странное чувство надвигающейся смерти. Мой отец был владельцем похоронного бюро. Когда я находилась рядом с трупами, я никогда не думала о смерти… но теперь мне хочется убежать… Я постоянно думаю об этом… Я словно отбиваюсь от нее». Авторы заключают, что «тревога в связи со смертью выражает подавленное желание быть пассивной и быть объектом манипулирования отца – владельца похоронного бюро». По их мнению, тревога пациентки есть результат ее защиты от этих опасных желаний и ее стремления к самонаказанию за инцестуозное желание. Другие случаи, описанные в той же статье, также могут служить примерами интерпретации страха смерти как чего‑то другого, что авторы считают более фундаментальным. «Для этого мальчика смерть означает конечное садомазохистическое удовлетворение в гомосексуальном единении с отцом» или «смерть означает для него сепарацию от матери и прекращение выражения его бессознательных либидинозных желаний».
Не может не возникнуть вопрос: откуда такая тяга к переводу смерти во что‑то иное? Если в жизни пациента есть ограничения, вызванные, допустим, страхом открытых пространств, собак или радиоактивных осадков, либо его поглощают навязчивые размышления о чистоте или о том, заперта ли дверь, – тогда, вероятно, есть смысл переводить эти поверхностные проблемы в нечто более фундаментальное. Но, res ipsa loquitur, почему бы страху смерти не быть просто страхом смерти, не переводимым в «более глубокий» страх? Возможно – и об этом пойдет речь ниже – невротический пациент нуждается отнюдь не в таком переводе; возможно, он не находится вне контакта с реальностью, а напротив оказался слишком близко к истине, поскольку ему не удалось выстроить «нормальные» отрицающие защиты.
Клинические исследования
Невнимание к концепции смерти имеет далеко идущие последствия и для клинических исследований. Одним из примеров может служить тема утраты и горя. Психологическая адаптация после утраты близкого в подробнейших деталях изучалась многими исследователями, однако никто из них не учитывал, что речь идет не только о «потере объекта», но и об угрозе потери себя самой или самого. Утрата несет с собой сообщение: «Если твоя мать (отец, ребенок, друг, супруг) умерла, значит, ты тоже умрешь». (У моего пациента вскоре после того, как он потерял своего отца, была галлюцинация голоса, пророкотавшего сверху: «Ты следующий».) В широко известной работе, посвященной исследованию вдов в течение первого года после потери мужей, автор приводит, например, такие слова своих испытуемых: «Я чувствую себя словно человек, идущий по краю ямы, дно которой теряется во тьме», а также их высказывания о том, что мир для них стал ненадежным и потенциально опасным местом, или что жизнь кажется им теперь бесцельной и бессмысленной, или что они чувствуют злобу, но эта злоба никуда не направлена. Я не сомневаюсь, что глубинный анализ любой из реакций, выраженных в этих высказываниях, привел бы исследователя к важным выводам о значении потери как переживания, которое может способствовать встрече человека с его собственной смертью. Но автор упомянутого исследования, так же как авторы других известных мне обширных работ, посвященных утрате близкого, исходил из другой системы понятий и потому не сделал этих выводов печальный пример того, как обедняется поведенческая наука в результате игнорирования интуитивно очевидных истин. В одном из первых произведений письменной литературы, вавилонском эпосе «Гильгамеш», созданном четыре тысячи лет назад, главный герой отлично знает, что смерть его друга, Энкиду, предвещает его собственную смерть: «Что за сон овладел тобой? Ты стал слеп и не можешь услышать меня. Когда я умру, не буду ли я как Энкиду? Скорбь входит в сердце мое, я боюсь смерти».
Клиническая практика
Некоторые терапевты утверждают, что их пациенты не выражают никакой озабоченности смертью. Я уверен, что здесь дело в терапевте, который не готов услышать об этом. Восприимчивый, глубоко вникающий в проблемы пациента терапевт в своей повседневной работе постоянно встречается со смертью.
Пациенты приносят огромное количество материала, связанного со смертью, стоит их чуть‑чуть в этом поддержать. Они рассказывают о смерти родителей или друзей, тревожатся о грядущей старости; выясняется, что смерть часто присутствует в их сновидениях; побывав на встрече своего класса, они остаются потрясены тем, как все постарели; с болью замечают власть над собою своих детей, но вдруг обнаруживают, что наслаждаются замшелыми стариковскими удовольствиями. Их внимание останавливается на множестве «малых смертей»: старческих бляшках, печеночных пятнах на коже, седых волосах, плохо сгибающихся суставах, сгорбленной позе, углубляющихся морщинах. Приближается пенсия, дети покидают дом, появляются внуки; наконец, их дети начинают брать на себя заботу о них. Их жизненный цикл замыкается вокруг них. У других пациентов преобладают страхи аннигиляции, которые могут быть выражены в часто встречающихся ужасных фантазиях об убийцах, вламывающихся в дом, или в состояниях страха, наступающих после просмотра сцен насилия в кино или по телевизору. В работе по завершению незавершенных дел, которая происходит в терапии каждого пациента, подводное течение мыслей о смерти непременно выходит на поверхность, если только терапевт готов его заметить.
Мой собственный клинический опыт с определенностью подтверждает вездесущность мыслей о смерти. Во время работы над этой книгой я получил значительное количество «невидимого» для меня прежде клинического материала. Несомненно, в известной степени я сам подводил пациентов к тому, чтобы они давали мне определенные свидетельства. Но я уверен, что, по большому счету, эти свидетельства всегда присутствуют. Просто прежде я не был настроен так, чтобы их воспринимать. Например, выше в этой главе я рассказывал о двух пациентках, Джойс и Бет, у которых были обыкновенные с клинической точки зрения проблемы, связанные с положением в социуме и с завершением межличностных отношений. При более глубоком исследовании этих проблем обе пациентки обнаружили значительное экзистенциальное беспокойство, которое я не смог бы распознать, не будь у меня соответствующего психологического настроя.
Другой пример того же «настроя» дала мне психотерапевт, посетившая мою субботнюю лекцию о тревоге смерти. Несколько дней спустя она написала мне письмо:
«…Я не ожидала появления этой темы в моей работе именно сейчас, поскольку я являюсь консультантом в колледже, где студенты обычно отличаются хорошим физическим здоровьем. Однако в понедельник утром на первом приеме я встретилась со студенткой, которая была изнасилована два месяца назад. С тех пор она страдала от многих неприятных и мучительных симптомов. Со смущенным смешком она заметила: „Я умираю то от одного, то от другого“. Наша беседа – благодаря, по крайней мере, отчасти, вашим наблюдениям – обратилась к ее страху смерти и к прежнему ее убеждению, что изнасилование, так же как и смерть, может случиться только с другими. Теперь она чувствует себя беззащитной и одолеваемой тревогами, которые раньше были подавлены. Судя по всему, она испытала облегчение, узнав, что вполне нормально говорить о том, что боишься умереть, даже если тело не страдает никакой смертельной болезнью».
Психотерапевтические сессии, которым предшествовала даже не столь близкая встреча со смертью, нередко дают обильный клинический материал. Особенно богатым источником служат, конечно, сны. Например, 31‑летняя женщина ночью после похорон старого друга увидела сон: «Я сижу перед телевизором. Приходит врач и стетоскопом обследует мои легкие. Я начинаю злиться и спрашиваю его, какое право он имеет это делать. Он отвечает, что я дымлю как паровоз. Он говорит, что мои легкие страдают болезнью 'песочных часов' на продвинутой стадии». Сновидица не курила, но ее покойный друг выкуривал по три пачки в день. Ее ассоциация с болезнью «песочных часов» была такова: «время на исходе».
Центральную роль в селективном невнимании терапевта к теме смерти в терапии играет отрицание. Это вездесущая и могущественная защита. Словно аура, она окружает связанный со смертью аффект всюду, где он появляется. (В одном анекдоте из огромной коллекции Фрейда мужчина говорит своей жене. «Если кто‑то из нас умрет раньше, я, наверно, перееду в Париж».) Терапевт тоже склонен к отрицанию, и в процессе терапии его отрицающие защиты вступают в коалицию с защитами пациента. Многие терапевты, несмотря на долгие годы личного анализа, не исследовали и не проработали собственный страх смерти. Они фобически избегают этой сферы в своей частной жизни и селективно игнорируют ее в своей психотерапевтической практике.
Кроме индивидуального отрицания терапевтом, существует коллективное отрицание в психотерапии. Это коллективное отрицание наилучшим образом можно понять, если рассмотреть вопрос о том, почему смерть отсутствует в формальных теориях тревоги. Несмотря на то, что и в теории, и в повседневной практике динамической психотерапии смерть играет неоспоримую центральную роль, – в традиционной динамической теории тревоги ей не оставлено места. Чтобы изменить терапевтическую практику, найти применение концепции смерти как терапевтическому инструменту, необходимо выявить роль смерти в генезисе тревоги. Нет лучшего пути к этому, чем проследить эволюцию психодинамических концепций тревоги и попытаться понять систематическое исключение из них концепции смерти.
ФРЕЙД: ТРЕВОГА БЕЗ СМЕРТИ
Идеи Фрейда оказали настолько сильное влияние, что эволюция динамической мысли в огромной степени является эволюцией мысли Фрейда. Я уверен, что, при всей его невероятной интуиции, тема смерти для него оставалась слепым пятном, скрывавшим некоторые очевидные аспекты внутреннего мира человека. Я изложу некоторый материал, иллюстрирующий избегание этой темы Фрейдом в его клинических и теоретических рассуждениях и затем выдвину предположения о причинах этого избегания.
Избегание темы смерти Фрейдом
Первым значительным клиническим и теоретическим вкладом Фрейда являются «Исследования истерии», написанные им вместе с Йозефом Брейером в 1895 г. В этой работе обращает на себя внимание ярко проявившееся избирательное игнорирование смерти. «Исследования истерии» ознаменовали рождение динамической терапии, и они же заложили основу для исключения из нее темы смерти. В этой книге представлены пять больших случаев, один – Брейера (Анны О.) и четыре Фрейда. В комментариях и дискуссионных разделах фрагментарно сообщается еще о нескольких случаях. Каждый пациент начинает терапию с ярко выраженными симптомами, такими как паралич, анестезии, боли, тики, нервное истощение, навязчивости, ощущения удушья, потеря вкуса и обоняния, речевая дезорганизация, амнезия и т.д. Исходя из исследования этих пяти пациентов, Фрейд и Брейер сформулировали этиологию истерии и разработали соответствующую систематическую терапию.
Все пятеро в ранние годы жизни пережили серьезные эмоциональные травмы. Фрейд отмечает: обычно травма, хотя и действует дестабилизирующе, все же не имеет долговременного эффекта, потому что вызванные ею эмоции не сохраняются в исходном виде: они отреагируются (в результате эффективного выражения эмоции наступает катарсис) либо прорабатываются (Фрейд утверждает, что память травмы может стать частью «огромного комплекса ассоциаций, стать рядом с другим опытом», и затем она «стирается», или корректируется, или подвергается проверке реальностью – например, когда человек справляется с обидой, размышляя в ответ о своих достижениях и достоинствах.)
Однако у тех пяти пациентов последствия травмы не исчерпали себя, но продолжали преследовать свою жертву. («Истерик страдает от реминисценций».) Фрейд высказал гипотезу, что память травмы и сопутствующие эмоции были вытеснены из их сознания (это было первое употребление понятий вытеснения и бессознательного) и потому избежали нормальных процессов диссипации аффекта. Подавленный аффект, сохранивший в бессознательном свои свежесть и силу, нашел некоторый доступ в сознание через конверсию (отсюда «конверсионная истерия») в физические симптомы.
Выводы для лечения очевидны, следует дать пациенту возможность вспомнить травму и выразить задавленный аффект. Чтобы помочь пациентам восстановить исходное травматическое воспоминание и выразить аффект вербально и поведенчески, Фрейд и Брейер использовали гипноз и Фрейд позже свободные ассоциации.
Идеи Фрейда о возникновении и распаде аффекта, о формировании симптомов, а также размышления об основанной на этих идеях системе терапии имеют кардинальное значение и в немалой мере предвосхищают последующее развитие динамической теории и терапии. К нашей теме наиболее непосредственное отношение имеет взгляд Фрейда на источник дисфорического аффекта – на природу первичной травмы. На протяжении книги Фрейда и Брейера теория симптомов и подход к терапии не меняются, однако от первого пациента к последнему описания Фрейдом природы травмы, ответственной за симптомы, претерпевают удивительную перемену. (В своем введении он утверждает: «Тому, кто интересуется процессом развития, приведшим от катарсиса к психоанализу, я не могу дать лучшего совета, чем начать с „Исследований истерии“ и затем следовать по пути, пройденному мной самим».).
В первых описанных в книге случаях травмы выглядят тривиальными. Читателю предлагают поверить в возможность развития глубокого невротического состояния у пациента (пациентки) в результате преследования злой собакой, или удара тростью работодателем, или обнаружения им того, что горничная позволяет собаке пить из его стакана, или влюбленности в работодателя и одновременной принужденности терпеть его несправедливые упреки. По ходу книги объяснения Фрейдом способствовавших неврозу травм становятся все более изощренными. Он готов был видеть в своих пациентах жертвы архетипических обстоятельств, достойных внимания автора греческих трагедий: ненависти детей (создававших жене препятствия в том, чтобы ухаживать за умирающим мужем), инцестуозных отношений с родителем, переживания первичной сцены и радости (с сопутствующим чувством вины) от смерти сестры, мужа которой пациентка любила. Эти последние случаи из книги, а также примечания и письма Фрейда, указывают совершенно определенное направление, в котором неуклонно следовала мысль Фрейда в поисках истоков тревоги. 1) он постепенно смещал время травмы, являющейся «подлинной» причиной тревоги, все дальше к началу жизни, 2) он стал рассматривать травму как имеющую явно и исключительно сексуальный характер.
Размышления Фрейда об эмоциональных травмах пяти его пациентов постепенно развились в формальную теорию тревоги. Тревога – сигнал ожидаемой опасности, зародыш тревоги появляется в ранний период жизни, когда происходит значимая травма; память о травматическом событии вытесняется, и сопутствующий ей аффект трансформируется в тревогу. Ожидание повторения травмы или иной аналогичной опасности может пробуждать тревогу.
Какого рода травмы оказывают подобное воздействие? Какие события столь неисправимо злокачественны, что их отзвук преследует человека всю жизнь? В первом ответе Фрейда на этот вопрос подчеркивалась важность аффекта беспомощности. «Тревога – первичная реакция на беспомощность, впоследствии воспроизводящаяся как призыв о помощи в предвосхищении травмы». Следовательно, задача состоит в том, чтобы определить ситуации, сопряженные с беспомощностью. Поскольку концепция тревоги составляет ядро психоаналитической теории и поскольку Фрейд в течение всего своего профессионального пути не переставал смело трансформировать базисную теорию, неудивительно, что его утверждения о тревоге многочисленны, разнообразны и порой противоречат друг другу. Однако два первичных источника тревоги все же устояли во всех беспрестанных ревизиях Фрейдом собственного творения. Это потеря матери (оставление и сепарация) и потеря фаллоса (тревога кастрации). В числе других важных источников тревоги тревога Супер‑Эго, или моральная тревога, страх собственных саморазрушительных тенденций и страх дезинтеграции Эго одоления темными, иррациональными ночными силами, обитающими внутри.
Хотя Фрейд часто упоминал другие источники тревоги, основной акцент он делал на оставлении и кастрации. Он был уверен, что эти два «порождения психического похмелья» терзают нас в течение всей нашей бодрствующей жизни, а во сне дают пищу двум широко распространенным кошмарам кошмару падения и преследования. Вечный археолог, постоянно стремящийся раскопать все более глубинные структуры, Фрейд предположил, что для кастрации и сепарации характерно нечто общее. Это потеря – потеря любви, потеря способности соединяться с матерью. Хронологически сепарация имеет более раннее происхождение: по сути, она заложена уже в травме рождения, то есть отсчитывается с первого мгновения жизни. Однако Фрейд в качестве общего, первичного источника тревоги выбрал кастрацию. Он предположил, что ранняя сепарация делает индивида особо восприимчивым к кастрационной тревоге, которая, развившись, вбирает в себя более ранний опыт тревоги.
Если обратиться к исходному материалу (случаям из «Исследований истерии»), на котором основываются заключения Фрейда о тревоге и травме, бросается в глаза разительное расхождение между фактическими данными и выводами Фрейда: клинические истории этих пациентов настолько наполнены смертью, что лишь сверхусилием невнимания мог Фрейд исключить ее из сферы своего поиска травмы‑катализатора. Двое из пяти пациентов обсуждаются лишь конспективно. (Пациентку Катарину, которая прислуживала Фрейду во время его отдыха на курорте, он лечил в течение одной‑единственной сессии.) Три главные пациентки – Анна О., фрау Эмма фон Н. и фройляйн Элизабет фон Р. (их истории являются первыми динамическими описаниями случаев в психиатрической литературе) замечательны тем, что их клинические описания переполнены упоминаниями о смерти. Более того, будь Фрейд специально заинтересован тревогой смерти, он бы, вероятно, обнаружил и изложил нам еще больше материала на эту тему.
Например, болезнь Анны О. развилась тогда, когда заболел (и десять месяцев спустя умер) ее отец. Она вначале неутомимо ухаживала за ним, но затем ее собственная болезнь, выражавшаяся в причудливых измененных состояниях сознания, амнезии, речевой дезорганизации, анорексии, сенсорных и мышечных конверсионных синдромах, отдалила ее от умирающего отца. В течение последующего года ее состояние сильно ухудшалось. Брейер видел поглощенность Анны О. темой смерти. Он заметил, например, что при всех ее «странных и быстро меняющихся расстройствах сознания была одна вещь, которая, судя по всему, оставалась большую часть времени осознаваемой: факт, что ее отец мертв».
В тот период, когда Брейер с помощью гипноза лечил Анну О., у нее были ужасающие галлюцинации, связанные со смертью отца. Однажды, еще ухаживая за ним, она упала в обморок: он привиделся ей с головой смерти. (В период прохождения терапии она однажды взглянула в зеркало и увидела в нем не себя, а своего отца с головой смерти, пристально уставившегося на нее.) В другой раз у нее было видение черной змеи, собирающейся напасть на ее отца. Анна О. попыталась бороться со змеей, но ее рука заснула, и в галлюцинации ее пальцы превратились в змей, а каждый ноготь – в крошечный череп. Брейер полагал, что эти галлюцинаторные образы порождены страхом смерти, являющимся первопричиной ее болезни: «В последний день [лечения], когда в приемном кабинете мебель была переставлена так, чтобы он напоминал комнату, где лежал больной отец, она воспроизвела устрашающие галлюцинации, описанные мною выше и коренящиеся в ее болезни».
Фрау Эмма фон Н., как и Анна О., заболела непосредственно после смерти самого близкого человека мужа. Фрейд ввел фрау Эмму фон Н. в состояние гипноза и попросил сообщить важные ассоциации. Она тут же выдала целую серию связанных со смертью воспоминаний: ее сестра в гробу (пациентке было семь лет); брат, который напугал ее, нарядившись привидением; братья и сестры бросали в нее мертвых животных, и ей было страшно; ее тетя в гробу (пациентке девять лет); она нашла лежащую без сознания мать, с которой случился удар (в пятнадцать); в девятнадцать она нашла мать мертвой; в те же девятнадцать она ухаживала за умиравшим от туберкулеза братом и потом оплакивала его смерть; затем она стала свидетельницей внезапной смерти мужа. На первых пяти страницах описания ее случая имеется не менее одиннадцати явных упоминаний смерти, умирания или трупов. На протяжении всего описания фрау Эмма фон Н. открыто обсуждает свой всепроникающий страх смерти.
Болезнь третьей пациентки, фройляйн Элизабет фон Р., зрела в течение восемнадцати месяцев, когда она ухаживала за умирающим отцом и наблюдала неотвратимое разрушение семьи: одна сестра переехала жить в отдаленное место, мать страдала серьезной болезнью, отец умер. Болезнь фройляйн Элизабет вырвалась на поверхность и проявилась в полную силу, когда после всего этого умерла горячо любимая старшая сестра. В ходе терапии Фрейд, стремясь стимулировать возвращение старых воспоминаний и аффектов, дал пациентке задание посетить могилу сестры (с подобной же целью Брейер переменил облик своей приемной так, чтобы она походила на комнату, в которой умер отец Анны О.).
Фрейд считал, что тревогу вызывают обстоятельства, ассоциирующиеся с ранними, давно забытыми ситуациями ужаса и беспомощности. Несомненно, связанные со смертью травмы этих пациенток были именно такими ситуациями. Однако в резюме, завершающих описания каждого случая, Фрейд полностью игнорирует тему смерти или просто отмечает порожденный утратой генерализованный стресс. В его формулировках на первый план выходят эротические компоненты травмы каждой из пациенток.* Так, когда сестра фройляйн Элизабет умерла, Фрейд помогал своей пациентке признать, что в глубине души она была рада (а затем почувствовала вину за эту радость): теперь муж сестры, о котором она мечтала, мог на ней жениться. Важное открытие: бессознательное, это заточенное в подвале психики скопление рудиментарных примитивных желаний, которые не подобает выносить на свет божий, на короткое время вырвалось в сознание и породило огромную тревогу, в конце концов связанную конверсионной симптоматикой.
* Роберт Джей Лифтон в «Разорванной связи» («The Broken Connection», New York: Simon amp; Schuster, 1979) делает практически такое же наблюдение относительно важного пациента Фрейда, маленького Ганса, и заключает, что теория либидо «рассмертила» смерить. К сожалению, книга Лифтона вышла из печати уже после того, как я завершил свою книгу, что лишило меня возможности существенно воспользоваться его плодотворными идеями и подходами. Это глубокая, важная работа, заслуживающая внимательного чтения.
Конечно же, Фрейд выявил важные конфликты у каждого из пациентов. Однако то, что он опустил, также заслуживает внимательного изучения. Смерть родителя, супруга или другого близкого – это больше, чем просто генерализованный стресс, и больше, чем утрата важного объекта. Это активизация защиты отрицанием. Если, как полагал Фрейд, фройляйн Элизабет после смерти своей сестры хоть на мгновение подумала: «Теперь ее муж снова свободен, и я смогу стать его женой», тогда она наверняка также содрогнулась от мысли: «Если моя дорогая сестра умерла, значит, я тоже умру». То, что происходило с фройляйн Элизабет после смерти сестры, было и с Анной О. после смерти отца, и с Эммой фон Н. после смерти мужа: каждая в глубинах души увидела картину собственной смерти.
В последующих формулировках Фрейда, касающихся источников тревоги, любопытнейшим образом продолжала отсутствовать смерть. Он твердо остановился на потере – потере пениса и потере любви. Этот стиль поведения не характерен для него. Где неустрашимый археолог, раскапывающий все новые и новые слои? Фрейд неизменно стремился дойти до скальной основы: он всегда интересовался первопричинами, самыми ранними проявлениями, рассветом жизни, обычаями первобытных людей, допотопной ордой, фундаментальными влечениями и инстинктами. Однако тема смерти резко остановила его. Почему он не сделал еще один очевидный шаг к тому, что лежит за оставлением и кастрацией? Обе концепции покоятся на онтологическом фундаменте. Оставление и смерть неразделимо сплетены в единую ткань: оставленный в одиночестве примат всегда погибает, а в человеческом обществе изгнанника неизменно ожидает социальная смерть, за которой быстро следует смерть физическая. Кастрация в метафорическом смысле синонимична уничтожению, а понимаемая в буквальном смысле (Фрейд, увы, понимал именно так), она также ведет к смерти, поскольку кастрированный индивид не может бросить свое семя в будущее, не может избежать вымирания.
В работе «Подавление, симптомы и тревога» («Inhibitions, Symptoms and Anxiety») Фрейд коротко остановился на роли смерти в этиологии неврозов, однако в результате обесценил ее как поверхностную. (Позже я не премину остановиться на противоречивости аналитических представлений о «глубинном» и «поверхностном».) В отрывке, бесчисленное множество раз цитированном теоретиками, Фрейд объясняет, почему он не рассматривает страх смерти в качестве первичного источника тревоги.
«Представляется совершенно невероятным, чтобы невроз мог развиться только вследствие объективного наличия опасности, без влияния глубинных слоев психического аппарата. Однако едва ли бессознательное содержит в себе что‑либо, могущее наполнить содержанием нашу концепцию уничтожения жизни. Кастрацию можно представить себе по аналогии с отделением фекалий от тела, испытываемым нами повседневно, или с потерей материнской груди при отнятии от груди. Но ничто, подобное смерти, не может быть пережито, а если и случается, как обморок, то не оставляет после себя заметных следов. Поэтому я склонен придерживаться взгляда, что страх смерти подобен страху кастрации и что таким образом Эго реагирует на ситуацию, когда оно чувствует себя оставленным Супер‑Эго – утратившим благосклонность сил судьбы и лишенным какой‑либо защиты от окружающих опасностей».
Здесь серьезно нарушена логика. Вначале Фрейд утверждает, что, поскольку у нас нет опыта смерти, она не может быть репрезентирована в бессознательном. Но есть ли у нас опыт кастрации? Фрейд признает: непосредственного опыта нет; однако, говорит он далее, есть опыт других потерь, психологически эквивалентный: повседневный опыт испражнения и опыт отнятия от груди. Конечно же, связь между кастрацией, выделением фекалий и отнятием от груди логически не более убедительна, чем представление о врожденном интуитивном сознавании смерти. Честно говоря, идея замены смерти кастрацией настолько слаба, что мне даже неловко ее оспаривать, – как если бы я вступал в борьбу с явно увечным противником. Например, ни у кого не вызывает сомнений, что женщины тоже испытывают тревогу; акробатические усилия, требуемые для приложения теории кастрации к женщинам, – это воистину большой спорт аналитической метапсихологии.
Мелани Кляйн открыто критиковала эту странную фрейдовскую инверсию первичностей: «Страх смерти усиливает страх кастрации, но не сходен с ним поскольку репродукция необходимый путь противостояния смерти, утрата гениталий означает лишение творческой силы сохранения и продолжения жизни». Кляйн не разделяла также точку зрения Фрейда, что в бессознательном отсутствует страх смерти. Принимая более поздний его тезис о существовании в глубочайших слоях бессознательного инстинкта смерти (Танатоса), она утверждала, что «также присутствующий в бессознательном страх смерти противостоит этому инстинкту».
Несмотря на возражения Кляйн, как и Ранка, Адлера и других, устроивших «партизанскую войну», Фрейд сохранил свою точку зрения и стал основоположником культа отрицания смерти, продолженного не одним поколением терапевтов. Ведущие психоаналитические руководства выражают и укрепляют эту тенденцию. Отто Фенихель утверждает, что «поскольку смерть субъективно непостижима, страх смерти всегда скрывает за собой другие, неосознаваемые идеи». Роберт Велдер полностью избегает упоминаний о смерти, в то время как Ральф Гринсон кратко обсуждает смерть в контексте Танатоса, фрейдовского инстинкта смерти, лишь для того, чтобы отмахнуться от этого представления как от не более чем некоего любопытного экспоната – теории смелой, но ненадежной. Необходимая корректива была внесена лишь постепенно и трудами тех, кто находился вне фрейдистской традиции (либо стремительно оказался вне ее).
Почему Фрейд исключил смерть из психодинамической теории? Почему не рассматривал страх смерти как первичный источник тревоги? Очевидно, это не просто оплошность: страх смерти – понятие не столь скрытое и не столь ускользающее, и вряд ли Фрейд мог упустить его из виду (а не отверг сознательно). Он недвусмысленно высказывается на эту тему в 1923 г.: «Громкая фраза 'всякий страх есть в конечном счете страх смерти' едва ли имеет какой‑либо смысл и, во всяком случае, не может найти подтверждение». Его доводы – столь же неубедительны, что и прежде: смерть невозможно по‑настоящему вообразить себе – какая‑то часть Эго всегда будет принадлежать здравствующему наблюдателю. И вновь Фрейд приходит к тому же неудовлетворительному заключению, что «страх смерти, так же как совесть, является развитием страха кастрации».
Интересно также то, что игнорирование Фрейдом смерти распространяется исключительно на формальную теорию тревоги, вытеснения и бессознательного, иначе говоря, на представления о внутреннем устройстве – подшипниках, шестеренках и источнике энергии психического аппарата.*
* В возрасте 64 лет, в работе «По ту сторону принципа удовольствия» Фрейд наконец нашел место смерти в своей модели психики: однако даже здесь он говорил не о первичном ужасе перед смертью, а о воле к смерти: Танатос был назван одним из двух первичных инстинктов. Всюду, где он дает себе волю, он смело и энергично размышляет о смерти. Например, в коротком проникновенном эссе «Наше отношение к смерти», написанном в конце первой мировой войны, он обсуждает отрицание смерти и попытку человека преодолеть смерть путем создания мифов о бессмертии. Выше я цитировал некоторые из его замечаний о том, что благодаря своей мимолетности жизнь становится более богатой и насыщенной. Он отдавал себе отчет в формообразующей роли смерти по отношению к жизни:
«Не лучше ли уделить смерти подобающее место в реальности и в наших мыслях, признать несколько большее значение нашей бессознательной установки по отношению к смерти, которую мы до сих пор столь тщательно подавляли? Этот шаг едва ли можно считать шагом вперед, к более высоким достижениям; в некоторых отношениях это даже отход назад – регрессия; но его преимущество состоит в том, что он позволит в большей мере считаться с истиной и вновь сделает для нас жизнь более приемлемой. В конце концов, принимать жизнь первейший долг всех живых существ. Иллюзия теряет всякую ценность, если она затрудняет это. Вспомним старую поговорку: 'Si vis pacem, para bellum'. Если хочешь сохранить мир, готовься к войне. В духе времени было бы изменить ее так: 'Si vis vitam, para mortem'. Если хочешь принимать жизнь, приготовься к смерти».
«Если хочешь принимать жизнь, приготовься к смерти» – Фрейд верил, что задача терапевта – помочь пациенту принять жизнь. Вся его терапевтическая карьера была посвящена этой задаче. Однако если не считать процитированного афоризма, он за всю жизнь не сказал ни слова о подготовке к смерти и роли концепции смерти в психотерапии. Почему?
Можно продолжать указывать на упущения Фрейда, на его слепые пятна до тех пор, пока отсутствие оппонента не вызовет чувство неловкости. А вдруг он и здесь смотрел шире и дальше нас – во многих других отношениях это именно так? Может быть, проблема в его глазах казалась столь простои, что он не считал необходимым подробно аргументировать свою позицию? Мне кажется разумным внимательно изучить предпосылки позиции Фрейда. По моему мнению, он исключил смерть из динамической теории по неосновательным причинам, проистекающим из двух основных источников: во‑первых, из устаревшей теоретической модели поведения и, во‑вторых, из неутолимой жажды личной славы.
Невнимание Фрейда к теме смерти: теоретические предпосылки
Когда Фрейду было семьдесят пять лет, его спросили, кто оказал на него наибольшее влияние. Не задумываясь, он ответил так же, как отвечал всегда: «Брюкке». Эрнст Брюкке был профессором физиологии в медицинской школе и руководителем Фрейда в краткий период его исследовательской работы по нейрофизиологии. Брюкке был тяжелым человеком, с прусской железной волей и ледяными голубыми глазами, внушавшим венским студентам‑медикам изрядный страх. (На экзамене каждому студенту отводилось несколько минут для устного опроса. Если студент не мог ответить на первый вопрос, то остаток времени Брюкке сидел в суровом молчании, не обращая ни малейшего внимания на отчаянные мольбы студента и присутствовавшего здесь же декана.) В лице Фрейда Брюкке наконец‑то нашел студента, достойного его интереса, и они в течение нескольких лет работали в тесном сотрудничестве в нейрофизиологической лаборатории.
Брюкке был важнейшим представителем идеологической школы биологии, основанной Германом фон Гельмгольцем и во второй половине девятнадцатого века доминировавшей в западно‑европейских медицинских и фундаментальных научных исследованиях. Базовый тезис Гельмгольца, унаследованный Фрейдом от Брюкке, был четко сформулирован другим основателем школы, Эмилем дю‑Буа Раймоном:
«В организме нет других активных сил, кроме обычных физико‑химических; для тех случаев, которые в настоящее время не могут быть объяснены действием этих сил, следует физико‑математическим методом находить специфический путь или форму их действия либо предполагать влияние других сил того же статуса, что и химико‑физические, неотъемлемо присущих материи и сводимых к притяжению и отталкиванию».
Таким образом, позиция Гельмгольца детерминистична и антивиталистична. Человек – машина, приводимая в действие химико‑физическим механизмом. В «Лекциях по физиологии» 1874 года Брюкке утверждал, что, хотя организмы отличны от машин благодаря своей способности к ассимиляции, они тем не менее представляют собой феномены физического мира, подчиняющиеся принципу сохранения энергии. Лишь в силу нашего неведения нам кажется, что в организме действует множество сил. «Прогресс знаний сведет их к двум притяжению и отталкиванию. Все это верно также для организма, которым является человек», (курсив мой – И.Я.).
Фрейд принял эту механистическую концепцию организма и применил ее к построению модели психики. В семьдесят лет он сказал. «Моя жизнь была посвящена одной цели – понять, как устроен психический аппарат, как взаимодействуют и противодействуют силы в нем». Таким образом, ясно, чем именно Фрейд обязан Брюкке: фрейдовская теория, по иронии судьбы часто обвиняемая в иррационализме, глубоко коренится в традиционной биофизико‑химической доктрине. Фрейдовские теории дуального инстинкта, сохранения и трансформации энергии либидо, а также его железный детерминизм зародились раньше, чем он решил стать психиатром: начало им положено механистической картиной человека у Брюкке.
Имея это в виду, мы можем с большим пониманием вернуться к вопросу об исключении Фрейдом смерти из моделей человеческого поведения. Дуальность – существование двух непримиримо противоположных базовых инстинктов – была тем основанием, на котором Фрейд построил свою метапсихологическую систему. Доктрина Гельмгольца требовала дуальности. Вспомним тезис Брюкке: в организме действуют две активные силы притяжения и отталкивания. Теория вытеснения – исходный пункт психоаналитической мысли – ведет к дуализму: вытеснение означает наличие конфликта между двумя фундаментальными силами. На протяжении всего своего профессионального пути Фрейд пытался определить пару антагонистических инстинктов, или влечений, приводящих в движение человеческий организм. Его первый вариант был «голод и любовь», в виде противостоящих друг другу тенденций к сохранению индивидуального организма и к продолжению рода. Большая часть аналитической теории основана на этой антитезе: борьба между Эго и влечениями либидо, согласно раннему Фрейду, была причиной вытеснения и источником тревоги. Впоследствии, по причинам, не имеющим отношения к данной дискуссии, он понял, что эта дуальность несостоятельна, и предпочел другую – фундаментально присущую самой жизни дуальность жизни и смерти. Эроса и Танатоса. Однако метапсихология и психотерапия Фрейда основана на его первой теории дуального инстинкта; ни Фрейд, ни его ученики (за единственным исключением Нормана О. Брауна) не переформулировали его труды в понятиях дуализма жизни и смерти. Большинство его последователей отказались от второй теории инстинктов, поскольку она вела к величайшему терапевтическому пессимизму. Они либо остались в рамках первой фрейдовской диалектики либидо и сохранения Эго, либо постепенно приняли юнгианский моноинстинкт – позицию, подрывающую теорию вытеснения.
В настоящем смерти нет; она – предстоящее событие, она локализована в будущем. Чтобы воображать смерть, испытывать тревогу в связи с ней, необходима сложная психическая активность планирование и проецирование своего "я" в будущее. В детерминистской схеме Фрейда сталкивающиеся между собой бессознательные силы, вектор которых определяет наше поведение, примитивны и инстинктивны. В психическом энергоэлементе нет места сложным психическим актам, в которых будущее является объектом воображения и страха. Фрейд близок здесь к Ницше, считающему сознательное обдумывание излишним фактором в выработке поведения. Согласно Ницше, поведение детерминируется бессознательными механическими силами: сознательная мысль следует за поведением, а не предшествует ему: чувство управления собственным поведением – полнейшая иллюзия. Мы воображаем себя выбирающими свое поведение, поскольку этого хочет наша воля к власти, наша потребность воспринимать себя автономным, принимающим решения существом.
Таким образом, в формальной динамической теории Фрейда смерти не может быть места. Поскольку это будущее событие, не пережитое и по‑настоящему не представимое, оно не может существовать в бессознательном и, следовательно, не может влиять на поведение. Смерти нет места в поведении, сводимом к борьбе двух противоположных первичных инстинктов. Фрейд стал пленником собственного детерминизма: он мог обсуждать роль смерти в порождении тревоги и взгляда на жизнь у индивида лишь двумя путями – либо вне своей формальной системы (в сносках или во «внепрограммных» эссе, таких как «Мысли из времен войны и смерти» и «К вопросу о трех ларчиках»), либо втискивая смерть в свою систему – рассматривая страх смерти в качестве разновидности какого‑либо первичного страха (страха кастрации) или определяя волю к смерти как одно из двух фундаментальных влечений, лежащих в основе всего поведения. Объявление смерти фундаментальным влечением не решает проблему: оно не позволяет рассмотреть смерть в качестве будущего события и ее роль как путеводного маяка, пункта назначения, финального завершения, которое обладает силой лишить нашу жизнь всякого смысла или же привести нас к подлинной форме бытия.
Невнимание Фрейда к смерти: личностные причины
Чтобы прояснить, почему Фрейд оставался привержен теоретической системе, которая, очевидно, ограничивала его интеллектуальный полет и вынуждала к неорганичным решениям, я должен коротко сказать о нем как о человеке. Труд художника, математика, генетика или романиста существует самостоятельно, поэтому исследование личной жизни ученого, художника или писателя – излишество, пусть зачастую занимательное и интересное, а порой даже интеллектуально поучительное. Но если речь идет о теории, которая претендует на раскрытие сокровенных глубин человеческого поведения и мотивации, причем поддерживающие эту теорию факты происходят большей частью из самоанализа одного человека, – в этом случае как можно более глубокое изучение личности и истории этого человека – уже не роскошь, а необходимость. К счастью, в фактах недостатка нет: о Фрейде известно, возможно, больше, чем о любой другой современной исторической личности (за предположительным исключением лишь Вуди Аллена).
Собственно говоря, материала о жизни Фрейда так много от 1450‑страничной исчерпывающей трехтомной энциклопедии Эрнеста Джонса «Жизнь и труд Зигмунда Фрейда» до популярных биографий, изданных воспоминаний бывших пациентов", томов опубликованной переписки, – что с его помощью можно обосновать сколь угодно невероятные гипотезы о структуре его характера. Для этого достаточно лишь подобрать соответствующие факты. И потому, caveat emptor.
По моему мнению, многое указывает на то, что свойственная Фрейду непреклонная решимость обусловлена его неутолимой жаждой славы. В биографии Джонса эта тема центральная. Фрейд родился в «сорочке» (неразорвавшемся амниотическом мешке) – обстоятельство, в народе всегда считавшееся предвестием славы. Его семья верила, что ему суждено стать знаменитым: мать, никогда в этом не сомневавшаяся, называла его «мой золотой Зиги» и предпочитала остальным детям. Позже он напишет: «Мужчина, который был бесспорным фаворитом своей матери, на всю жизнь сохраняет самочувствие победителя, ту уверенность в успехе, которая часто ведет к реальному успеху». Пламя этой уверенности было раздуто ранними предсказаниями. Однажды в кондитерской пожилой незнакомец сказал матери Фрейда, что она подарила миру великого человека, певец в парке развлечений выбрал маленького Фрейда среди всех других детей и предсказал, что он когда‑нибудь будет министром. Очевидная интеллектуальная одаренность Фрейда также подкрепляла эту уверенность. Он всегда был первым в своем классе в гимназии, более того, согласно Джонсу, он занимал столь особое положение, что его почти не спрашивали на уроках.
Довольно рано Фрейд перестал сомневаться в ожидающей его судьбе. В юности он написал другу детства, что его сочинение было удостоено выдающейся оценки, и добавил «Ты и не знал, что переписываешься с немецким стилистом. Советую тебе тщательно хранить мои письма – кто знает?» Наиболее интересное заявление Фрейда на эту тему содержится в его письме к невесте, написанном в двадцать восемь лет (когда ему еще только предстояло обратиться к психиатрии).
«Только что я осуществил решение, которое остро почувствует одна группа людей, пока еще не родившихся и обреченных на неудачу. Поскольку ты не сможешь догадаться, о ком идет речь, я тебе сам скажу, это мои биографы. Я уничтожил все свои дневники за последние четырнадцать лет вместе с письмами, научными заметками и рукописями моих публикаций. Только семейные письма сохранены. Твои, дорогая, ни минуты не были в опасности. Все мои старые дружбы и отношения вновь прошли перед моим взором и покорно встретили свою судьбу. Все мои мысли и чувства о мире вообще и моем месте в нем, в частности, были сочтены недостойными сохранения. Они должны быть передуманы заново. И я записал довольно много. Но материал просто поглотил меня, как песок сфинкса, скоро лишь мои ноздри будут торчать над кипами бумаги. Я не могу покинуть этот мир, не могу умереть, пока не избавлюсь от беспокойных мыслей о том, что неизвестно кто может набрести на старые записи. Кроме того, все, что было в моей жизни до ее решительного перелома, до нашего соединения и моего выбора призвания, я оставляю позади, все это давно мертво и заслуживает почетных похорон. Пусть себе болтают биографы, мы не станем облегчать им жизнь. Пусть каждый из них считает себя правым в своей „Концепции развития Героя“ уже сейчас мне приятно думать о том, как они все будут заблуждаться».
В своем искании славы Фрейд стремился к великому открытию. Его ранние письма ошеломляют изобилием идей, которыми он увлекался и затем отбрасывал. Согласно Джонсу, он упустил славу, не доведя нейрофизиологические занятия своей юности до логического конца – создания нейронной теории. Второй раз он упустил ее в работе с кокаином. Эту последнюю ситуацию Фрейд описал в письме, начинающемся так. «Здесь я могу вернуться назад и объяснить, как по вине своей невесты я лишился ранней славы». Затем он рассказывает, как однажды небрежно упомянул своему другу, врачу Карлу Коллеру, о наблюдавшемся им анестетическом действии кокаина и затем надолго уехал из города к невесте. К тому времени, когда он вернулся, Коллер уже провел решающие хирургические эксперименты и прославился как первооткрыватель местной анестезии.
Мало найдется людей, чей интеллект по силе сравним с интеллектом Фрейда, наделенного к тому же богатейшим воображением, безграничной энергией и неукротимым мужеством. Но достигнув полной профессиональной зрелости, он обнаружил, что несправедливая и капризная судьба закрыла перед ним путь к успеху. Брюкке вынужден был сообщить Фрейду, что венский антисемитизм практически не оставляет ему надежды на успешную академическую карьеру поддержка университета, признание, повышения по службе для него исключены. В возрасте двадцати семи лет Фрейд должен был бросить свои исследования и начать зарабатывать на жизнь в качестве практикующего врача. Он изучил психиатрию и приступил к частной медицинской практике. У него остался единственный шанс прославиться – совершить «великое открытие».
Фрейд чувствовал, что время и благоприятные возможности ускользают от него, и это, несомненно, объясняет его неблагоразумное поведение в связи с кокаином. Он прочитал, что южноамериканские индейцы жевали коку для прибавления сил, он ввел кокаин в свою клиническую практику и в обращении к Венскому медицинскому обществу превознес благодетельный эффект этого средства при состояниях депрессии и утомлении. Многим своим пациентам он прописывал кокаин, друзьям (и даже невесте) настоятельно советовал им пользоваться. И когда вскоре появились первые сообщения о кокаиновой зависимости, репутация Фрейда в Венском медицинском обществе стремительно упала. (Эта история в какой‑то мере объясняет невосприимчивость венского академического сообщества к последующим открытиям Фрейда).
Постепенно Фрейд с головой ушел в психологию. Как выразился он сам, проблема структуры психики стала его госпожой и повелительницей. Вскоре он разработал исчерпывающую теорию психогенеза истерии. Его надежда на славу зависела от успеха этой теории, и появившиеся клинические опровержения сокрушили его. Фрейд описал этот провал в письме своему другу Вильгельму Флиссу в 1897 году: «Надежда вечной славы была столь прекрасна – так же, как уверенного благосостояния, полной независимости… и все зависело от того, получится с истерией или нет».
Частичные наблюдения не имели особого значения. Фрейд не был согласен на меньшее, чем всеобъемлющая модель психики. В 1895 году, еще на полпути между нейрофизиологией и психиатрией, он почувствовал, что открытие устройства психики совсем близко. Он писал в письме:
«Блоки внезапно исчезли, завесы упали, и стало возможным видеть весь путь от деталей невроза до регуляции сознания. Отдельные элементы встали на свои места, зубчатые колесики зацепились друг за друга – все вместе казалось машиной, которая через мгновение заработает сама по себе. Три системы нейронов, „свободные“ и „связанные“ величины, первичные и вторичные процессы, главная и компромиссная тенденции нервной системы, два биологических принципа внимания и защиты, индикаторы качества, реальности и мышления, психосексуальный радикал, сексуальная детерминированность вытеснения и, наконец, факторы, определяющие сознание как перцептивную функцию, – стали и остаются связанными одно с другим. Я едва сдерживаю ликование».
Для того чтобы открытие полностью соответствовало требованиям Фрейда, оно должно было обладать двумя качествами: 1) модель психики должна была быть исчерпывающей и удовлетворяющей научным критериям по Гельмгольцу; 2) это должно было быть оригинальное открытие. Фрейдовская фундаментальная схема психики, включавшая вытеснение, отношения сознания с бессознательным, базовый биологический субстрат мышления и аффекта, являлась творческим синтезом: ее компоненты не были новы (первопроходцами на этом пути являлись Шопенгауэр и Ницше), но сама она была нова в своей законченности и приложимости к разнообразной человеческой активности, от снов и фантазий до поведения, формирования симптомов и психозов. (О своих предшественниках Фрейд однажды сказал. «Многие заигрывали с бессознательным, но я первым вступил с ним в законный брак».) Полностью оригинальна энергетическая часть модели Фрейда (половая сила, или либидо) – концепция постоянного количества энергии, проходящей в течение младенчества и детства через предопределенные, совершенно конкретные стадии развития, которая может быть связанной и несвязанной, катектироваться на объектах, выходить за заключающие ее рамки, блокироваться, смещаться, которая является источником мыслей, поведения, тревоги и симптомов. Это было большое открытие, и Фрейд яростно отстаивал его. Он принес в жертву теории либидо свои отношения с наиболее перспективными учениками, отошедшими от него, поскольку они отказались принять его новое открытие, выраженное в столь категорической форме, – центральную роль либидо в человеческой мотивации.
Понятно, что тема роли смерти в человеческом поведении как источника тревоги или как детерминанта мотивации – мало привлекала Фрейда. Смерть не удовлетворяла ни одному из его личных условий: она не являлась инстинктом (хотя в 1920 году Фрейд объявил ее таковым) и не укладывалась в механистическую модель Гельмгольца. Роль смерти также не представляла собой ничего нового – собственно говоря, все сказано в Ветхом Завете. Фрейд вовсе не стремился присоединиться к длинной веренице мыслителей, уводящей к началу времен. «Вечная слава», как он любил выражаться, от этого не приходила. Она могла прийти в результате открытия совершенно неизвестного дотоле источника человеческой мотивации – либидо. Едва ли стоит сомневаться в том, что Фрейд верно описал важный фактор человеческого поведения. Его ошибка заключалась в гиперкатексисе, в категорическом утверждении первичности либидо. Он дал одному аспекту человеческой мотивации абсолютно приоритетный статус и исключительное положение, сведя к нему все человеческое, у всех людей и во все времена.
Альтернативные теории
Встречные теории не замедлили появиться. Наиболее творчески одаренные ученики не приняли теорию либидо. В 1910 году Карл Юнг, Альфред Адлер и Отто Ранк предпочли лишиться благоволения маэстро, нежели разделить его механистическую, основанную на дуальном инстинкте, картину человеческой природы. Каждый из отступников выдвинул альтернативный источник мотивации. Юнг постулировал монизм духовной жизненной силы. Адлер акцентировал тревогу маленького и беспомощного ребенка о выживании в. мире гигантов‑взрослых, в полностью объемлющей его среде. Ранк подчеркнул важность тревоги смерти и создал представление о человеке, вечно разрываемом двумя страхами – страхом жизни (с неотъемлемой изоляцией) и страхом смерти. Эти подходы, вместе с вкладами более поздних теоретиков, таких как Фромм, Мэй, Тиллих, Кайзер и Бекер, дополняют, но не заменяют структурную теорию Фрейда. Великим вкладом Фрейда явилась динамическая модель психики. Включение в нее смерти – вместо страха смерти и принятия смерти – не означает ничего принципиально нового: смерть всегда была там, скрываясь за кастрацией, сепарацией и оставлением. В этом аспекте Фрейд и последующая аналитическая традиция остались слишком поверхностными. Последующие теоретики внесли корректирующий фактор и тем самым позволили углубить наше представление о человеке.
3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СМЕРТИ У ДЕТЕЙ
Наше беспокойство о смерти и наши способы справляться с тревогой смерти – отнюдь не поверхностные, легко поддающиеся описанию и пониманию феномены. Во взрослом состоянии они также не возникают у нас из ничего. Они коренятся глубоко в нашем прошлом и претерпевают значительные трансформации в течение жизни, полной забот о безопасности и выживании. Исследования детей дают исключительную возможность наблюдать встречу человека со смертью в первозданном виде. Конфронтация ребенка с фактом смертности, осознание им смерти, его ужас перед ней, его пути избегания смерти и обороны от нее, а также его последующее развитие, протекающее на фоне страха смерти, таково содержание этой главы.
На мой взгляд, существует значительное несоответствие между важностью смерти для ребенка и вниманием, уделяемым смерти в науках о детском развитии. Относящаяся к данной теме литература скудна и, по сравнению с обширными источниками по другим аспектам детского развития, в лучшем случае поверхностна. Особенно мало эмпирических исследований детских концепций смерти; психоаналитически ориентированные клиницисты эпизодически пытались заниматься этим вопросом, но, как мы увидим, у них была предубежденность, зачастую идущая в ущерб точности наблюдений. Кроме того, немалая часть относящегося к делу материала содержится в давних публикациях, зачастую обнаруживаемых вне основного русла литературы по детскому развитию и детской психиатрии. Многим мы обязаны Сильвии Энтони, в монографии которой «Открытие смерти в детстве и позднее», дан прекрасный обзор и анализ литературы, содержащей факты исследований и наблюдений.
Собственная клиническая работа, а также изучение работ других исследователей привели меня к ряду выводов:
Всякий раз при достаточно тщательном подходе к изучению вопроса исследователи обнаруживают, что детей чрезвычайно занимает тема смерти. Беспокойство детей о смерти носит всепроникающий характер и оказывает далеко идущее воздействие на их переживания. Для них смерть – великая загадка, а преодоление страхов беспомощности и уничтожения – одна из основных задач развития; что же касается половых проблем, то они вторичны и производны.
Дети глубоко озабочены смертью, и эта озабоченность возникает в более раннем возрасте, чем принято думать.
Осознание смерти детьми и используемые ими способы справляться со страхом смерти различны в разном возрасте и проходят через определенную закономерную последовательность этапов.
Адаптационные стратегии детей неизменно базируются на отрицании; можно предполагать, что мы не растем – вероятно, не можем расти – в непосредственном контакте с фактами жизни и смерти.
ВСЕПРОНИКАЮЩИЙ ХАРАКТЕРОЗАБОЧЕННОСТИ СМЕРТЬЮ У ДЕТЕЙ
P»Фрейд верил, что дети полностью поглощены безмолвным исследованием сексуальности, вопросом «Откуда?» и что это главным образом и создает пропасть между ребенком и взрослым. Однако имеются многочисленные свидетельства, что вопрос «Куда?» также очень активно занимает нас, пока мы дети, и продолжает звучать у нас в ушах на протяжении всей жизни; мы можем прямо задаваться им, бояться его, игнорировать, вытеснять, но не можем от него освободиться.
Мало кого из родителей или воспитателей маленьких детей не заставали врасплох внезапные, неожиданные вопросы ребенка о смерти. Однажды, когда мы с моим пятилетним сыном молча прогуливались по пляжу, он внезапно поднял взгляд на меня и сказал: «Понимаешь, оба моих дедушки умерли до того, как я успел с ними встретиться». Похоже, это заявление было «вершиной айсберга». Явно он долго размышлял об этом внутри себя. Я спросил его, как мог мягко, насколько часто он думает о подобных вещах, о смерти, и его ответ, произнесенный непривычно взрослым тоном, ошеломил меня: «Я никогда не перестаю думать об этом».
В другой раз он простодушно прокомментировал отъезд брата в колледж: «Теперь мы остаемся дома только втроем: ты, я и мама. Интересно, кто из нас умрет первым?»
Девочка четырех с половиной лет внезапно сказала своему отцу: «Каждый день я боюсь умереть; мне хотелось бы никогда не вырастать, чтобы никогда не умирать». Другая девочка в три с половиной года попросила положить ей на голову камень, чтобы она перестала расти и не могла состариться и умереть. Четырехлетняя девочка рыдала целые сутки после того, как узнала, что все живые существа умирают. Мать смогла ее успокоить лишь единственным способом – молчаливым подтверждением, что она, ее малышка, никогда не умрет. Другая четырехлетняя девочка через несколько дней после смерти бабушки со стороны отца, войдя дома на кухню, увидела на столе мертвого гуся с окровавленной головой, неподвижно висевшей на длинной шее. Ребенок, слышавший о смерти бабушки, но никак особенно на это известие не прореагировавший, мгновение тревожно смотрел на гуся и затем спросил у матери: «Это и есть то, что вы называете 'мертвый'?»
Эрик Эриксон рассказывает о четырехлетнем мальчике, у которого умерла бабушка и с которым ночью, после того как он увидел ее в гробу, случился эпилептоидный припадок. Месяц спустя этот ребенок нашел мертвого крота, задал вопрос о смерти, и затем у него снова были судороги. Еще через два месяца последовал третий припадок – после того, как он случайно раздавил бабочку в руке.
Бесхитростные детские вопросы могут вызывать у нас немалую растерянность. Маленький ребенок спрашивает прямо: «Когда ты должен умереть?», «Сколько тебе лет?». «Во сколько лет люди умирают?» Ребенок заявляет: «Я хочу дожить до тысячи лет. Я хочу жить столько, чтобы стать самым старым человеком на земле». Это мысли простодушного возраста, которым может дать стимул смерть – дедушки или бабушки, животного, иногда даже цветка или листа; но нередко они появляются без всяких внешних поводов, когда ребенок просто высказывает то, над чем он долго безмолвно размышлял. Позже, когда дети научаются видеть «новое платье короля», они также научаются не слишком беспокоиться о смерти.
Энтони, предложив девяносто восьми детям тест на окончание рассказов, смогла объективно оценить озабоченность детей вопросами смерти. Предъявлялись рассказы с открытым финалом, не содержавшие явных упоминаний о смерти. (Примеры: «Когда мальчик вечером лег спать, о чем он думал?» или «Мальчик пришел в школу. Но на перемене он не играл с другими детьми, а стоял один в уголке. Почему?») Завершение рассказов детьми свидетельствовало о том, что вопросы смерти и уничтожения серьезно занимают их. Примерно у половины детей в окончаниях рассказов присутствовали смерть, похороны, убийства или привидения. Если учесть также ответы с несомненно подразумеваемой смертью («Его задавила машина», «Она потеряла одного из своих детей»), то доля упоминаний смерти возрастет до 60 процентов. Например, на вопрос «О чем думал мальчик, когда он лег спать?» дети отвечали так: «О том, что кто‑то войдет в комнату и убьет его», или «О Белоснежке. Я не видел ее, но я видел в книге сказок картинку, где она изображена мертвой», или «О том, что кто‑то входит в его дом, тогда его отец умрет, и он умрет тоже». В одном рассказе речь шла о волшебнице, которая спрашивает ребенка, чего он хочет: вырасти и стать взрослым или надолго, возможно, навсегда, остаться маленьким. В противоположность распространенному убеждению, что ребенок стремится скорее вырасти, стать сильным и умелым, свыше 35 процентов детей в своих окончаниях этой истории пожелали остаться маленькими, потому что для них старение было связано со смертью.
КОНЦЕПЦИЯ СМЕРТИ: СТАДИИ РАЗВИТИЯ
Приведя эти многочисленные свидетельства озабоченности детей темой смерти, я обращусь теперь к онтогенезу концепции смерти. Многие исследователи отмечали, что мысли и страхи детей, связанные со смертью, так же как и способы обращения с этими страхами, соответствуют определенным стадиям развития.
Почему нам трудно выяснить, что именно знает ребенок о смерти
Очень многое мешает нам определить, что именно знают о смерти очень маленькие дети, и это порождает массу противоречий и разночтений в специальной литературе.
Недостаточное развитие речи и абстрактного мышления. Дефицит речевых навыков у очень маленьких детей является труднопреодолимым барьером в понимании их внутреннего мира взрослыми. Профессионалам остается строить гипотезы, порой на основе весьма произвольных допущений о том, что знает и чего не знает ребенок. Другой фактор – показанная сторонниками психологии развития, прежде всего Жаном Пиаже, слабость функции абстрактного мышления очень маленьких детей. В десять лет ребенок находится еще на стадии конкретных мыслительных операций и лишь начинает по‑настоящему осознавать «потенциальное», или «возможное». И поскольку смерть, собственная смерть, бытие и небытие, сознание, смертность, вечность, будущее являются абстрактными понятиями, то многие психологи развития полагают, что у маленьких детей отсутствует четкая концепция смерти.
Позиция Фрейда. Еще одним важным фактором, повлиявшим на профессиональные мнения относительно представлений о смерти у очень маленьких детей, явилась твердая позиция Фрейда, уверенного, что маленький ребенок не осознает истинные последствия смерти. Именно потому, что ранние годы жизни Фрейд рассматривал как определяющие для формирования характера, он считал тему смерти несущественной для психического развития.
Нижеследующие отрывки из «Толкования сновидений» выражают его взгляд: "…Представление ребенка о том, что значит «быть мертвым», не имеет с нашим ничего общего, кроме словесного обозначения. Дети ничего не знают о кошмаре разложения, о застывании в холодной как лед могиле, об ужасе вечного ничто – обо всем том, о чем, как свидетельствуют все мифы вечной жизни, столь невыносимо думать взрослым людям. Страх смерти не имеет смысла для ребенка, поэтому он может играть с этим страшным словом, используя его как угрозу приятелю: «Если ты снова сделаешь это, ты умрешь так же, как Франц!»…Ребенок в возрасте более восьми лет после посещения музея естественной истории мог сказать маме: 'Мамочка, я тебя так люблю: когда ты умрешь, я велю набить из тебя чучело и буду держать тебя в своей комнате, чтобы я мог всегда тебя видеть'. При всем различии между идеей смерти у детей и у нас, я был изумлен, услышав замечание одного высокоинтеллектуального десятилетнего мальчика после внезапной смерти отца: «Я знаю, что папа умер, но вот чего я не понимаю, так это почему он не пришел домой к ужину».
К тому же для детей, избавляемых от зрелища предшествующих смерти страданий, быть 'мертвым' означает примерно то же, что быть отсутствующим: мертвый просто не докучает больше живым. Ребенку все равно, чем вызвано отсутствие – путешествием, отвержением, отчуждением или смертью… Дети не слишком скучают об отсутствующих; многие матери бывают огорчены, когда, вернувшись домой после нескольких недель летнего отдыха, узнают, что дети ни разу не спросили о своей маме. Если мать действительно отбывает в ту 'неведомую страну, откуда не возвращаются', дети, судя по всему, вначале забывают ее, и лишь позже приходят к ним воспоминания о покойной матери".
Таким образом, по мнению Фрейда, ребенок даже в восемь‑девять лет мало знает о смерти (и, следовательно, мало ее боится). Среди фундаментальных интересов ребенка Фрейд самое раннее и основное место отводит сексуальным, а смерти оставляет роль в относительно позднем развитии. Его выводы о значении темы смерти в личностном развитии оказали большое влияние и привели к тому, что этот вопрос был преждевременно закрыт для целого поколения. Ошибка Фрейда связана не только с обсуждавшимися в предыдущей главе личностными и теоретическими причинами, но также с методологическими: он никогда не работал непосредственно с маленькими детьми.
Предубежденность взрослых. Это еще одно существенное препятствие для выяснения знаний ребенка о смерти. Каким бы ни было исследование – описательным, психометрическим или проективным – собирает и интерпретирует данные взрослый, собственные страхи и собственное отрицание смерти которого нередко приводят к искажению результатов. Взрослые избегают разговоров с детьми о смерти, они уклоняются от этой темы, не желая углубляться в мысли ребенка, они довольствуются поверхностной информацией, они систематически ложно воспринимают переживания ребенка и всегда преуменьшают осознавание им смерти и сопутствующее этому страдание.
Роль взрослой предубежденности подтверждает широко цитируемое исследование детских страхов, проведенное Р. Лапус и М. Монк. Авторы изучали большую выборку (N=482) нормальных детей в возрасте от шести до двенадцати лет с целью определить характер и степень детских страхов. Но, считая невозможным проинтервьюировать сотни детей, вместо детей они опрашивали матерей. По мнению матерей, два рода страхов, наиболее тесно связанных со смертью («заболеть, стать жертвой несчастного случая, умереть» и «беспокойство о здоровье»), у их детей были выражены незначительно, первый страх лишь 12 процентов матерей оценили как существенный, а второй – 16 процентов. (Для сравнения: боязнь змей и боязнь плохих оценок в школе были оценены как значимые 44 и 38 процентами опрошенных, соответственно.)
Затем авторы выделили подвыборку (N=192), в которой проинтервьюировали и матерей, и детей. Результаты показали, что в целом ответы матерей преуменьшили распространенность детских страхов Особенно большое расхождение обнаружилось в связи с двумя типами страхов, наиболее связанных со смертью, оценка которых у матери и ребенка совпадала лишь в 45 процентах случаев, причем из 55 процентов несовпадения девять десятых определялись недооценкой матерью беспокойства ребенка о смерти. (В той же мере матери недооценили другие страхи, не столь прямо ассоциированные со смертью, «кто‑то в семье заболеет или умрет», «микробы», «пожар».) Эти данные показывают, что матери имеют тенденцию не сознавать, насколько их детей беспокоит проблема смерти.
В другом исследовании изучались реакции детей в детской больнице на смерть Джона Ф.Кеннеди. Авторы замечают, что, к их удивлению, прекрасно подготовленные работники больницы оказались ненадежным источником сведении на эту тему. Существовал большой разброс не только в их наблюдениях детских реакций, но также во взглядах на то, как много информации следует давать детям и к сколь сильному эмоциональному стрессу они толерантны.
Пиаже, всю свою профессиональную жизнь работавший с детьми, считал, что психологическое тестирование, каким бы изощренным оно ни было, часто дает неполные или обманчивые сведения и что наиболее удовлетворительным методом является «общее исследование» (или «клиническое интервью»), – с чем, вероятно, согласится большинство клиницистов. Однако сообщений о глубинных интервью с детьми в литературе крайне мало. Это неудивительно, вид детенышей почти любого млекопитающего – от котят, щенков и жеребят до человеческих детей – пробуждает у нас материнский инстинкт. Нелегко идти против своей биологической природы, допытываясь у ребенка голой правды жизни. Я уверен, что эта трудность – главная причина скудости профессиональных исследований. Честно говоря, я серьезно сомневаюсь, что исследовательский проект, предполагающий открытые расспросы маленьких детей о смерти, мог бы сегодня быть разрешен комитетом по исследованиям на людях. И совершенно несомненно, что такой проект встретил бы сильное сопротивление родителей.
Таким образом, исследования по преимуществу основываются на косвенных данных и зачастую поверхностны. По пальцам можно пересчитать сообщения об исследованиях, базирующихся на прямых интервью, да и те в большинстве проведены несколько десятилетий назад. Мария Наги и Сильвия Энтони сообщают о работе, проведенной в 1940 году. Наги (которую дети в школе, где она проводила исследование, называли «тетушка Смерть»), предлагала детям рисовать картины, писать сочинения и устно обсуждать свои мысли о смерти. Энтони спрашивала определения связанных со смертью слов и давала тест на завершение рассказов. Пол Шилдер и Дэвид Векслер в 1935 г. предъявляли детям серию связанных со смертью картинок и спрашивали об их впечатлениях. Картинки были вполне откровенные, даже жуткие, но авторы сделали уступку чувствительности детей, принимая и фиксируя их реакции такими, какими они давались. Со взрослыми испытуемыми исследователи не удовольствовались бы этим, пойдя глубже в своих расспросах и интерпретациях.
Чему учат ребенка. Речь идет еще об одном препятствии для выяснения знаний детей о смерти. Редко когда представления ребенка о смерти сохраняются в оригинальной форме: взрослые чрезвычайно страдают, лицезря ребенка в схватке с идеей смерти, и немедленно кидаются ему на помощь. Ребенок чувствует их тревогу и понимает из нее, что беспокойство о смерти совершенно необходимо подавлять: родители по‑настоящему ничем здесь не помогут. Многие родители, при всей их просвещенности и твердой решимости быть честными, идут на попятный, когда видят беспомощное страдание своего ребенка. Энтони приводит краткую выразительную беседу между пятилетним ребенком и его мамой, профессором университета:
Ребенок: Животным тоже приходит конец?
Мама: Да, животным тоже приходит конец. Всему живому приходит конец.
Ребенок: Я не хочу, чтобы мне пришел конец. Я хочу жить дольше всех на земле.
Мама: Ты никогда не умрешь, ты будешь жить вечно.
Как правило, родители пытаются смягчить страхи ребенка, предлагая ему некую форму отрицания – идиосинкриатическую систему отрицания либо социально санкционированный миф о бессмертии. Поэтому исследователь нередко имеет дело не с естественной «продукцией» ребенка, а со сложной смесью сознаваемого им, его тревоги и его отрицания в соединении с тревогой и защитным отрицанием взрослых. Что следует и чего не следует говорить ребенку – отдельный вопрос, но в любом случае мы должны понимать, почему выбираем тот или иной вариант просвещения на тему смерти. Для чьего блага делается выбор – ребенка или взрослого? Эрма Фурман, тщательно исследовавшая детей, потерявших родителя, пришла к выводу, что «конкретная информация о смерти была в определенных отношениях полезна им, а когда окружающие взрослые искажали или затуманивали факты, намеренно или бессознательно, ситуация ребенка дополнительно осложнялась».
Первое сознавание смерти
Когда ребенок впервые узнает о смерти? Имеется несколько источников информации об этом (ни один из которых не свободен от вышеописанных проблем): подробные лонгитюдные наблюдения родителями или подготовленными наблюдателями; психологические тесты – главным образом определения слов («смерть», «жизнь», «живое»), тест на завершения рассказов, ТАТ (Тематический Апперцептивный Тест), детские рисунки; систематические наблюдения персоналом больниц и интернатов; случаи из практики детских терапевтов или взрослых терапевтов, с ретроспективными сведениями.
Тема смерти и речь. Наиболее объективные оценки опираются на речевые навыки ребенка. Энтони попыталась найти ответ на вопрос о том, когда у ребенка появляется знание о смерти, предложив восьмидесяти трем детям в тесте на общий словарный запас среди других слов определить слово «смерть». Ответы всех детей семи лет и старше (и двух третей шестилетних) обнаружили понимание значения слова (хотя во многих случаях они включали в определение признаки, не существенные ни логически, ни биологически). Из двадцати двух детей шести лет и младше лишь трое оказались в полном неведении относительно значения слова.
Другой объективный подход к проблеме состоит в изучении развития понятия «живое», или «жизнь». У совсем маленьких детей обнаруживается немало путаницы в представлениях о свойствах живых существ. В 1895 г. Ж.Салли отметил, что маленькие дети считают любые по видимости спонтанные движения признаком жизни и поэтому воспринимают, например, огонь и дым как живых существ. По Пиаже, детский анимизм (на его взгляд, аналогичный анимизму примитивного человека) проходит четыре стадии. Сначала неодушевленные объекты воспринимаются как наделенные жизнью и волей. Примерно с начала седьмого года ребенок считает живым лишь то, что движется, между восемью и двенадцатью годами – то, что движется само по себе, и впоследствии понятие живого все более приближается ко взрослому.*
* Пиаже рассматривал тему смерти как существенную в развитии зрелых представлений о причинности. В раннем детском мышлении источником и объяснением существования вещей считается мотивация, всякая причина соединена с мотивом Когда ребенок начинает осознавать смерть, в его мышлении происходит переворот животные и люди умирают, но к их смерть нельзя объяснить как результат их побуждений. Постепенно дети начинают понимать, что смерть должна быть законом природы, универсальным и безличным.
У детей бывает много путаницы, когда они пытаются разобраться, какие вещи живут, или обладают жизнью, а какие являются не одушевленными. Например, в одном исследовании более трети детей в возрасте от семи до восьми лет полагали, что часы и река – живые; три четверти – что луна живая, 12 процентов – что дерево не живое. Замешательство ребенка может усугубляться противоречивыми сообщениями, поступающими из окружения. Взрослые не склонны ясно и четко просвещать детей по этим вопросам. Куклы и механические игрушки, имитирующие жизнь, отнюдь не проясняют ситуацию. Еще один фактор замешательства – поэтические вольности языка («облака мчатся по небу», «луна заглядывает в окно», «по своей затейливой дорожке ручеек бежит к морю»).
Наблюдения детского развития. Исследования речевого развития побудили многих клиницистов и возрастных психологов датировать осознание смерти ребенком временем значительно более поздним, чем свидетельствуют непосредственные наблюдения, о которых я сейчас расскажу. Возможно, исследователи склонны предъявлять чересчур жесткие требования к доказательности фактов. Неужели ребенку нужно быть способным определить понятия «живой» или «мертвый», для того чтобы в глубине своего существа знать, что когда‑нибудь его не станет на свете, так же как любого насекомого, зверя, другого человека? Исследователи, изучающие очень маленьких детей, почти неизменно приходят к выводу, что во внутренней жизни их испытуемых тема смерти занимает большое место. Теоретическая идея, состоящая в том, что ребенок младше восьми‑десяти лет не постигает абстрактные понятия, – не служит опровержением. Как указывают Кастенбаум и Айзенберг, «между двумя крайностями непонимания и явного наличия интегрированного абстрактного мышления существует множество промежуточных вариантов, при которых детский ум может войти в отношения со смертью». Выражение «войти в отношения со смертью» несколько туманно, но удачно: маленький ребенок думает о смерти, боится ее, интересуется ею, запоминает связанные со смертью впечатления, остающиеся с ним на всю жизнь, и воздвигает магического рода защиты от нее.
Кастенбаум и Айзенберг описывают Дэвида, восемнадцатимесячного ребенка, обнаружившего во дворе мертвую птицу. Мальчик выглядел ошеломленным, и, по рассказу родителей, его лицо «приняло застывшее, ритуальное выражение, более всего напоминавшее стилизованную маску из греческой трагедии». Дэвид был самым обыкновенным для своего возраста ребенком – недавно научившимся ходить, который стремился хватать и исследовать все, до чего ему удавалось добраться. Однако в этом случае он присел, наклонившись к самой птице, но не пытался коснуться ее. Несколько недель спустя он нашел еще одну мертвую птицу. На этот раз он взял птицу в руки и жестами потребовал посадить ее снова на ветку дерева. Когда его родители поместили мертвую птицу на дерево и она – увы! – полетела вовсе не вверх, Дэвид стал вновь настаивать, чтобы ее туда посадили. Еще через несколько недель внимание мальчика было привлечено упавшим листом, и он сосредоточенно пытался вернуть его на дерево. Дэвид не умел говорить, и поэтому мы не можем точно знать характер его внутренних переживаний, однако его поведение указывало на работу с представлением о смерти. Нет никакого сомнения, что именно встреча со смертью была причиной нового и необычного поведения мальчика.
Шандор Брант, психолог, сообщает о случае с его сыном Михаэлем, двух лет и трех месяцев". Михаэль, уже год как отученный от бутылки, начал просыпаться по несколько раз за ночь с истерическим требованием бутылки. В ответ на расспросы Михаэль заявлял, ему нужно получить бутылку, иначе «Я не заведусь», «У меня кончается бензин», «Мой мотор заглохнет, и я умру». Отец рассказывает, что непосредственно перед началом ночных пробуждений Михаэля дважды произошло так, что в автомобиле кончился бензин, и при мальчике много обсуждалось, что мотор заглох и батарея села. Отец заключает, что Михаэль решил: он должен подпитывать себя жидкостью, иначе он тоже умрет. Явная озабоченность мальчика вопросами смерти проявилась еще раньше, когда он увидел фотографию покойного родственника и засыпал родителей нескончаемыми вопросами о том, что с ним. История Михаэля показывает, что даже для маленького ребенка смерть может явиться источником значимого страдания. Более того, Михаэль, как и герой предыдущего случая, в очень раннем возрасте осознал смерть как проблему – как, предполагает Кастенбаум, это явилось первой витальной проблемой и важнейшим стимулом последующего психического развития.
Грегори Рохлин на основе нескольких игровых сессий с каждым из группы нормальных детей в возрасте от трех до пяти лет также приходит к выводу: ребенок очень рано узнает, что жизнь имеет конец, и что ему, так же как тем, кто о нем заботится, предстоит умереть.
«Мои собственные исследования показали, что знание о смерти, в том числе о возможности собственной смерти, появилось в очень раннем возрасте, значительно раньше, принято считать. В три года страх собственной смерти совершенно недвусмысленным образом. Остается строить догадки, насколько раньше трех лет это появляется. Коммуникация на данную тему с ребенком меньшего возраста едва ли возможна. Во всяком случае, она слишком фрагментарна. Но важнее другое: на трехлетнего ребенка смерть оказывает значительное воздействие – как источник страха и как возможность».
Рохлин утверждает: всякий, кто готов слушать детей и наблюдать за их игрой, найдет тому множество подтверждений. Во всем мире дети играют в смерть и воскресение. В возможностях узнать что‑либо о смерти недостатка нет. посещение мясного рынка просветит любого ребенка больше, чем ему хотелось бы Может быть, внешний опыт здесь вообще не требуется: может быть, как утверждает Макс Шелер, каждый из нас обладает интуитивным знанием о смерти. Но, независимо от источника нашего знания, одно остается несомненным – тенденция отрицать смерть глубоко укоренена в нас уже в ранние годы жизни. Знание сдает свои позиции под напором желания.
Но при насильственном вторжении реальности едва сформировавшиеся отрицающие защиты дают трещину, через которую прорывается тревога. Рохлин описывает мальчика трех с половиной лет, в течение нескольких месяцев спрашивавшего родителей, когда он или они умрут. Окружающие слышали, как он тихо говорит сам себе, что уж он‑то не умрет. Затем умер его дедушка. (Этот дедушка жил в отдаленном городе, и ребенок его едва знал.) У ребенка начались частые ночные кошмары, он регулярно оттягивал отход ко сну, очевидно, отождествляя сон со смертью. Он спрашивал, больно ли умирать, и добавлял, что боится умереть. Его игры были заполнены болезнью, смертью, убийствами и убитыми. Трудно с уверенностью определить значение «смерти» во внутреннем мире долатентного ребенка, однако похоже, что у этого ребенка смерть была связана с сильной тревогой, она означала быть выброшенным на помойку, означала боль, исчезновение, проваливание под землю, сгнивание на кладбище.
Другой ребенок, четырех лет, также потерял дедушку, который умер в его третий день рождения. Мальчик настаивал, что дедушка не мертв. Затем, когда ему сказали, что дед умер от старости, он требовал заверения, что его мама и папа не старые, и говорил им, что не хочет становиться старше. Часть записи игровой сессии с ним ясно показывает, что этот четырехлетний мальчик «вошел в отношения со смертью».
Д.: Вчера вечером я нашел мертвую пчелу.
Доктор: Она выглядела мертвой?
Д.: Ее убили. Кто‑то наступил на нее, и она умерла.
Доктор: Так же умерла, как люди умирают
Д: Она была мертвая, но не так, как мертвый человек Ничего похожего на мертвого человека.
Доктор: Есть различие.
Д.: Люди умирают и пчелы умирают. Но их закапывают в землю, они ни к чему. Люди.
Доктор: Ни к чему?
Д.: Через много времени она оживет (пчела). Но не человек. Я не хочу говорить об этом.
Доктор: Почему?
Д.: Потому что у меня два живых дедушки.
Доктор: Два?
Д.: Один.
Доктор: Что случилось с одним?
Д.: Он умер давным‑давно. Сто лет назад.
Доктор: Ты будешь долго жить?
Д.: Сто лет.
Доктор: А потом?
Д.: Может быть, умру.
Доктор: Все люди умирают.
Д.: Да, и я тоже должен буду умереть.
Доктор: Это печально.
Д.: Ничего не поделаешь, я все равно должен умереть.
Доктор: Ты должен?
Д.: Да. Мой отец умрет. Это печально.
Доктор: Почему он умрет?
Д.: Не беспокойся об этом.
Доктор: Ты не хочешь об этом говорить?
Д.: Сейчас я хочу к маме.
Доктор: Я отведу тебя к ней.
Д.: Я знаю, где находятся мертвые люди. На кладбищах. Мой старый дедушка мертв. Он не может выбраться.
Доктор: Ты имеешь в виду, что он похоронен.
Д.: Он не сможет выбраться. Никогда.
Мелани Кляйн, основываясь на своем опыте анализа детей, пришла к выводу, что совсем маленький ребенок находится в близком отношении со смертью, и это отношение возникает у него значительно раньше, чем умственное знание о смерти. Кляйн утверждает, что страх смерти является частью самого раннего жизненного опыта детей. Она принимает сформулированные Фрейдом в 1923 году теорию об универсальном бессознательном влечении к смерти, но заявляет, что для того, чтобы человек выжил, у него должен быть также противовес – страх утратить жизнь. Страх смерти Кляйн считает первичным источником тревоги; следовательно, связанная с половым влечением тревога и тревога Супер‑Эго – это более поздние производные феномены.
"Мои аналитические наблюдения показывают, что в бессознательном присутствует страх прекращения жизни. Я также склонна думать, что если мы признаем существование инстинкта смерти, мы должны признать и существование в глубочайших пластах психики отклика на этот инстинкт в виде страха прекращения жизни. Опасность, возникающая в результате внутрипсихической работы инстинкта смерти, – первая причина тревоги. Страх поглощения – открытое выражение страха полного уничтожения "я". Страх смерти является частью страха кастрации и не 'аналогичен' ему. Поскольку воспроизведение себе подобных – фундаментальный путь противостояния смерти, потеря половых органов должна означать утрату творческой силы, сохраняющей и продолжающей жизнь"
По моему мнению, аргумент Кляйн о страхе смерти как источнике озабоченности воспроизведением себе подобных серьезно ставит под сомнение традиционные аналитические взгляды на то, что именно «первично» в психической жизни индивида Курт Айслер, еще на раннем этапе психоаналитического движения глубоко размышлявший о смерти, также пришел к выводу, что ранний детский интерес к сексуальности является производным, вторичным по отношению к еще более раннему пугающему сознаванию смерти.
«Путем тщательного исследования этого вопроса можно показать, что интерес ребенка к генеративным процессам (то есть к „фактам жизни“) – это вторая редакция более раннего и кратковременного интереса к смерти. Возможно, ребенок прекращает исследование смерти вследствие сопутствующего ей ужаса, а также ощущений полной беспомощности и, соответственно, безнадежности как‑либо продвинуться в этих изысканиях»
Другие специалисты, близко наблюдавшие детей, пришли к выводу, что маленький ребенок, независимо от того, способен ли он понять смерть интеллектуально, интуитивно схватывает суть дела Анна Фрейд, работавшая с маленькими детьми в Лондоне во время бомбардировок города, писала. «Можно с уверенностью сказать все дети, которым во время бомбардировок Лондона было более двух лет, понимали, что дома, в которые попадают бомбы, разрушаются и что люди в этих домах часто бывают убиты или ранены». Она описала ребенка четырех с половиной лет, который осознал гибель своего отца. Мать ребенка хотела, чтобы дети отрицали смерть отца, но ребенок настаивал «Я знаю все о своем отце. Он убит и больше никогда не вернется».
Фурман работала с большим количеством детей, потерявших родителей, и заключила, что на втором году жизни дети в принципе способны к пониманию смерти. Достижению этого понимания способствует определенный ранний опыт, помогающий ребенку сформировать необходимую умственную категорию. Фурман приводит следующий пример:
"Сюзи едва исполнилось три года, когда ее мама умерла. Вскоре после того, как Сюзи сообщили горестное известие, она спросила. «Где мама?» Отец напомнил ей о мертвой птице, которую они недавно нашли и похоронили. Он объяснил, что мама тоже умерла, и ее пришлось похоронить. Когда Сюзи захочет, он покажет ей, где мама похоронена. Месяц спустя Сюзи сообщила папе. «Джимми (шестилетний соседский мальчик) говорит, что мама скоро вернется, потому что его мама так сказала. Я сказала ему, что это неправда, потому что моя мама мертва, а если ты мертвый, ты никогда не сможешь вернуться. Ведь это прав да, па?»
Нижеследующий случаи с ребенком трех лет и девяти месяцев рассказала его мама.
Джейн не получала никакого религиозного образования, и до сих пор никто из знакомых ей людей не умирал. Несколько дней назад она стала задавать вопросы о смерти. Разговор начался с вопроса Джейн: возвращаются ли люди весной на землю, подобно цветам? (Примерно неделю назад девочку очень расстроила гибель ее любимого цветка, и мы утешили ее заверением, что он вернется весной.) Я ответила, что они возвращаются по‑другому, может быть, как младенцы. Ответ явно обеспокоил Джейн – судя по тому, что она сказала, она ненавидит перемены и старение людей: «Я не хочу, чтобы Нэн становилась другой, не хочу, чтобы она менялась и старилась». Потом «Нэн умрет? Я тоже умру. Все умирают?» Когда я сказала, что да, она горько расплакалась и повторяла: «Но я не хочу умереть, я не хочу умереть…» Затем она спросила, как люди умирают, больно ли это, когда люди умерли, открывают ли они глаза, говорят ли, едят ли, носят ли одежду. Внезапно посреди этих вопросов и слез она заявила: «Теперь я буду дальше пить чай», и все дело было временно забыто.
Интересно, что эта мама с ее неуверенными и неопределенными ответами незадолго до того без всяких затруднений удовлетворила любопытство дочки на предмет рождения детей и того, откуда они берутся. Приведенный выше рассказ она закончила словами. «Это застало меня врасплох. Я ожидала вопросов о рождении и т.п., но вопросы о смерти были неожиданными, а мои собственные представления о ней очень туманны». Разумеется, ребенок чувствует тревогу и замешательство родителей, какие бы успокаивающие слова их ни сопровождали.
Другие пересказы бесед детей с родителями доносят атмосферу детского страха и любопытства в связи со смертью. Например:
«Недавно во время купания Ричард (5 лет 1 месяц) принялся хныкать и расстраиваться из‑за смерти. За день до того, ныряя и выныривая в ванне, он представлял, что никогда не умрет, что будет жить до тысячи лет. А тут он сказал: „Я могу оказаться один, когда буду умирать; ты будешь со мной?“; „Но я не хочу когда‑нибудь умереть; я не хочу умирать“. Несколькими днями раньше, когда он выражал страх в связи с незнанием, как умирают, его мама сказала, что ему не стоит беспокоиться об этом: она умрет первой, и он будет знать, как это происходит. Казалось, это его успокоило».
Адам Маурер в своем весьма спорном эссе интригующе размышляет о раннем сознавании смерти младенцами. Первая задача младенца, говорит он, – различение себя и среды, познание бытия как противоположного небытию. Благодаря переходам между сознанием и бессознательным, сном и бодрствованием младенец начинает различать эти два состояния. Что он переживает в ночных приступах паники? Маурер предполагает, что страх и сознавание небытия. Младенец, лежащий в темной, безмолвной комнате, лишенный пищи для зрения и слуха, может впасть в состояние паники, почувствовав себя как бы отделенным от тела, лишь наполовину находящимся в этом мире. (Макс Штерн, изучавший ночные приступы паники, пришел к сходному выводу, ребенок испытывает панический страх перед «ничто».)
Почему младенцам так нравится бросать игрушки с высокого детского стульчика? Если он находит услужливого партнера, возвращающего игрушку, то может продолжать эту игру до бесконечности, пока тот не устанет. Возможно, это эротическое удовольствие от мышечного движения; возможно проявление того, что Роберт Уайт называет влечением к «результативности», – удовольствие, сопряженное с контролем над средой. Маурер предполагает, что младенца завораживает исчезновение и новое появление – доступные ему в мышлении и поведении материальные символы концепций бытия и небытия. Что касается влечения к результативности Уайта: оно вполне может быть следствием стремления младенца победить небытие. Эти идеи звучат в гармонии с огромным оркестром литературы по детскому развитию, посвященной «постоянству объекта», подробное обсуждение которой увело бы меня слишком далеко в сторону. В двух словах: ребенок не может отдать себе отчет в исчезновении объекта, пока он не установил его постоянство. С другой стороны, постоянство не имеет смысла вне восприятия изменения, разрушения или исчезновения; таким образом, концепции постоянства и изменения формируются у ребенка в комплексе. Далее, постоянство объекта и ощущение постоянства собственного "я" интимно связаны. Мы приходим к представлению о той же осцилляции, соотнесенности между постоянством (бытие, существование) и исчезновением (небытие, смерть), играющей важную роль в развитии ребенка.
«Больше нету» («All gone») – это одно из первых словосочетании детского словаря и распространенная тема детских страхов. Дети замечают, как цыпленок исчезает во время еды; как вдруг больше нету воды в ванне, когда вытащена затычка; как смываются водой фекалии. Трудно найти ребенка, который бы не опасался быть поглощенным, смытым, утянутым в канализацию. В аналитической литературе отмечено бессознательное отождествление фекалий и трупа. Возможно, психотерапевтам пришло время переосмыслить динамику конфликта, связанного с приучением к туалету, в котором может быть нечто большее, чем анальный эротизм или упрямое сопротивление: приучение к туалету пробуждает у ребенка страх за свою физическую целостность и выживание.
Когда ребенок осознает, что возвращение исчезнувших объектов не есть закон природы, он начинает искать новые способы защитить себя от угрозы небытия. Из жертвы «больше нету» он превращается в господина этого обстоятельства. Он сам вытаскивает затычку в ванне, спускает воду в унитазе, радостно задувает спички, с восторгом помогает маме нажимать на педаль мусорной урны. Позже он распространяет вокруг себя смерть – символически, играя в ковбоев и индейцев, либо в буквальном смысле – уничтожая жизнь в насекомых. Карен Хорни считала, что враждебность и деструктивность ребенка прямо пропорциональны степени ощущаемой им угрозы собственному выживанию.
После того как ребенок «узнал», что происходит с его знанием?
Знаемое не остается знаемым. Матильда Макинтайр, Кэрол Энгл и Лоррен Штрумплер опросили 598 детей: знает ли мертвый четвероногий домашний любимец о том, что его хозяин скучает по нему? Они обнаружили, что семилетние дети в значительно большей мере, чем одиннадцати– и двенадцатилетние, склонны признавать окончательность и необратимость смерти. Аналогичные результаты были получены Ирвингом Александером и Артуром Адлерштейном, измерившими КГР* у большого количества детей в возрасте от пяти до шестнадцати лет, которым был предъявлен ряд связанных со смертью слов, вкрапленных среди нейтральных слов. Эти исследователи разделили своих испытуемых на три группы: детскую (5‑8 лет), препубертатную, или латентную (9‑12) и пубертатную (13‑16). Результаты этого исследования показали, что у маленьких детей (и у подростков) эмоциональная реакция на связанные с темой смерти слова значительно выше, чему испытуемых латентного возраста. Авторы заключили, что латентный период – спокойное время, «золотой век» детства. «Вероятно, дети в этом возрасте слишком увлечены повседневной жизнью и ее удовольствиями, чтобы беспокоиться о смерти».
* Кожно‑гальваническая реакция – физиологическая мера тревоги.
Я полагаю, что эти результаты могут быть объяснены не столь радужно. Ребенок в раннем возрасте сталкивается с «подлинными фактами жизни», когда самостоятельно проведенные изыскания приводят его к открытию смерти, подавляющему и вызывающему первичную тревогу. Ребенок ищет утешения, однако не может избежать конфронтации со смертью. Он может испытывать панический страх перед ней, отрицать, персонифицировать, вытеснять ее; делать вид, что имеет дело с чем‑то другим; насмехаться над ней. Однако конфронтировать с ней он так или иначе должен. В латентной фазе развития ребенок научается (или его научают) отрицать реальность; постепенно, по мере того, как у него формируются эффективные и изощренные способы отрицания, образ смерти уходит в бессознательное и явный страх смерти притупляется. Беззаботные дни препубертата «золотой век» латентности порождены тревогой смерти, а вовсе не ее уменьшением. В этот период ребенок приобретает много общего знания, но в то же время уходит от знания о фактах жизни. Сознавание смерти становится так же «латентно», как инфантильная сексуальность. С наступлением пубертата детские механизмы отрицания перестают быть эффективными. Интроспективные тенденции и возросшие ресурсы позволяют подростку вновь встретиться с неизбежностью смерти, терпеть тревогу и искать альтернативный путь сосуществования с фактами жизни.
Стадии знания
Рабочая модель последующего развития концепции смерти у ребенка определяется ответом на вопрос, остающийся пока открытым: что он вначале знает о смерти? Развивается ли у ребенка сознавание и понимание смерти постепенно либо, как считаю я, он оказывается «вдруг» «знающим» слишком много, слишком рано и лишь потом, постепенно, становится готов принять то, что исходно знал? Определенности в этом пока нет: ни одна из двух точек зрения не имеет решающих подтверждений.
Я рассматриваю последовательность состояний знания, инициируемую первоначальным знанием ребенка о смерти, как результат работы отрицания. Для того чтобы отрицание имело место, необходимо, чтобы сначала было знание: можно отрицать лишь то, что знаешь. Если читатель предпочитает не согласиться с моими аргументами в поддержку первоначального знания, он может повсюду, где я написал «отрицание», читать приближение к знанию.
Отрицание: смерть временна, она есть уменьшение, приостановление жизни или сон. сознания. Многие дети, достаточно большие, чтобы уметь говорить, сообщают, что считают смерть обратимой, или временной; не прекращением, а уменьшением сознания. Этот взгляд получает значительное подкрепление в вездесущих мультиках, где персонажи разлетаются на части, расплющиваются, раздавливаются, изувечиваются бесконечным числом способов, после чего чудесным и окончательным образом восстанавливаются. Наги дает некоторые красноречивые примеры из интервью:
С.К. (4 года 8 мес.): Он не двигается, потому что он в гробу.
– Если бы он не был в гробу, он мог бы двигаться?
Он может есть и пить.
С.Д. (5 лет 10 мес.): Его глаза закрыты, он лежит совсем мертвый. Что бы с ним ни делали, он не скажет ни слова.
– А через десять лет он будет такой же, как когда его похоронили?
– Он станет старше, он будет постоянно становиться старше и старше. Когда ему будет сто лет, он будет точь‑в‑точь как кусок дерева.
– Как это – как кусок дерева?
– Этого я не могу сказать. Моей маленькой сестре сейчас пять лет. Меня еще не было, когда она умерла. А сейчас ей столько же. У нее маленький гроб, но она помещается в него.
– Как ты думаешь, что она сейчас делает?
– Лежит, она всегда только лежит там. Она еще маленькая, она не может быть как кусок дерева. Это только очень старые люди.
– Что происходит там, под землей?
Б.А. (4 года 11 мес.): Он плачет, потому что он мертв.
Но из‑за чего он мог бы плакать
– Он боится за себя.
Т.П. (4 года 10 мес.): Мертвый человек все равно что спит. Спит в земле.
– Спит так же, как ты спишь ночью, или иначе?
– Просто закрывает глаза. Спит так, как люди ночью. Точно так же.
– Как ты узнаешь, спит кто‑то или мертв?
– Я узнаю по тому, что они ложатся спать вечером, а потом не открывают глаза. Если кто‑то ложится в кровать и не встает, значит. он умер или заболел.
– Он проснется когда‑нибудь?
Никогда. Мертвый человек только знает, когда кто‑нибудь приходит на могилу или что‑то в этом роде. Он чувствует, когда там кто то есть или кто‑то разговаривает.
– Он чувствует, когда на могилу кладут цветы. Вода касается песка. Медленно, медленно, он услышит все. Тетя, скажите мертвый человек чувствует, когда она просачивается глубоко в землю? (то есть вода)
– Как ты думаешь, он хотел бы выйти оттуда?
– Он хотел бы выйти, но гроб забит гвоздями.
– Если бы он не был в гробу, он мог бы вернуться?
– Он не смог бы откинуть весь этот песок.
Х.Г. (8 лет 5 мес.): Люди думают, что мертвые могут чувствовать
– А они не могут?
– Нет, они не могут чувствовать, это как сон. Когда я сплю, я ничего не чувствую, кроме того, что во сне.
– Мертвые видят сны?
– Я думаю, что нет. Мертвые не видят никаких снов. Иногда что‑то промелькнет, но это меньше даже половины сна.
Л.Б. (5 лет 6 мес.): Его глаза были закрыты.
– Почему?
Потому что он был мертв.
– Какая разница между сном и смертью?
– Приносят гроб и кладут его туда. Когда человек мертв, они вот так складывают ему руки.
– Что происходит с ним в гробу?
– Его едят черви. Они прогрызают себе путь в гроб.
– Почему он позволяет им есть его?
– Он уже не может встать, потому что над ним песок. Он не может выбраться из гроба.
– Если бы над ним не было песка, он мог бы выбраться?
– Наверняка, если он был не очень сильно поранен. Он мог бы просунуть руку сквозь песок и копать. Это показывает, что он еще хочет жить.
Т.Д. (6 лет 9 мес.): Крестный моей сестры умер, и я взял его за руку. Его рука была совсем холодная. Она была зеленая и синяя. Его лицо было все сморщено. Он не может двигаться. Он не может сжать руки в кулаки, потому что он мертв. И он не может дышать
– А его лицо?
– Оно в гусиной коже, потому что ему холодно. Ему холодно, потому что он мертв и весь холодный.
– Он чувствует холод или просто у него кожа была такая?
– Если он мертв, он все равно чувствует. Если он мертв, он совсем чуть‑чуть чувствует. Когда он совсем умрет, он уже ничего не почувствует.
Г.П. (6 лет): Он раскинул руки и лег. Его руки невозможно прижать. Он не может говорить. Не может двигаться. Не может видеть. Не может открыть глаза. Он лежит четыре дня.
– Почему четыре дня?
– Потому что ангелы еще не знают, где он. Ангелы выкапывают его и забирают с собой. Они дают ему крылья и улетают с ним.
Эти выдержки чрезвычайно красноречивы. Они поражают внутренними противоречиями, смещениями пластов знания, очевидными даже в этих коротких отрывках. Мертвые чувствуют, но они не чувствуют. Мертвые растут, но каким‑то образом остаются того же возраста и помещаются в гроб того же размера. Ребенок хоронит свою собаку, но оставляет пищу на могиле, потому что пес может быть чуть‑чуть голоден. Возникает впечатление, что для ребенка смерть имеет несколько стадии. Умерший может чувствовать «совсем чуть‑чуть» (или иметь проблески сновидений), но тот, кто «совсем умрет… уже ничего не почувствует». (Кстати, Наги использовала эти цитаты в качестве доказательства того, что дети рассматривают смерть как временное явление или полностью отрицают ее, отождествляя с уходом или сном. Здесь вновь трудно не заподозрить предубежденность наблюдателя: на мои взгляд, эти фрагменты указывают на значительную информированность детей. Быть съеденным червями, остаться навсегда под землей, «совсем умереть» и «больше ничего не почувствовать», – это мало походит на что‑либо временное или незавершенное.)
Хорошо известно, что дети отождествляют сон и смерть. Для ребенка состояние сна – самое близкое к бессознательному в его опыте и единственный ключ к представлению о том, что такое смерть. (В греческой мифологии Танатос, смерть, и Гипнос, сон – братья‑близнецы.) Ассоциация между сном и смертью значима в расстройствах сна, и многие клиницисты высказывали мысль, что страх смерти важный фактор бессонницы как у взрослых, так и у детей. Многие дети со склонностью к страхам воспринимают сон как источник опасности. Вспомним детскую молитву.
Мои Боже, сладко я буду спать,
Прошу Тебя душу мою охранять,
А если умру я ночной порой,
Возьми ее. Боженька милый, с собой.
Из собранных Наги детских высказываний также становится совершенно ясно, что дети, при всей неполноте их знания о смерти, рассматривают ее как нечто ужасное и пугающее. Заточение в заколоченном гробу, оплакивание себя под толщей земли, лежание в могиле в течение сотни лет и затем превращение в кусок дерева, ледяной холод, кожа, принимающая зеленый и синий цвет, неспособность дышать все это действительно жутко.*
* Эти ранние представления о смерти удивительным образом удерживаются в бессознательном. Эллиот Жак, например, описывает следующий сон пациентки средних лет, страдающей клаустрофобией: «Она лежала в гробу. Она была разрезана на маленькие ломтики и была мертва. Но через каждый ломтик проходила тонкая, как паутина, нервная нить, которая вела к мозгу. Поэтому она могла все чувствовать. Она знала, что мертва. Она не могла двигаться, не могла издать ни звука. Она могла только лежать в клаустрофобической тьме и безмолвии гроба».
Эти представления детей о смерти действуют отрезвляюще, особенно на родителей и педагогов, которые предпочитали бы игнорировать неприятную сторону вопроса. «То, чего они не знают, не может повредить им», – таков аргумент, стоящий за официально санкционированным молчанием. Однако если дети чего‑то не знают, они это придумывают, и, как мы видели в приведенных выше примерах, их домыслы еще страшнее, чем правда. Ниже я скажу еще кое‑что относительно просвещения на тему смерти, но пока ограничимся очевидным выводом, что дети действительно представляют смерть как нечто ужасное и что они вынуждены искать способы утешить себя.
Отрицание: два основных оплота против смерти. У ребенка есть две базисные защиты против ужаса смерти, восходящие к самому началу жизни, глубокие убеждения в своей индивидуальной неуязвимости и в существовании уникально личностного конечного спасителя. Оба эти убеждения подкрепляются открытыми родительскими текстами и религиозной традицией, несущими представления о посмертной жизни, о всемогущем защитнике‑Боге, об эффективности личной молитвы. Но они также укоренены и в раннем опыте младенца.
Исключительность. Каждый из нас питает с самого детства и сохраняет во взрослом состоянии иррациональную убежденность в своей исключительности. Ограничения, старение, смерть все это может относиться к ним, но не к нам, не ко мне. На глубинном уровне мы убеждены в своих личных неуязвимости и бессмертии. Истоки этой первобытной веры (пра‑защита, как называет ее Жюль Массерман) лежат в самом начале нашей жизни. Для каждого из нас это время предельного эгоцентризма. Я – вселенная, нет никаких границ между мною и другими объектами и существами. Каждая моя прихоть удовлетворяется без малейшего усилия с моей стороны: моя мысль немедленно претворяется в реальность. Я преисполняюсь ощущением своей исключительности и использую эту находящуюся в моем распоряжении веру как щит против тревоги смерти.
Конечный спаситель. Рука об руку с этой антропоцентрической иллюзией (я не использую данное слово в уничижительном смысле, речь идет о широко распространенной – возможно, универсальной – иллюзии) существует вера в конечного спасителя. Она также происходит из ранней жизни, из времени теневых фигур, родителей, этих чудесных придатков к ребенку, являющихся не только мощной движущей силой, но и вечными слугами. Полная заботы родительская бдительность в период младенчества и детства подкрепляет веру во внешнего прислужника. Вновь и вновь ребенок заходит слишком далеко в своих предприятиях, запутывается в жестоких тенетах реальности и находит спасение под громадными материнскими крыльями, окутывающими живым телесным теплом.
Убежденность в личной исключительности и в конечном спасителе оказывает развивающемуся ребенку хорошую услугу: они являются исходным фундаментом защитной структуры, воздвигаемой индивидом против ужаса смерти. На них надстраиваются вторичные защиты, которые у взрослых пациентов нередко маскируют как первичные празащиты, так и природу первичной тревоги. Эти две базисные защиты коренятся глубоко (о чем свидетельствует их живучесть, их присутствие в виде мифов о бессмертии и веры в личностного бога практически в каждой значительной религиозной системе;* они сохраняются и у взрослых, оказывая мощное влияние – о чем будет идти речь в следующей главе – на структуру характера и формирование симптомов.
* Важно подчеркнуть, что психодинамический смысл религии не отменяет истину, лежащую в основе религиозного мироощущения Говоря словами Виктора Франкла: «стремясь удовлетворить преждевременное сексуальное любопытство, мы придумываем, что младенцев приносят аисты. Но из этого не следует, что аистов не существует!»
Отрицание: вера в то, что дети не умирают. Распространенным утешением, к которому рано начинают прибегать дети, является вера в то, что детям смерть не грозит. Молодые не умирают; умирают старые, а старость очень, очень далеко. Вот некоторые примеры:
С.: (5 лет 2 мес.): Где твоя мама?
Мать: На небе. Она умерла некоторое время назад. Ей было около 70 лет.
С.: Ей должно было быть 80 или 90.
Мать: Нет, только 70.
С.: Но люди живут до 99. Когда ты умрешь?
Мать: О, не знаю. Когда мне будет 70, или 80, или 90.
С.: О… (пауза) когда я вырасту, я не стану бриться, и у меня будет борода, правда? (В предыдущем разговоре С. сказал: он знает, что у мужчин вырастает борода, когда они становятся очень, очень старыми. Впоследствии стало ясно, что он намеревался воздерживаться от бритья, чтобы отдалять смерть!).
Рут (4 года 7 мес.): Папа, ты умрешь?
Отец: Да, но только когда стану старым.
Рут: Ты станешь старым?
Отец: Да, да.
Рут: Я тоже стану старой?
Отец: Да.
Рут: Каждый день я боюсь смерти. Мне бы хотелось никогда не состариться, потому что тогда я не умру. Правда?
Интервьюер: Ребенок может умереть?
Г.М. (6 лет): Нет, мальчики не умирают, если только не попадают под машину. Но если они идут в больницу, то, я думаю, они и тогда остаются живыми.
Е.Г. (5 лет): Я не умру. Умирают, когда становятся старыми. Я никогда не умру. Когда люди становятся старыми, они умирают. (Позже он говорит, что умрет, когда будет очень старым.)"
В тесте на завершение рассказов большинство детей выразили предпочтение долго оставаться детьми, вместо того чтобы быстро вырасти. Мальчик девяти с половиной лет заявил, что он хочет перестать расти, чтобы всегда быть ребенком, так как «когда человек становится старше, в нем остается меньше жизни».
Разумеется, реальная смерть ребенка ставит серьезные проблемы перед детьми, которые они нередко решают путем различения двух вещей: умереть и быть убитым. Один мальчик сказал: «Мальчики не умирают, если их не зарежут или не задавит машина». Другой ребенок заявил: «Я не знаю, как можно умереть в десять лет, если тебя только никто не убьет». Другой (шести лет): «Я не умру, но если выйдешь на дождь, то можно умереть». Все эти высказывания свидетельствуют, что ребенок ослабляет свою тревогу, уверяя себя, что смерть не грозит ему прямо сейчас или, во всяком случае, не является неизбежной. Смерть совсем отсылается в старость невообразимо далекое для ребенка время – либо признается, что она может наступить вследствие несчастного случая, но лишь если ты «очень, очень» неосмотрителен.
Отрицание: персонификация смерти. Большинство детей в возрасте между пятью и девятью годами переживают период персонификации смерти. Смерть наделяется обликом и волей: это привидение, старуха с косой, скелет, дух, тень. Или смерть просто ассоциируется с мертвыми. Примеров тому невероятное множество.
Б.Г. (4 года 9 мес.): Смерть делает зло.
– Как она делает зло?
– Закалывает ножом до смерти.
– Что такое смерть?
Мужчина.
– Какой мужчина?
– Мужчина‑смерть.
– Откуда ты знаешь?
– Я видела его.
– Где?
– На лугу. Я собирала цветы.
Б.М. (6 лет 9 мес.): Смерть уносит плохих детей. Она ловит их и забирает с собой.
– На что она похожа?
– Белая, как снег. Смерть всюду белая. Она плохая. Она не любит детей.
– Почему?
– Потому что у нее злое сердце. Мужчин и женщин смерть тоже уносит.
– Почему?
– Потому что ей не нравится видеть их.
– Что в ней белое?
– Скелет. Скелет из костей.
– Это на самом деле так или только так говорят?
На самом деле так. Однажды я говорил о ней, и ночью пришла настоящая смерть. У нее есть все ключи, поэтому она может открывать все двери. Она вошла, все перевернула вверх дном. Подошла к кровати и начала стягивать одеяло. Но я хорошо укрылся. Она не могла меня раскрыть. Потом она ушла.
П.Г. (8 лет 6 мес.): Смерть приходит, когда кто‑то умирает; она приходит с косой, скашивает его и забирает. Когда смерть уходит, от ее ног остаются следы. Когда следы исчезают, она возвращается и скашивает еще людей. Хотели поймать ее, и она исчезла.
Б.Т. (9 лет 11 мес.): Смерть – это скелет. Она такая сильная, что может перевернуть корабль. Смерть нельзя увидеть. Она находится в скрытом месте. Она прячется на острове.
В.П. (9 лет 11 мес.): Смерть очень опасна. Никогда не знаешь, в какой момент она собирается унести тебя с собой. Смерть невидима. никто во всем мире ее никогда не видел. Но она ночью приходит к кому угодно и уносит его с собой. Смерть похожа на скелет. Все ее части сделаны из костей. Но когда начинает светать, утром, тогда и следа от нее не остается. Такая она опасная, смерть.
М.А. (9 лет 9 мес.): Смерть всегда рисуют со скелетом и черным плащом. На самом деле ее нельзя видеть. На самом деле это таком дух. Приходит и уносит людей, ей все равно, король это или нищий. Когда она хочет, она заставляет человека умереть.
Эти описания звучат пугающе, однако в действительности персонификация смерти ослабляет тревогу. Сколь бы мрачен ни был образ крадущегося скелета, выбирающегося по ночам из кладбищенского перегноя, по контрасту с правдой он действует утешительно. Пока ребенок верит, что смерть исходит от некоей внешней силы или фигуры, он защищен от действительно ужасной истины, что смерть – не внешняя инстанция, то есть что с самого начала своей жизни мы носим в себе семя собственной смерти. Более того, если смерть – наделенное чувствами существо, если как сказал ребенок в последнем примере – ситуация такова, что «когда она хочет, она заставляет человека умереть», тогда, возможно, на Смерть можно повлиять, чтобы она не хотела. Может быть. Смерть, как Пуговичника – ибсеновскую метафору смерти из «Пер Гюнта» – можно задержать, умилостивить либо даже – кто знает? – перехитрить или победить. Персонифицируя смерть, ребенок воссоздает культурную эволюцию: каждая примитивная культура в стремлении ощутить больший контроль над собственной судьбой придает антропоморфные черты слепым силам природы.*
* Исследование Кухером в 1974 году взглядов американских детей по отношению к смерти не подтверждает обнаруженную Наги (у венгерских детей) персонификацию смерти. Возможно, это связано с явными культуральными различиями, однако методологические отличия двух исследований затрудняют их сравнение: в американском исследовании интервью было высоко структурированным, недостаточно углубленным или не предполагало личного общения интервьюера с испытуемым, в то время как в венгерской программе интервью в большей мере включало открытые вопросы, было более интенсивным и личностным.
Страх смерти, представляющейся в антропоморфном облике, остается с нами на всю жизнь. Трудно найти человека, который не испытывал бы на некоем уровне осознавания страх темноты, демонов, духов или иных репрезентаций сверхъестественных сил. Создатели кинофильмов отлично знают, что даже средней руки фильм, где действуют сверхъестественные силы, неизменно задевает глубокие струны зрительских душ.
Отрицание: высмеивание смерти. Дети более старшего возраста пытаются уменьшить свой страх смерти путем утверждения того, что они живые. Девяти– и десятилетние нередко осмеивают смерть, глумятся над старым врагом. В школьном языке можно найти немало шуток по поводу смерти, которые кажутся детям веселыми и забавными. Например:
Тебя сожгут или похоронят.
Не кашель уносит тебя в могилу,
А гроб, в который тебя кладут.
Очень сладко я буду спать,
Бананов мешок во сне обнимать,
А если умру я до света дня,
То знай, что живот болел у меня.
Червяки вползают и выползают,
А тебе это вовсе и не мешает.
Многие дети, особенно мальчики, ударяются в подвиги бесшабашности. (Вполне возможно, что в некоторых случаях делинквентное поведение у мальчиков‑подростков выражает собой инерцию действия этой защиты от тревоги смерти.) Для девочек это значительно менее характерно – вследствие социального ролевого давления или, как предполагает Маурер, потому, что знание о своей биологической материнской, то есть творческой, функции делает их менее подвластными страху смерти.
Отрицание сознавания смерти в литературе по детской психиатрии. Несмотря на доказательную и убедительную аргументацию и свидетельства того, что дети открывают для себя смерть в раннем возрасте и глубоко обеспокоены ею, в психодинамических теориях личностного развития и в работах по психопатологии для страха смерти не находится обоснованного места. Откуда такое расхождение между клиническими наблюдениями и динамической теорией? Я думаю, что ответ на этот вопрос включает в себя «как» и «почему».
Как? По‑моему, смерть исключается из психодинамической теории простым методом: она перетолковывается в «сепарацию», которая и занимает ее место в динамической теории. Джон Боулби в своем монументальном труде по сепарации представляет убедительные свидетельства этологии, экспериментальных исследований и наблюдений – слишком обширные, чтобы их можно было здесь рассмотреть, показывающие, что сепарация от матери является для младенца катастрофическим событием и что в возрасте от шести до тридцати месяцев тревога сепарации четко проявлена. Боулби приходит к выводу, нашедшему широкое признание клиницистов, что сепарация есть первичный фактор возникновения тревоги, то есть тревога сепарации является базисной тревогой, и другие источники тревоги, в том числе страх смерти, приобретают эмоциональную значимость в результате отождествления с тревогой сепарации. Иными словами, смерть вызывает страх потому, что пробуждает тревогу сепарации.
Работа Боулби по большей части красиво аргументирована. Однако, когда он обращается к тревоге смерти, его воображению словно что‑то подрезает крылья. Например, он ссылается на исследование Джерсилда, в котором четырем сотням детей задавали вопросы об их страхах. Джерсилд нашел, что специфические страхи болезни или смерти упоминались подозрительно редко – ни одним из двухсот детей моложе девяти лет и лишь шестью из двухсот в возрасте от девяти до двенадцати. Боулби делает из этого вывод, что до десяти лет дети не боятся смерти, что данный страх – более поздний и наученный и что смерть значима, поскольку отождествляется с сепарацией". Исследование Джерсилда показывает, чего боятся дети: животных, темноты, высоты, а также нападения в темноте таких существ, как духи или похитители. Боулби не задается очевидным вопросом: что значат для ребенка темнота, духи, свирепые животные, нападение в темноте? Иными словами, каково глубинное значение, или психическая репрезентация, этих страхов?
Ролло Мэй в своей ясной и убедительной книге о тревоге утверждает, что исследование Джерсилда продемонстрировало лишь одно: тревога трансформируется в страх. Страхи ребенка зачастую непредсказуемы, переменчивы и отдалены от окружающей реальности (например, ребенок скорее будет бояться экзотических животных, таких как гориллы и львы, чем близко знакомых ему). То, что на поверхностном уровне воспринимается как непредсказуемость, по мнению Мэя, представляет собой проявление глубинной закономерности, страхи детей являются «объективированной формой базисной тревоги». Мэй рассказывает. «Джерсилд заметил в личной беседе, что эти [детские] страхи в действительности служат выражением тревоги. Его изумляло, что он не видел этого раньше. Я думаю, его прежнее непонимание свидетельствует, насколько трудно сойти с традиционных путей мышления».
В бихевиоральных исследованиях выявлено множество обстоятельств, при которых у детей возникает страх. В связи с этими экспериментальными данными может быть задан тот же самый вопрос: Почему ребенок боится незнакомцев, «визуального обрыва» (стеклянный стол с кажущейся пропастью под ним), приближающегося объекта (смутно вырисовывающегося), темноты? Очевидно, в каждом из этих случаев предмет страха – так же, как животные, духи и разлука – репрезентирует угрозу выживанию. Однако редко кто‑либо задается вопросом о том, почему эти ситуации вызывают у ребенка страх как угрожающие жизни, – за исключением Мелани Кляйн и Д.В. Винникотта, подчеркивающих, что первичная тревога связана с переживанием угрозы аннигиляции, поглощения или распада Эго. Специалисты по детскому развитию и детские психоаналитики зачастую делают далеко идущие умозаключения о внутренней жизни ребенка, когда речь идет об объектных отношениях или инфантильной сексуальности, однако едва дело коснется представлений ребенка о смерти, их интуиция и воображение прочно затормаживаются.
О существовании сепарационной тревоги свидетельствуют серьезные бихевиоральные исследования. Детеныш любого вида млекопитающих, будучи отделен от матери, обнаруживает признаки дистресса – как внешние моторные, так и внутренние физиологические. Нет также сомнений, как прекрасно демонстрирует Боулби, что сепарационная тревога рано проявляется и у человеческих младенцев и что беспокойство о сепарации остается фундаментальным элементом внутреннего мира взрослых.
Но бихевиоральное исследование не может раскрыть внутренний опыт маленького ребенка – как выражается Анна Фрейд, «психическую репрезентацию» поведенческой реакции". Можно узнать, что вызывает опасения, но не то, что они означают. Эмпирические исследования показывают, что ребенок в состоянии сепарации испытывает страх, но из этого не следует, что тревога сепарации есть первичная тревога, порождающая тревогу смерти. Возможно, на психическом уровне, лежащем глубже уровня мышления и речи, ребенок испытывает изначальную тревогу, связанную с угрозой небытия, и эта тревога, как у детей, так и у взрослых, стремится стать страхом, то есть быть связанной «словами» единственного доступного не совсем маленькому ребенку «языка» и трансформированной в сепарационную тревогу. Психологи развития отвергают идею о переживании тревоги смерти маленьким ребенком – возраста менее, скажем, тридцати месяцев, – считая, что у него нет отчетливого представления о себе в отдельности от окружающих объектов. Но о сепарационной тревоге можно сказать то же самое. Что переживает ребенок? Определенно, не сепарацию, потому что без концепции "я" нет и представления о сепарации. Что от чего, собственно говоря, сепарируется?
Наше знание о внутреннем опыте, который не может быть описан, имеет свои пределы, и в нашей дискуссии мне грозит опасность «овзрослить» мышление ребенка. Не следует забывать, что термин «сепарационная тревога» – условное обозначение, возникшее на основе эмпирических исследований и принятое по договоренности, относится к некоему невыразимому внутреннему состоянию опасения. Но на самом деле, если иметь в виду взрослого – нет никакого смысла в замене тревоги смерти на сепарационную тревогу (или на «страх потери объекта»), как и в утверждении, что тревога смерти происходит от более «фундаментальной» сепарационной тревоги. Как я говорил в предыдущей главе, мы можем понимать «фундаментальное» в двух различных смыслах: как «базисное» и как «хронологически первое». Даже если мы согласимся, что сепарационная тревога – хронологически первая тревога, мы не обязаны делать вывод, что тревога смерти «в действительности» есть страх потери объекта. Наиболее фундаментальная (базисная) тревога порождается угрозой потери "я"; если мы боимся утраты объекта, то лишь потому, что утрата объекта представляет (или символизирует) угрозу выживанию.
Почему? Исключение страха смерти из динамической теории, очевидно, не является результатом оплошности. Как мы видели, нет и веского обоснования для перевода этого страха на язык других концепций. Я уверен, что здесь имеет место эффективный процесс вытеснения, обусловленный универсальной тенденцией человечества (в том числе бихевиористски ориентированных исследователей и теоретиков) отрицать смерть – и личностно, и в профессиональной сфере. К подобному выводу пришли и другие исследователи, изучавшие страх смерти. Энтони отмечает:
«Явная нечувствительность и отсутствие логики (у исследователей детского развития) по отношению к феномену человеческого страха смерти, являющемуся, как показывают антропология и история, одним из наиболее распространенных и мощных человеческих мотивов, могут быть объяснены лишь конвенциальным (то есть культурально индуцированным) вытеснением этого страха самими авторами и теми, о чьих исследованиях они сообщают».
Чарльз Валль высказывается в том же духе:
"То, что феномен страха смерти, или тревоги в связи со смертью (так называемой танатофобии), отнюдь не являющийся клиническим раритетом, почти не описан в психиатрической и психоаналитической литературе – факт удивительный и значимый. Это отсутствие бросается в глаза. Позволяет ли оно предположить, что психиатры не менее, чем прочие смертные, предпочитают не обращать свое внимание на проблему, столь определенно и личностно выражающую собой всю хрупкость человеческого статуса? Может быть, для них не менее, чем для их пациентов, справедливо наблюдение Ларошфуко: «Человек не может прямо смотреть на солнце и на смерть».
ТРЕВОГА СМЕРТИ И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПСИХОПАТОЛОГИИ
Если тревога смерти представляет собой базисный фактор развития психопатологии, а принятие идеи смерти фундаментальную задачу в развитии каждого ребенка, почему тогда у одних индивидов формируются повреждающие невротические расстройства, а другие достигают зрелости в относительно хорошо интегрированном состоянии? Эмпирические исследования, которые помогли бы ответить на этот вопрос, отсутствуют, и в настоящий момент я могу лишь высказать некоторые гипотезы. Несомненно, здесь участвует ряд сложным образом взаимодействующих факторов. Должна существовать «идеальная» хронология, то есть последовательность, шагов развития, при которой ребенок разрешает свои задачи в темпе, соответствующем его внутренним ресурсам. «Слишком многое, слишком рано» определенно создает дисбаланс. Ребенок, грубо конфронтировавший со смертью еще до того, как у него сформировались адекватные защиты, подвергается тяжелому стрессу. Тяжелый стресс, во все времена жизни являющийся неприятным событием, для маленького ребенка чреват последствиями, выходящими за рамки транзиторной дисфории. Фрейд, например, говорил о том, что сильная ранняя травма наносит Эго непропорционально тяжкие и стойкие повреждения. Он иллюстрировал это ссылкой на биологический эксперимент, показывающий, что легкий укол иглой эмбриона в начале его развития вызывает катастрофический эффект во взрослом организме.
О какого рода травме может идти речь? Есть несколько очевидных вариантов. Смерть кого‑либо из окружения ребенка – важное событие. Встреча со смертью в соразмерной дозе, при наличии необходимых ресурсов Эго, благоприятных конституциональных факторов и поддерживающих взрослых, которые сами способны адаптивно взаимодействовать с тревогой смерти, вырабатывает психологический иммунитет. Однако в других ситуациях способность ребенка защитить себя может оказаться недостаточной. Каждый ребенок имеет дело со смертью – насекомых, цветов, домашних животных. Эти смерти бывают источником замешательства или тревоги и побуждают ребенка обсуждать с родителями свои вопросы и страхи, связанные со смертью. Но для ребенка, столкнувшегося с человеческой смертью, вероятность травмы существенно выше.
Особенно пугающей является, как я уже говорил выше, смерть другого ребенка – она подрывает успокоительную убежденность, что умирают только очень старые люди. Смерть сиблинга – тоже ребенка и одновременно близкого человека сильная травма. Реакция ребенка может быть весьма сложной, поскольку на нее влияют несколько факторов: вина, проистекающая из соперничества сиблингов (и из удовольствия получить больше родительского внимания); потеря; пробуждение страха собственной смерти. В литературе обсуждается преимущественно первый фактор – вина, иногда второй – потеря, но практически никогда – третий. Например, Розенцвейг и Брей представляют данные, указывающие на то, что в выборке больных шизофренией достоверно чаще, чем в выборке маниакально‑депрессивных бальных, общей выборке пациентов с парезами и выборке из нормальной популяции, встречалась смерть сиблинга, наступавшая до шестого дня рождения пациента.
Розенцвейг интерпретирует этот результат стандартным аналитическим образом, а именно как то, что поглощающее чувство вины, обусловленное враждебностью сиблингов и инцестуозными чувствами, является значимым фактором возникновения шизофренических поведенческих стереотипов. Этот вывод он пытается подтвердить тремя краткими (по одному абзацу) описаниями случаев. При всей краткости описаний и несмотря на выбор из огромной массы клинического материала, делавшийся с целью подтверждения тезиса, две из трех виньеток свидетельствуют о присутствии страха личной смерти. Один пациент, рано потерявший мать и двух братьев, тяжело пережил смерть двоюродного брата: «Он был так глубоко расстроен, что почувствовал себя плохо и должен был лечь в постель: он непрестанно боялся, что умрет. Врач поставил диагноз нервного срыва. Вскоре у пациента появилось причудливое поведение шизофренического рода». Другой пациент потерял трех братьев, первого – в шесть лет. В семнадцать, вскоре после смерти третьего брата, у него развился острый психоз. Единственная цитата из слов пациента наводит на мысль, что в его реакции было нечто большее, чем чувство вины: «Время от времени я слышал его голос. Иногда я словно почти был им. Не знаю, кажется, что надвигается какая‑то пустота… Как мне преодолеть такую пустоту, как его смерть? Мой брат мертв, а я – да, я жив, но знаю…» Эта высоко селективная форма описания случаев ничего не доказывает. Я вдаюсь в подробности, чтобы продемонстрировать проблемы интерпретирования данных исследований. Ученые и клиницисты становятся пленниками стереотипа, и им бывает трудно изменить свою установку даже тогда, когда, как в этом исследовании, вырисовывается иное объяснение, вполне правдоподобное и совместимое с полученными данными.
Если учитывать и потерю родителя, и потерю сиблинга, то оказывается, что свыше 60 процентов шизофренических пациентов в исследовании Розенцвейга пережили раннюю потерю. Может быть, у них было «слишком многое, слишком скоро». Дело не только в том, что у этих пациентов произошла слишком масштабная встреча со смертью: вследствие патологии семейного окружения эти пациенты и их семьи отличались сниженной толерантностью по отношению к тревоге. В четвертой главе я буду говорить о том, что Гарольд Серлз пришел к тем же выводам на основании своей психотерапевтической работы со взрослыми шизофреническими пациентами.)
Смерть родителя – катастрофическое событие для ребенка. Его реакции зависят от ряда факторов: качества отношений с родителем, обстоятельств смерти родителя (например, был ли ребенок свидетелем его естественной или насильственной смерти), отношения родителя к своей смертельной болезни, присутствия достаточно сильной фигуры другого родителя, доступности социальных и семейных ресурсов поддержки. Ребенок страдает от тяжелой потери и вдобавок его чрезвычайно беспокоит, не способствовали ли его агрессивные фантазии или поведение по отношению к родителю смерти последнего. Роль утраты и вины прекрасно известна и компетентно описана другими авторами. Однако в классической литературе, посвященной потере, не рассматривается влияние смерти родителя на осознание ребенком перспективы его собственной смерти. Выше я особо подчеркнул, что страх аннигиляции – первичный ужас индивида, источник значительной доли страдания, испытываемого при утрате значимого другого. Маурер хорошо выразил эту мысль. «На некоем уровне ниже уровня собственно знания ребенок с его наивным нарциссизмом „знает“, что потеря родителей – это потеря его связи с жизнью… Тотальный панический страх за свою жизнь, а не ревнивое собственничество по отношению к утраченному объекту любви – вот источник дистресса сепарационной тревоги».
Нетрудно показать, что среди пациентов психиатра, невротиков и психотиков, доля потерявших родителя больше, чем в общей популяции. Но последствия смерти родителя для ребенка столь велики, что научное исследование не позволяет выделить и взвесить все отдельные компоненты этого переживания. Например, эксперименты на животных показывают, что у детеныша, отделенного от матери, возникает экспериментальный невроз, и стресс сказывается на нем значительно более неблагоприятно, чем на собратьях, оставшихся рядом с матерью. У детеныша человека непосредственное присутствие материнской фигуры уменьшает тревогу, вызываемую непривычными событиями. Из этого следует, что ребенок, потерявший мать, становится менее стрессоустойчив. Он не только испытывает тревогу сопутствующую сознанию смерти, но и повышенно страдает от тревоги, вызываемой многими другими стрессами (межличностными сексуальными, школьными), с которыми он мало способен справиться. У него также с большой вероятностью могут развиться симптомы и невротические механизмы защиты, со временем слой за слоем накладывающиеся друг на друга. Страх личной смерти должен располагаться в глубочайших пластах, лишь редко выступая в незамаскированном виде – в кошмарах или других формах выражения бессознательного.
Джозефина Хилгард и Марта Ньюмен, изучавшие психиатрических пациентов, рано потерявших родителя, получили интригующий результат (который они окрестили «реакцией годовщины») – достоверную корреляцию между возрастом пациента ко времени психиатрической госпитализации и возрастом смерти его родителя. Иными словами, вероятность того, что возраст пациента на момент госпитализации совпадает с возрастом родителя на момент смерти, превышает вероятность случайности. Например, если матери пациента было тридцать лет, когда она умерла, в тридцать лет пациент вступает в период риска. Более того, старший ребенок пациента в это время с повышенной вероятностью находится в том же возрасте, в каком был сам пациент на момент смерти родителя. Например, пациентка, в шесть лет потерявшая мать, находится в психиатрической «группе риска», пока ее старшей дочери шесть лет. Исследовательницы не поднимали проблему тревоги смерти, однако возможно, что смерть матери ввергла ребенка – будущую пациентку – в конфронтацию с непрочностью человеческого существования: в смерти матери для девочки содержалось сообщение, что и она тоже должна умереть. Ребенок вытеснил этот вывод и ассоциированную с ним тревогу, которая оставалась бессознательной, пока не была пробуждена «годовщиной», – достижением пациенткой возраста, соответствующего возрасту смерти матери.
Степень травмы в большой мере зависит от того, насколько в семье тема смерти сопряжена с тревогой. Во многих культурах дети являются участниками ритуалов, окружающих мертвых. В похоронах или других связанных со смертью ритуалах им предназначены конкретные роли. Например, в новогвинейской культуре Форе (Fore) дети участвуют в ритуальном поедании умершего родственника. Скорее всего, этот опыт не катастрофичен для ребенка, поскольку взрослые участники ритуала не испытывают особой тревоги – это часть природного, не самосознающего потока жизни. Если, однако, для родителя тема смерти сопряжена с мощной тревогой – что в современной западной культуре встречается нередко, ребенок получает сообщение, что ему есть чего сильно бояться. Особенно значимо это родительское сообщение для физически тяжело больных детей. Мэриан Брекенридж и Е. Ли Винсент комментируют это так: «Ребенок чувствует тревогу своих родителей о том, что он может умереть, и это вселяет в него смутное беспокойство, не испытываемое здоровыми Детьми».
ПРОСВЕЩЕНИЕ ДЕТЕЙ НА ТЕМУ СМЕРТИ
Многие родители (возможно, большинство) в нашей культуре непрестанно пытаются уйти от реальности в том, что касается информации о смерти. Маленьких детей защищают от смерти, их открыто и сознательно вводят в заблуждение. Очень рано в них культивируется отрицание, заложенное в истории о рае, о воскресении мертвых, так же как и в уверениях, что дети не умирают. Позже, по мере того, как ребенок становится «готов воспринять это», родитель постепенно повышает дозу реальности. Некоторые просвещенные родители решительно восстают против самообманов и отказываются учить своих детей отрицанию реальности. Однако, когда ребенок страдает или испуган, даже им бывает трудно удержаться от отрицающих реальность успокоительных заверений – прямого отрицания смертности либо мифа о «долгом путешествии» в посмертной жизни.
Элизабет Кюблер‑Росс резко осуждает традиционную религиозную практику преподнесения детям «волшебных сказок» о рае, Боге и ангелах. Однако из ее описания собственной работы с детьми, обеспокоенными темой смерти, своей или родителей, ясно, что и она предлагает утешение, основанное на отрицании. Она сообщает детям, что в момент смерти человек трансформируется, или освобождается, «как бабочка», для утешительного, манящего будущего. Кюблер‑Росс утверждает, что это вовсе не отрицание, а реальность, установленная объективными исследованиями опыта переживших клиническую смерть; однако эмпирические доказательства не опубликованы. Такая позиция замечательного терапевта, прежде столь непоколебимо мужественной во встрече со смертью, свидетельствует о том, насколько трудна конфронтация со смертью без самообмана. «Объективные данные» Кюблер‑Росс ничем принципиально не отличаются от традиционного религиозного «знания», основанного на вере.
В западной культуре имеются четкие ориентиры в просвещении по таким вопросам, как физическое развитие, получение информации, социальные навыки и психологическое развитие; но когда речь идет о смерти, родителям приходится в основном полагаться на себя. Многие другие общества предлагают культурально санкционированные мифы о смерти, которые без какой‑либо амбивалентности или тревоги передаются детям. Наша культура не дает родителям четких направляющих ориентиров; при всей универсальности проблемы и ее критической важности для развития ребенка, каждая семья волей‑неволей должна сама решать, чему учить детей. Нередко детям дается неопределенная информация, окрашенная родительской тревогой и с высокой вероятностью вступающая в противоречие с информацией из других источников.
Среди профессиональных педагогов существуют резкие разногласия в том, как следует просвещать о смерти. Энтони рекомендует родителям отрицать реальность перед ребенком. Она ссылается на Шандора Ференци, заявившего, что «отрицание реальности есть переходная фаза между игнорированием и принятием реальности», и говорит, что если родителям не удается содействовать ребенку в отрицании, у него может развиться «невроз, в котором ассоциации со смертью играют свою роль». Энтони продолжает:
"Аргументы в пользу того, чтобы способствовать принятию реальности, достаточно сильны. Однако в данном контексте это сопряжено с опасностью. Знание о том, что отрицание само по себе есть облегчение принятия, может облегчить родителю его задачу. Естественно, он ожидает, что когда у ребенка больше не будет потребности в отрицании, тот обвинит его в ненадежности, во лжи. Будучи открыто обвинен, он сможет ответить: «Тогда ты не в состоянии был это принять».
С другой стороны, многие профессиональные педагоги разделяют взгляд Джерома Брунера, согласно которому «любому ребенку на любой стадии развития может быть интеллектуально честно преподан любой предмет», и стремятся содействовать постепенному реалистическому формированию представления о смерти у ребенка. Эвфемизмы («заснул навеки», «ушел к Отцу Небесному», «находится с ангелами») – это «хрупкие заслоны от страха смерти, которые только ставят ребенка в тупик». Игнорирование темы смерти дарует родителям «покой глупца»: дети‑то ее все равно не игнорируют и так же, как по теме секса, находят другие источники информации, зачастую не выдерживающей проверки реальностью либо даже более пугающей или невероятной, чем реальность.
Подведем итог. Имеются убедительные свидетельства того, что дети в раннем возрасте открывают смерть, осознают неизбежность прекращения жизни, относят это осознание к себе, и это открытие вызывает у них огромную тревогу. Взаимодействие с этой тревогой – базисная задача развития, которую ребенок разрешает двумя основными путями: изменяя для себя невыносимую объективную реальность смерти и изменяя внутренний мир переживаний. Ребенок отрицает неизбежность и окончательность смерти. Он создает мифы о бессмертии или с благодарностью впитывает мифы, предлагаемые другими. Он отрицает также свою собственную беспомощность перед лицом смерти путем изменения внутренней реальности он верит в свою персональную исключительность, всемогущество, неуязвимость и в существование внешней личной силы или существа, которое избавит его от судьбы, ожидающей всех остальных
Говоря словами Рохлина, «примечательно не то, что дети приходят к взрослому представлению о конечности жизни, а то, как цепко взрослые в течение всей жизни держатся за детскую веру и как легко обращаются в нее». Мертвые не мертвы, они отдыхают, дремлют в мемориальных парках под звуки вечной музыки, наслаждаются посмертной жизнью, в которой они наконец воссоединились с любимыми. И что бы ни происходило с другими, взрослый отрицает собственную смерть. Механизмы отрицания инкорпорированы в его жизненный стиль и структуру характера. Принятие своей личной смерти – это индивидуальная задача для взрослого не менее чем для ребенка; исследование психопатологии, к которому я теперь обращусь, это исследование неудавшегося превосхождения смерти.
4. СМЕРТЬ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ
Диапазон психопатологии – типов предъявляемых пациентами клинических картин – столь широк, что клиницистам необходим организующий принцип, который бы позволил сгруппировать симптомы, поведенческие и характерологические стереотипы в осмысленные категории. В той степени, в какой клиницисты могут применить структурирующую парадигму психопатологии, они избавлены от тревоги в связи с ранними стадиями психопатологических процессов. У них формируются способность узнавания и чувство контроля, вызывающие у пациентов ответную реакцию уверенности и доверия – предпосылок подлинно терапевтических отношений.
Парадигма, которую я опишу в этой главе, как и большинство парадигм психопатологии, основана на допущении, что психопатология представляет собой неудачный, неэффективный способ преодоления тревоги. Согласно экзистенциальной парадигме, тревога порождается конфронтацией индивида с конечными данностями существования. В этой главе я изложу модель психопатологии, основанную на борьбе индивида с тревогой смерти, а в последующих главах – модели, приложимые к случаям пациентов, чья тревога преимущественно связана с другими конечными данностями – свободой, изоляцией и бессмысленностью. По дидактическим причинам мне приходится обсуждать эти данности отдельно друг от друга, но на самом деле все четыре – это волокна единой нити бытия, и в конечном счете должны быть воссоединены в целостной экзистенциальной модели психопатологии.
Все люди имеют дело с тревогой смерти, большинство вырабатывает адаптивные стратегии, включающие основанные на отрицании механизмы, такие как подавление, вытеснение, смещение, вера в личное всемогущество, разделение социально санкционированных религиозных верований, «обезвреживающих» смерть, наконец, личные усилия к преодолению смерти посредством различного рода активности, направленной на достижение символического бессмертия
Но индивид, вступивший в «пациентские» миры, отличается тем, что в силу чрезмерного стресса или неадекватности доступных защитных стратегий универсальные пути преодоления тревоги смерти оказываются для него недостаточными, и он вынужден прибегнуть к крайним вариантам защит.
Психопатология (в любой системе) – это, по определению, неэффективный защитный модус. Даже в случае успешного отражения тяжелой тревоги защитные маневры блокируют рост, выливаются в скованную и неудовлетворяющую жизнь. Многие экзистенциальные теоретики отмечали высокую цену, которую индивиду приходится платить в борьбе за обуздание тревоги смерти. Кьеркегор знал, что в стремлении не чувствовать «ужас, гибель и уничтожение, обитающие рядом с любым человеком» люди ограничивают и умаляют себя". Отто Ранк охарактеризовал невротика как «отказывающегося брать в долг (жизнь), чтобы не платить по векселю (смерть)». Пауль Тиллих утверждал, что «невроз есть способ избегания небытия путем избегания бытия». Эрнест Бекер говорил примерно о том же самом: «Ирония человеческой ситуации состоит в том, что глубочайшая потребность человека – быть свободным от тревоги, связанной со смертью и уничтожением, но эту тревогу пробуждает сама жизнь, и поэтому мы стремимся быть не вполне живыми». Роберт Джей Лифтон использовал термин «психическое оцепенение» для описания защиты невротика от тревоги смерти.
В парадигме психопатологии, которую я собираюсь описать, «чистая» тревога смерти не попадает на передний план. Но это не должно нас удивлять: какова бы ни была теоретическая система, первичная тревога в своей исходной форме редко выступает в ней явственным образом. Для того и существуют защитные структуры, чтобы выполнять эту функцию внутреннего камуфляжа: вытеснение и другие противодисфорические маневры скрывают природу коренного внутреннего конфликта. В результате последний оказывается глубоко скрыт и может быть спекулятивно выведен – но никогда не познан вполне – лишь после трудоемкого анализа этих маневров.
Например, индивид может ограждать себя от тревоги смерти, сопряженной с процессом индивидуации, путем сохранения символической связи с матерью. Эта защитная стратегия временно может быть успешна, но в конце концов она сама станет источником вторичной тревоги: так, нежелание отделиться от матери может помешать посещению школы или формированию социальных навыков, и эти дефициты с большой вероятностью вызовут тревогу в отношениях с социумом, что, в свою очередь, может дать начало новым защитам, смягчающим дисфорию, но затормаживающим рост и, соответственно, порождающим новые слои тревоги и защит. Глубинный конфликт скрывается под затвердевшей коркой этих вторичных патологий, и обнаружение первичной тревоги становится чрезвычайно трудным делом. Клиницист, таким образом, не видит непосредственно тревогу смерти: он открывает ее при исследовании снов, фантазий, психотических высказываний или посредством кропотливого анализа начала невротических симптомов. Например, Льюис Лоуссер и Тиа Брай сообщают, что тщательное исследование первых фобических атак неизменно обнаруживает прорыв тревоги смерти. Последующие приступы фобии несут на себе дополнительный смешанный отпечаток разработок, замен и смещений.
Производные, вторичные формы тревоги являются, тем не менее, «настоящей» тревогой. Социальная тревога или глубокое чувство неполноценности могут сломить человека; и, как мы убедимся в следующей главе, терапевтические усилия обычно направлены на производную, а не на первичную тревогу. Психотерапевт, независимо от своих воззрений на исходный источник тревоги и происхождение психопатологии, начинает терапию на уровне жалоб пациента. Он может оказывать ему поддержку, поощрять адаптивные защиты, помогать в коррекции разрушительных стереотипов межличностного взаимодействия. Во многих случаях терапии экзистенциальная парадигма психопатологии отнюдь не влечет радикального отхода от традиционных терапевтических стратегий и техник.
ТРЕВОГА СМЕРТИ: ПАРАДИГМА ПСИХОПАТОЛОГИИ
В предыдущей главе была схематически описана клиническая парадигма, имеющая, по моему мнению, значительную практическую и эвристическую ценность. Детские способы справляться с тревогой смерти основаны на отрицании, и два главных оплота этой системы отрицания составляют архаические верования в личную неуязвимость и неизменную защиту со стороны конечного спасителя. Эти два верования особенно сильны, если они получили подкрепление из двух источников: обстоятельств ранней жизни и широко распространенных культурально одобренных мифов, включающих представления о бессмертии и существовании персонифицированного бдящего божества.
Клиническое выражение этих двух фундаментальных защит особенно прояснилось для меня в один прекрасный день, когда я принимал одного за другим двух пациентов, которых здесь назову Майк и Сэм. Их случаи позволяют глубоко исследовать два типа отрицания смерти. Контраст между ними поразителен и, служа каждый иллюстрацией противоположного полюса, они проливают свет на динамику другого.
Двадцатипятилетний Майк пришел ко мне по рекомендации онколога. У него обнаружили злокачественную лимфому и, хотя его единственным шансом на жизнь была новая форма химиотерапии, он отказывался сотрудничать в этом лечении. Я встретился с Майком лишь один раз (и он опоздал на нашу встречу на пятнадцать минут), но этого было достаточно, чтобы увидеть, ведущий мотив его жизни – индивидуация. Он рано начал бороться против любой формы контроля и выработал выдающиеся навыки самодостаточности. С двенадцати лет он зарабатывал себе на жизнь, а в пятнадцать покинул родительский дом. Окончив среднюю школу, он занялся подрядными работами и вскоре освоил все специальности строительного ремесла – плотника, электромонтажника, слесаря‑водопроводчика, каменщика. Он построил несколько домов, продал их со значительной прибылью, купил яхту, женился и вместе с женой совершил кругосветное плавание. Майку понравилась самодостаточная культура одной развивающейся страны, и он готовился туда эмигрировать, когда, за четыре месяца до нашей встречи, у него был обнаружен рак.
Самой поразительной в интервью с Майком была его иррациональная позиция по отношению к химиотерапии. Действительно, это лечение неприятно, вызывает сильную тошноту и рвоту. Но страх Майка превосходил все разумные границы, ночью перед сеансом лечения он не мог спать, у него развилась сильнейшая тревога, и он без конца измысливал способы уклониться от лечения. Чего именно он боялся? Точно сказать он не мог, но знал, что это имеет отношение к неподвижности и беспомощности. Ожидание, пока онколог приготовлял лекарство для инъекции, было для него нестерпимо. (Это нельзя было делать заранее, потому что дозировка зависела от подсчета форменных элементов крови, который должен был производиться непосредственно перед инъекцией.) Но хуже всего было внутривенное вливание, ввод иглы, обматывание руки, вид капель, входящих в его тело. Он ненавидел быть беспомощным и ограниченным в движениях, вынужденным тихо лежать на кушетке и держать руку неподвижно. У Майка не было сознательного страха смерти, но страх перед терапией, очевидно, являлся смещением тревоги смерти. Зависимость и статичность – вот что было по‑настоящему ужасно для него. Эти условия пробуждали ужас, они были эквивалентами смерти. В течение большей части жизни он отменял их полной самодостаточностью. Он глубоко верил в свою исключительность и неуязвимость, и до заболевания его образ жизни подкреплял это верование.
Я мало что мог сделать для Майка, кроме как посоветовать его онкологу научить Майка самого готовить лекарство и позволить ему контролировать процесс внутривенного вливания. Эти рекомендации помогли, и Майк завершил курс лечения. Ко мне он больше не пришел, но позвонил с просьбой о кассете для самостоятельной мышечной релаксации. Он предпочел не оставаться в этой местности для последующего медицинского контроля, а осуществить свой план эмиграции. Жена настолько не одобряла его решение, что отказалась с ним ехать, и Майк отправился в свое плавание один.
Сэм был примерно того же возраста, что Майк, но больше они ни в чем не были похожи. Он пришел ко мне в крайней ситуации, после того, как жена решила уйти от него. В отличие от Майка, он не находился под угрозой физической смерти, но на символическом уровне их с Майком положения были сходны. Поведение Сэма указывало на витальную опасность: он был в тревоге, близкой к панике, плакал целыми часами без перерыва, не мог ни есть, ни спать, любой ценой хотел избавиться от своих страданий и всерьез размышлял о самоубийстве. Со временем острота переживаний ушла, но дискомфорт оставался. Сэм постоянно думал о своей жене. По его собственным словам, он не «жил в жизни», а крадучись слонялся вовне. «Проведение времени» стало сознательным и серьезным делом: кроссворды, телевизор, газеты, журналы превратились для него в средства для преодоления пустоты, для переправы через время настолько незаметно, насколько возможно.
Структура характера Сэма становится понятна, если привлечь мотив «слияния», драматически противоположный «индивидуации» Майка. В течение второй мировой войны, когда Сэм был очень мал, его семья много раз переезжала, спасаясь от опасности. Он пережил много потерь, среди них смерть отца в препубертате и смерть матери несколькими годами позже. Он реагировал на эти потери установлением тесных, интенсивных связей: сначала с матерью, затем с радом кровных или приемных родственников. Он был домашний мастер для всех и каждого и вечная няня. «Злостный одариватель», он щедро уделял время и деньги значительному числу взрослых людей. Ничто не было для Сэма важнее, чем являться объектом любви и заботы. На самом деле, после того как жена покинула его, он понял, что чувствует себя существующим, только когда его любят, а в состоянии изолированности застывает подобно испуганному животному, погружаясь в некий анабиоз не живя и не умирая. Однажды, когда мы говорили о его душевной боли после ухода жены, Сэм сказал: «Когда я один сижу дома, тяжелее всего мне думать о том, что по‑настоящему никто не знает, что я жив». В одиночестве он почти не ел и не стремился удовлетворять какие‑либо свои нужды, кроме самых примитивных. Он не убирал в доме, не умывался, не читал; одаренный художник, он не рисовал. Как он выразился, нет смысла «тратить энергию, если не уверен, что другой вернет мне ее». Если рядом не было кого‑либо, подтверждающего его существование, – его не существовало. В одиночестве Сэм переходил в некое летаргическое состояние, ожидая, пока кто‑то другой даст ему энергию для возвращения к жизни.
В тяжелые моменты Сэм искал помощи старших: он мог пересечь всю страну ради нескольких утешительных часов в доме приемных родственников; он ощущал прилив бодрости, просто постояв рядом с домом, где жил вместе с матерью в течение четырех лет; телефонные разговоры, в которых он искал совета и успокоения, стоили ему астрономических сумм. Его очень поддерживали родители жены, отдавшие свой выбор (и любовь) Сэму, очень преданному им, а не своей дочери. Усилия Сэма помочь себе в кризисе были значительны, но подчинены одной теме: он пытался многими способами подкрепить свою веру в существование некоего защитника, который всегда держит его в поле зрения и заботится о нем.
Несмотря на свое предельное одиночество, Сэм не стремился делать что‑либо для его уменьшения. Я дал ему ряд практических советов по приобретению новых контактов: встречи одиноких, церковная общественная активность, встречи Сьерра‑клуба, образовательные курсы для взрослых и т.д. Я был немало озадачен, когда он все это полностью пропустил мимо ушей. Постепенно я понял: несмотря на все одиночество Сэма, ему было важно не быть с другими, а подтверждать свою веру в конечного спасителя. Он совершенно явно выказывал нежелание проводить время вне дома на встречах одиноких или на свиданиях. Причина? Он боялся пропустить телефонный звонок. Один звонок «оттуда» ценился бесконечно выше, чем дюжина социальных событий. И самое главное – Сэм хотел, чтобы его «находили», защищали, спасали без его просьбы о помощи и без необходимости для него организовывать собственное спасение. На самом деле, на глубинном уровне, успешные попытки принять ответственность за собственный выход из затруднительного жизненного положения вели к увеличению дискомфортных переживаний Сэма. Я работал с Сэмом в течение четырех месяцев. Когда его самочувствие улучшилось (благодаря моей поддержке и «слиянию» с другой женщиной), он явно потерял мотивацию к длительной психотерапевтической работе, и мы завершили терапию по взаимному согласию.
Две фундаментальные защиты от смерти
Чему научили нас истории Майка и Сэма? Мы ясно видели два радикально отличающихся способа преодоления фундаментальной тревоги. Майк был глубоко убежден в своей исключительности и личной неуязвимости: Сэм верил в существование конечного спасителя. У Майка было гипертрофированное ощущение самодостаточности, в то время как Сэм, в одиночестве вообще не чувствовавший, что существует, стремился к слиянию с другими людьми. Эти два пути диаметрально противоположны и, ни в коей мере не исключая друг друга, составляют диалектическую пару, позволяющую клиницисту понять широкий спектр клинических ситуаций.
Мы видели Майка и Сэма в периоды острых переживаний. Ни в том, ни в другом кризис не породил никаких новых защит, но ярчайше высветил природу и ограничения их модусов бытия. Крайняя приверженность к модусу индивидуации или слияния ведет к характерологической ригидности, очевидным образом дезадаптивной. Майк и Сэм демонстрируют крайние жизненные стратегии, увеличивающие стресс, снижающие адаптацию и затормаживающие рост. Майк отказывался от лечения, которое могло спасти ему жизнь, и позже отказался от медицинского контроля. Интенсивное желание Сэма иметь для себя все внимание жены стало причиной ее ухода; его жажда слияния привела к усилению боли одиночества и к неспособности активизировать ресурсы для освоения новой жизненной ситуации. Ни для Майка, ни для Сэма их кризисы не явились стимулом роста. Неадаптивное и ригидное поведение, препятствующее личностному росту, – это, по определению, поведение невротическое.
В грубом приближении эти две защиты образуют диалектическую пару – две диаметрально противоположные установки по отношению к человеческой ситуации. Человек сливается с другим или сепарируется, погружает себя в среду или выделяется из нее. Утверждает свою автономию, «отделяясь от природы» (по выражению Ранка), или ищет безопасности путем соединения с другой силой. Становится собственным отцом либо остается вечным сыном. Несомненно, именно это имел в виду Фромм, когда писал, что человек или «стремится к подчинению, или жаждет власти».
Эта экзистенциальная диалектика создает парадигму, позволяющую клиницисту «уловить» ситуацию. Существует много альтернативных парадигм, каждая из которых позволяет дать объяснение. У Майка и Сэма расстройства характера – шизоидного и пассивно‑зависимого типа, соответственно. В случае Майка можно обратить внимание на продолжительный мятежный конфликт с родителями, «антизависимость», невротическое застревание в эдиповой борьбе или гомосексуальную панику. Случай Сэма можно рассматривать в понятиях отождествления с Матерью и незавершенного процесса горя, или кастрационной тревоги, или отношений с женой как фактора семейной динамики.
Таким образом, экзистенциальный подход является одной парадигмой среди многих других, и право на существование определяется ее клинической полезностью. Эта диалектика позволяет терапевту принять во внимание данные, зачастую игнорируемые в клинической работе. Например, терапевту становится понятно, почему Майк и Сэм столь сильно и своеобразно отреагировали на свои болезненные обстоятельства или почему Сэм отвергал перспективу «улучшения» своей ситуации путем принятия ответственности за себя. Эта диалектика дает терапевту возможность вовлечения пациента в терапию на самом глубоком из возможных уровне. Она базируется на трактовке первичной тревоги в рамках непосредственного настоящего: симптомы пациента рассматриваются как ответ на тревогу смерти текущего момента, а не на возбуждение ассоциаций с прошлыми травмами и стрессами. Таким образом, в данном подходе делается акцент на сознавании, непосредственности и выборе – акцент, усиливающий эффект воздействий терапевта
На последующих страницах этой главы я опишу две базисные формы отрицания смерти и проистекающие из них типы психопатологии. (Хотя многие известные клинические синдромы могут быть рассмотрены и объяснены с помощью этих базисных отрицаний смерти, я не претендую на исчерпывающую классификационную систему, которая требовала бы большей точности и всесторонности.) Оба убеждения – в собственной исключительности и в существовании конечного спасителя могут быть высоко адаптивны. Но оба, однако, могут быть перегружены и перенапряжены до такой степени, когда адаптация дает сбой, в сознание просачивается тревога и индивид прибегает к крайним защитам. Результат манифестация психопатологии в виде слома защит либо защитного бегства
Из соображений четкости я буду обсуждать каждую защиту по отдельности. Но затем я должен буду интегрировать их, поскольку они связаны сложной взаимозависимостью, структуры характера огромного большинства людей включают элементы обеих защит.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
Глубокая иррациональная вера в нашу собственную исключительность никем не описана с такой силой и выразительностью, как Львом Толстым, который устами Ивана Ильича говорит:
"В глубине души Иван Ильич знал, что он умирает, но он не только не привык к этому, но просто не понимал, никак не мог понять этого.
Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветера: Кай – человек, люди смертны, поэтому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай‑человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо, но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо, он был Ваня с мамa, с папa, с Митей и Володей, с игрушками, кучером, с няней, потом с Катенькой, со всеми радостями, горестями, восторгами детства, юности, молодости. Разве для Кая был тот запах кожаного полосками мячика, который так любил Ваня? Разве Кай целовал так руку матери и разве для Кая так шуршал шелк складок платья матери? Разве он бунтовал за пирожки в правоведении? Разве Кай так был влюблен? Разве Кай так мог вести заседание?
И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно".
Каждый из нас знает, что по отношению к конечным данностям существования ничем не отличается от остальных. На сознательном уровне никто этого не отрицает Однако в самой глубине души мы, подобно Ивану Ильичу, верим, что другие, конечно, смертны, но уж никак не мы. Иногда эта вера прорывается в сознание, заставая нас врасплох, и тогда мы изумляемся собственной иррациональности. Например, недавно я посетил своего офтальмолога, жалуясь на то, что мои очки помогают мне уже не так хорошо, как прежде Он обследовал мои глаза и спросил возраст. Я сказал. «Сорок восемь» и получил ответ «Да, как по расписанию» Откуда‑то из глубины меня поднялась и зашипела мысль. «Какое еще расписание? Для кого расписание? Расписание может быть для тебя или других, но определенно не для меня».
Когда человек узнает, что болен серьезной болезнью, например раком, его первой реакцией обычно становится некоторая форма отрицания. Отрицание – это попытка справиться с тревогой, вызванной угрозой жизни, но оно также является функцией нашей глубокой веры в свою исключительность. Для воссоздания воображаемого мира, который остается с нами всю жизнь, необходима большая психологическая работа. Когда защита по‑настоящему подорвана, когда человек по‑настоящему осознает. «Боже мой, я ведь и вправду умру», и понимает, что жизнь обойдется с ним так же грубо, как с другими, – он чувствует себя потерянным и, неким странным образом, преданным.
Работая с пациентами, смертельно больными раком, я наблюдал огромные индивидуальные различия в готовности людей знать о своей смерти. Многие пациенты в течение некоторого времени просто не слышат своего врача, когда он говорит об их прогнозе. Чтобы это знание могло быть удержано, необходимо значительное внутреннее реструктурирование. Некоторые пациенты знают о своей предстоящей смерти и испытывают тревогу смерти в режиме стаккато: краткий момент осознания, краткий взрыв ужаса, отрицание, внутренняя переработка и затем готовность к дальнейшей информации. К другим осознание смерти и сопутствующая тревога приходят подобно бурному потоку наводнения, целиком и разом.
Поразительна история разрушения мифа исключительности у одной из моих пациенток, Пэм, двадцативосьмилетней женщины с раком шейки матки. После диагностической лапаротомии ее посетил хирург, сообщивший, что состояние пациентки действительно серьезно и что ей остается жить около шести месяцев. Час спустя к Пэм пришла команда радиологов, явно не переговоривших с хирургом, которые сказали ей, что планируют облучать ее и «рассчитывают на излечение». Пэм предпочла поверить вторым визитерам, но, к сожалению, хирург без ее ведома побеседовал с ее родителями, находившимися в комнате ожидания, которые, таким образом, получили первое из двух сообщении – что дочери осталось жить шесть месяцев.
Следующие несколько месяцев выздоравливающая Пэм провела в родительском доме, в самом нереальном из возможных окружений. Родители обращались с ней так, как если бы она должна была умереть в ближайшие шесть месяцев. Они изолировали от Пэм и себя, и весь остальной мир; контролировали телефонные звонки, чтобы исключить беспокоящие контакты. Короче говоря, они следили, чтобы ей было «спокойно». В конце концов Пэм потребовала, чтобы ей объяснили, что, собственно, происходит. Родители рассказали о беседе с хирургом, Пэм в ответ адресовала их к радиологам, и недоразумение было вскоре прояснено.
Однако Пэм осталась глубоко потрясена. Разговор с родителями сделал то, что не смог сделать смертный приговор, полученный от хирурга: заставил понять, что ее жизнь действительно взяла курс на смерть. Комментарий, сделанный Пэм в то время, многое раскрывает для нас:
«Мне вроде становилось лучше и все уже было не так мрачно, но они начали обращаться со мной так, словно я уже не жилец, и тут меня обожгла эта ужасная мысль, что они уже приняли мою смерть. Из‑за ошибки и недоразумения я уже была мертва для своей семьи, и очень трудно было различить где‑то передо мной границу, которая отвечает на вопрос, мертва я или жива?»
Пэм по‑настоящему поняла, что значит умереть, не из слов своих докторов, а в результате сокрушительного осознания того факта, что ее родители будут жить без нее и в мире все будет как раньше – как она сама выразила это, хорошие времена будут продолжаться без нас.
Для другой пациентки с метастатическим раком на поздней стадии аналогичный момент наступил, когда она писала письмо детям, инструктируя их о разделе каких‑то личных вещей, представлявших эмоциональную ценность. До того она вполне механически выполнила другие печальные формальные обязанности умирающей, написала завещание, купила участок земли на кладбище, назначила душеприказчика. Но именно личное письмо детям сделало смерть реальной для нее. Осознание простого, но ужасного факта, что когда ее дети прочитают это письмо, она уже не будет существовать и не сможет ответить им, видеть их реакции, направить их. Они будут, а она станет ничем.
Другая пациентка, после месяцев оттяжек, приняла болезненное решение поговорить со своими сыновьями‑подростками о том, что у нее поздняя стадия рака и жить си осталось недолго. Сыновья были удручены, но в своей реакции проявили мужество и самодостаточность. Для нее лучше было бы, если бы мужества и самодостаточности оказалось чуть поменьше. В отдаленном уголке сознания она ощутила даже некую гордость – она сделала то, что должен сделать хороший родитель, и они устроят свою жизнь в том русле, которое она для них проложила, – но они слишком хорошо справились с ее смертью; она ругала себя за неразумие, но все же была расстроена тем, что они будут существовать и процветать без нес.
Еще одна пациентка, Джен, страдала раком груди, распространившимся в мозг. Врачи предупредили ее о параличе. Она слышала их слова, но в глубине ее души было самодовольное ощущение, что ее это не коснется. Когда наступила непреодолимая слабость и затем паралич,
Джен внезапно осознала, что ее «исключительность» была мифом. Она поняла, что исключении нет. Рассказав об этом на встрече терапевтической группы, она добавила, что на прошлой неделе открыла для себя могущественную истину, которая заставила задрожать землю под ее ногами. Она размышляла сама с собой о том, сколько хотела бы прожить – семьдесят было бы то, что надо, восемьдесят могло бы быть слишком – и внезапно поняла: «Когда доходит до старения и потом до смерти – мои желания оказываются здесь совершенно ни при чем».
Может быть, эти клинические иллюстрации дали какое‑то представление о различии между знанием и подлинным знанием, между обыденным знанием о смерти, которое есть у нас всех, и полномерной встречей с «моей смертью». Принятие личной смерти означает конфронтацию и с рядом других неприятных истин, каждая из которых порождает свое силовое поле тревоги: мое существование ограничено во времени; моя жизнь действительно подойдет к концу; мир будет существовать и без меня; я – лишь один человек из многих, не более и не менее, вся моя жизнь была связана с опорой на ложные гарантии; и наконец – определенные, совершенно непреложные параметры существования находятся вне моей власти. Собственно говоря, то, чего я хочу, «здесь совершенно ни при чем».
Когда индивид открывает для себя, что его персональная исключительность – миф, он испытывает гнев и чувствует, что жизнь его предала. Несомненно, именно это ощущение предательства имел в виду Роберт Фрост, когда писал. «Прости мне, Господь, мои маленькие шутки над Тобой. И я прощу Тебе твою великую шутку надо мной».
Многие люди думают: если бы они только знали, по‑настоящему знали, они прожили бы свою жизнь по‑другому. Они испытывают гнев – беспомощный гнев, который не должен иметь никакого разумного эффекта. (Кстати, нередко объектом смещенного гнева, особенно для многочисленных умирающих больных, становится врач.)
Вера в личную исключительность чрезвычайно полезна для адаптации; благодаря ей мы можем эмансипироваться от природы и жить с порождаемой этим фактом дисфорией – с чувством изоляции; с сознаванием своей малости и трепета перед огромным миром вокруг, несостоятельности наших родителей, ограничений нашей тварности и наших телесных функций, навсегда привязывающих нас к природе; и самое главное – со знанием о смерти, постоянно невнятно присутствующим на краю сознания. Наша вера в то, что естественный закон на нас не распространяется, лежит в основе многих аспектов нашего поведения. Она усиливает в нас мужество, позволяя нам встретить опасность, не будучи деморализованными угрозой личного уничтожения. Свидетель тому – псалмопевец, который писал. «Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится».* В этом мужестве – зародыш человеческого стремления к умелости, эффективности, власти и контролю, рассматриваемого многими как «естественное». В той мере, в какой мы достигаем власти, в нас ослабевает страх смерти и возрастает вера в собственную исключительность. Продвижение вперед, достижение успеха, накопление материальных богатств, создание творений, которые останутся вечными памятниками нам, – это жизненный путь, обеспечивающий нам эффективную защиту от натиска беспощадных вопросов, рвущихся из нашей собственной глубины.
* Псалтирь; 91(90):7
Компульсивный героизм
Для многих из нас лучшее, чем человек может ответить на свою экзистенциальную ситуацию, репрезентировано героической индивидуацией. Греческий писатель Никое
Казантзакис был именно такого рода натурой, и его герой Зорба – олицетворение самодостаточности. (В своей автобиографии Казантзакис приводит последние слова человека, послужившего прототипом грека Зорбы: «…Если какой‑нибудь священник пожелает исповедовать и причастить меня, скажите ему, чтобы он лучше не появлялся мне на глаза, и пусть он меня проклянет!… Люди, подобные мне, должны жить тысячу лет».) В другом месте Казантзакис устами своего Улисса советует нам проживать жизнь настолько полно, чтобы смерти не осталось ничего, кроме «выгоревших дотла руин замка». На его надгробном камне на крепостном валу Гераклиона выбита простая эпитафия: «Я ничего не хочу, я ничего не боюсь, я свободен».
Если зайти чуть дальше, эта защита становится перегруженной, героическая поза дает трещину, а герой превращается в компульсивного героя, который, подобно Майку, больному раком молодому человеку, навязчиво ищет внешней опасности, чтобы спастись от большей опасности, идущей изнутри. Эрнест Хемингуэй, прототипический компульсивный герой, всю свою жизнь был принужден искать и побеждать опасность – таким гротескным способом он доказывал, что опасности нет. По рассказу матери Хемингуэя, одной из его первых фраз было «ничего не боюсь». Парадоксальным образом, его ничего не пугало именно потому, что так же, как всех нас, пугало ничто. Панически эмансипирующийся, герой Хемингуэя демонстрирует картину бегства как бесконтрольно индивидуалистический ответ на человеческую ситуацию. Этот герой не выбирает, его действия компульсивны и жестко обусловлены, и он не учится на новом опыте. Даже близкая смерть не побуждает его обратить взгляд вовнутрь или стать мудрее. В кодексе Хемингуэя нет места старению или ослаблению с их печатью заурядности. В повести «Старик и море» Сантьяго встречает свою надвигающуюся смерть стандартным для него образом – так же, как он встречал все остальные серьезные жизненные опасности: выходит один в море на поиск великой рыбы.
Сам Хемингуэй не смог пережить крушение мифа своей личной неуязвимости. С ухудшением здоровья и физического состояния, по мере того, как его «заурядность» (в том смысле, что он подвластен тому же закону, что всякий другой человек) становилась мучительно очевидной, им овладевала подавленность, и постепенно он погрузился в депрессию. Последняя болезнь Хемингуэя, параноидный психоз с манией преследования и бредом отношений, временно укрепила его миф исключительности (все идеи преследования и отношений вырастают из семени личной грандиозности; в конце концов, лишь совершенно особый человек оправдывает такое количество внимания, пусть недоброжелательного, извне). Но со временем параноидное решение перестало выполнять свою задачу и, никак не защищенный более от смерти, Хемингуэй покончил с собой. Самоубийство, совершенное из страха смерти? Это кажется парадоксальным, но встречается не так уж редко. Немало людей высказывалось примерно так: «Мой страх смерти настолько велик, что толкает меня к самоубийству». Идея самоубийства предоставляет некоторую защиту от ужаса. Самоубийство – активный акт: оно дает возможность человеку контролировать то, что властвует над ним. Кроме того, как отметил Чарльз Вэл, многие самоубийства связаны с магическим представлением о смерти, которая видится событием временным и обратимым. Индивид, совершающий суицид для того, чтобы выразить враждебность или вызвать чувство вины у других, может верить в сохранение сознания после смерти, что позволит ему насладиться плодами собственной смерти.
Трудоголик
Компульсивный героический индивидуалист воплощает ясный, но не слишком клинически распространенный пример защиты исключительностью, перенапряженной слишком сильно и потому не способной оградить индивида от тревоги либо вырождающейся в форму бегства бегства. Более распространенный пример – «трудоголик», то есть индивид, целиком поглощенный работой. Одна из самых поразительных черт трудоголика – его скрытая уверенность, что он «идет вперед», прогрессирует, продвигается. Время является врагом не только потому, что оно сродни смертности, но и потому, что оно угрожает взорвать одну из опор иллюзии исключительности: веру в вечное восхождение. Трудоголик должен сделать себя глухим к посланию времени, в котором говорится, что прошлое расширяется за счет сокращения будущего.
Стиль жизни трудоголика компульсивен и дисфункционален трудоголик работает, посвящает себя чему‑либо не потому, что хочет этого, а потому что должен. Он склонен загружать себя без всякой жалости или учета своих возможностей. Досуг сопряжен с тревогой и нередко яро заполняется какой‑либо деятельностью, дающей иллюзию достижения. Таким образом, процесс жизни отождествлен с процессом «становления», или «делания»; во время, не употребленное на «становление», жизни нет, а есть ожидание ее начала.
Разумеется, важную роль в формировании индивидуальных ценностей играет культура. Флоренс Клакхольм предложила антропологическую классификацию ценностных ориентации в отношении деятельности, включающую три категории: «бытие», «бытие‑в‑становлении» и «делание». В ориентации на «бытие» подчеркивается активность в отличие от цели. Суть в этом случае состоит в спонтанной естественной экспрессии личностной «естьности» (т.е. того, что «я есть»). Категория «бытия‑в‑становлении» так же, как и категория «бытия», предполагает акцент на том, что мы есть, а не на том, чего мы можем достичь. Но в ней, кроме того, важное место занимает понятие развития. Таким образом, «бытие‑в‑становлении» на первый план помещает активность определенного типа – направленную на развитие всех аспектов самости. Для «делания» значимы преимущественно достижения, оцениваемые по стандартам, внешним для действующего индивида. Несомненно, современная консервативная американская культура с ее акцентированным вопросом «чем занимается этот парень?» и доминирующим интересом к тому, чтобы «дела были сделаны», – предельная культура «делания».
Однако в каждой культуре присутствует широкий спектр индивидуальных вариаций. Что‑то в личности трудоголика взаимодействует с культуральным стандартом так, что это способствует гипертрофированной и ригидной интернализации его ценностей. Трудно смотреть на свою культуру «с высоты птичьего полета» и относиться к ее системе ценностей как к одной из многих возможных. Один мой пациент‑трудоголик как‑то позволил себе редкое для него удовольствие прогуляться в полдень (в награду за какое‑то особо важное достижение) и был ошеломлен зрелищем сотен людей, просто стоящих греясь на солнышке. «Что они делают целый день? Как люди могут жить таким образом?» – изумлялся он. Яростная борьба со временем нередко является признаком сильнейшего страха смерти. Трудоголики обращаются со временем в точности так, как если бы на них надвигалась неминуемая смерть и они стремились бы успеть сделать как можно больше.
Находящиеся в лоне своей культуры, мы безоговорочно принимаем благо и правильность продвижения вперед. Не так давно я проводил краткий отпуск в одиночестве на курорте Карибского побережья. Однажды вечером я читал, одновременно наблюдая за мальчишкой, помощником бармена, не делавшим ничего, а только лениво взиравшим на море, – я подумал о ящерице, которая греется на солнышке, лежа на теплом камне. Я сравнил его и себя, и почувствовал себя очень самодовольно, очень уютно. Он совершенно ничего не делал, зря тратил время. А я делал нечто полезное, читал, учился. Короче говоря, я продвигался вперед. Но тут какой‑то внутренний бесенок задал мне ужасный вопрос: продвигаюсь вперед по отношению к чему? как? и (самое худшее) почему? Эти вопросы были – и остаются по сей день – весьма тревожными. Они необычайно ярко показали мне, как я, постоянно проецируя себя в будущее, «убаюкиваюсь», погружаюсь в некий сон наяву, исполненный иллюзии победы над смертью. Я не существую так, как существует ящерица, я готовлюсь, я становлюсь, я в пути. Джон Мейнар Кинес выражает это следующим образом. «То, что 'целеустремленный' человек неизменно пытается обеспечить себе, есть не что иное, как призрачное и обманчивое бессмертие, бессмертие своих актов, достигаемое путем перенесения своего интереса к ним вперед во времени. Он любит не свою кошку, а ее котят, а на самом деле даже не котят, а лишь котят этих котят, но и не их… и так далее до бесконечности, до конца кошачьего племени».
Толстой в «Анне Карениной» описывает крушение веры в «восходящую спираль» у Алексея Александровича, мужа Анны, человека, который всегда был в восходящем движении, великолепная карьера. невероятно удачный брак. Уход Анны значит для него много больше, чем просто потеря ее: это крушение личностного мировоззрения.
«…Он чувствовал, что стоит лицом к лицу пред чем‑то нелогичным и бестолковым, и не знал, что надо делать. Алексеи Александрович стоял лицом к лицу пред жизнью, пред возможностью любви в его жене к кому‑нибудь, кроме него, и это‑то казалось ему очень бестолковым и непонятным, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексеи Александрович прожил и проработал в сферах служебных, имеющих дело с отражениями жизни. И каждый раз, когда он сталкивался с самою жизнью, он отстранялся от нее. Теперь он испытывал чувство, подобное тому, какое испытал бы человек, спокойно прошедший над пропастью по мосту и вдруг увидавший, что этот мост разобран и что там пучина. Пучина эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь, которую прожил Алексей Александрович».
«Пучина эта была – сама жизнь, мост – та искусственная жизнь…» Никто не выразил это яснее. Защита, если она успешна, позволяет человеку не знать о бездне. Неудавшаяся защита – сломанный мост – оставляет нас открытыми правде и ужасу, к встрече с которыми мы в середине жизни, после десятилетий самообмана, оказываемся плохо подготовлены.
Нарциссизм
Человек, преодолевающий базисную тревогу благодаря главенствующей вере в свою исключительность, нередко сталкивается с серьезными трудностями в межличностных отношениях. Если, как это часто бывает, при вере в собственную несокрушимость, права и исключительность другого человека не особенно признаются, – перед нами полностью сформированная нарциссическая личность. Вероятно, именно нарциссическая личность фигурирует в изложенной Фроммом одной беседе между врачом и пациентом. Последний потребовал, чтобы врач принял его в тот же день. Врач ответил, что это невозможно, поскольку на сегодня уже все расписано. Пациент воскликнул. «Доктор, но ведь я живу всего в нескольких минутах от вашего офиса!»
В групповой терапии нарциссический тип личности проявляется более грубо и выраженнее, чем в индивидуальной. В индивидуальной терапии выслушивается каждое слово пациента, пристальное внимание уделяется каждому сновидению, фантазии, чувству. Пациенту отдается все, и мало что ожидается от него в ответ. Могут пройти месяцы, прежде чем нарциссические черты обнаружат себя. А в терапевтической группе от пациента требуется делить время с другими, понимать других и эмпатически сопереживать им, беспокоиться об их чувствах и устанавливать отношения.
Нарциссический тип заявляет о себе многими способами. Некоторые пациенты полагают, что они могут обижать других, но их самих личная критика касаться не должна, для них естественно ожидать, что тот, в кого они влюблены, ответит им взаимностью, они не считают для себя обязательным ожидать других; они предвкушают подарки, сюрпризы и заботу, сами ничего этого не давая; наконец, они рассчитывают на получение любви и восхищения просто в силу самого факта своего присутствия. В терапевтической группе они претендуют на максимум группового внимания и на то, чтобы это внимание уделялось им без каких‑либо усилий с их стороны. Они ожидают, что группа пойдет им навстречу, хотя сами не идут навстречу кому‑либо. Задача терапевта – вновь и вновь указывать таким пациентам, что подобные ожидания уместны лишь в один период жизни – в младенчестве, когда мы вправе требовать от матери безусловной любви без каких‑либо обязательств отклика.
Хэл, участник терапевтической группы, иллюстрирует многие из этих качеств. Это способный, замечательно владеющий речью физик, который месяцами развлекал группу увлекательными, вполне в духе Фолкнера, историями из своего детства, проведенного на Юге (занимая в результате примерно 40 процентов времени группы, состоящей из восьми человек). Острый язык Хэла задевал многих, но его саркастические реплики были столь умны и красочны, что участники группы не обижались и позволяли себе быть развлекаемыми им. Лишь постепенно они начали возмущаться его жадным поиском внимания и враждебностью. Его истории стали их раздражать; они начали переключать внимание с Хэла на других участников группы, наконец, они открыто определили его как пожирателя их времени и внимания. Хэл ответил на это нарастанием агрессии, которая прорвала оболочку приглаженного сарказма и превратилась в постоянный поток горечи. Его личная и профессиональная жизнь начала ухудшаться: жена грозила уйти от него, а декан факультета сделал предупреждение по поводу плохого контакта со студентами. Группа убеждала его исследовать свой гнев. Вновь и вновь члены группы спрашивали: «На что ты злишься?» Когда он говорил о каком‑либо конкретном событии, они предлагали ему пойти глубже и снова ответить на вопрос «Почему ты злишься?» На самом глубоком уровне Хэл заявил. «Я злюсь потому, что я лучше каждого здесь присутствующего, но никто этого не признает. Я сообразительнее, я остроумнее, я лучше и, черт побери, никто не признает этого. Я должен быть богат, сказочно богат, я должен быть признан человеком Ренессанса, а ко мне относятся так же, как ко всем остальным».
Группа была полезна Хэлу в нескольких отношениях. То, что она просто позволила ему извлечь, выразить эти чувства и исследовать их рационально, было существенным и невероятно благотворным первым шагом. Постепенно с помощью других участников Хэл осознал, что они также наделены чувствами, также чувствуют себя исключительными, также хотят получить поддержку, внимание и центральную роль. Хэл узнал, что другие созданы не только для того, чтобы высоко ценить его персону и изумляться ей, таким образом беспрестанно питая его солипсизм. «Эмпатия» была для Хэла ключевым фактором, и группа помогала ему испытать эмпатию: время от времени участники группы предлагали ему обойти всех и высказать догадки о том, что каждый чувствует. Сначала, и это весьма характерно, догадки Хэла касались лишь того, что каждый чувствует по отношению к нему, но постепенно он действительно стал способен чувствовать переживания других – например, что они тоже нуждаются в групповом времени для себя, или злятся, или разочарованы, или расстроены.
Нарциссизм столь интегрален, что зачастую пациенту бывает трудно найти какой‑либо «выступ» на поверхности своей «исключительности», чтобы встать на него и понаблюдать за собой. Любопытна история осознания своего эгоцентризма одним пациентом, во многих отношениях сходным с Хэлом. Он проходил групповую терапию в течение двух лет и добился поразительного прогресса, особенно в способности любить и брать на себя обязательства перед другими. Встретившись с ним на контрольном интервью через шесть месяцев после окончания терапии, я попросил его припомнить какой‑нибудь особенно важный момент. Он выделил сессию, на которой группа смотрела видеозапись предыдущей встречи. Он тогда был ошеломлен открытием, что, оказывается, помнит лишь те части сессии, когда внимание было сфокусировано на нем, а огромные ее отрезки смотрит как нечто совершенно незнакомое. Другие нередко критиковали его за эту сосредоточенность на себе, но сам он осознал ее (как бывает вообще со всеми важными истинами) лишь тогда, когда открыл сам.
Агрессия и контроль
Исключительность – один из основных способов превосхождения смерти, принимающий и другие дезадаптивные формы. Нередко эта динамика лежит в основе влечения к власти. Человек избегает ощущений страха и границ, расширяя свое "я" и свою сферу контроля. Например, есть свидетельства о том, что люди, выбирающие связанные со смертью профессии (военного, врача, священника и гробовщика), отчасти мотивированы потребностью достичь контроля над смертью. В частности, Герман Фейфель показал, что хотя среди врачей сознательной озабоченности темой смерти меньше, чем в контрастных группах пациентов или в общей популяции, на более глубоких уровнях они боятся смерти больше. Иными словами, при ощущении обладания властью сознательные страхи смерти ослабевают, но более глубокие страхи, отчасти обусловившие выбор профессии, продолжают действовать. Когда ужас перед смертью особенно велик, он дополнительно нарастает еще и оттого, что агрессивные импульсы не могут целиком трансформироваться в процессе мирной сублимации Высокомерие и агрессия нередко проистекают из этого источника. Ранк писал, что «испытываемый Эго страх смерти ослабляется в результате убийства и принесения в жертву другого человека, смертью другого покупается освобождение от собственного наказания смертью». Ранк, очевидно, имеет в виду не только убийство в буквальном смысле более тонкие формы агрессии, в том числе доминирование, эксплуатация или, по выражению Ибсена, «убийство души» служат той же самой цели Но этот способ адаптации часто декомпенсируется, приводя к судьбе изгоя. Для нас нет ничего нового в том, что абсолютная власть абсолютно развращает. Она развращает потому, что не срабатывает, и реальность все равно находит себе дорогу реальность нашей беспомощности и нашей смертности, реальность того, что пусть мы дотягиваемся до звезд, но участь всякой твари все равно ожидает нас.
Защита исключительностью: неуверенность и тревога
Обсуждая состояние исключительности как способ преодоления страха смерти, я сосредоточил внимание на неадаптивных формах индивидуалистического, или деятельного, решения, героический индивидуализм изгоя (с сопутствующим ему неприятием любого признака человеческой слабости), компульсивный модус трудоголика, депрессия, возникающая в результате прерванного движения по вечной восходящей спирали, тяжелое нарциссическое расстройство характера с последствиями в виде межличностных проблем, а также неадаптивного агрессивного и контролирующего жизненного стиля. Но у защиты исключительностью есть еще более серьезное и неотъемлемое ограничение. Многие проницательные наблюдатели отмечали, что хотя в течение некоторого времени индивидуалистическое самовыражение, индивидуалистические достижения могут сопровождаться душевным подъемом, рано или поздно приходит депрессия. Человек, который «восстал из погруженности», «отделился от природы», должен платить за свой успех. Есть нечто пугающее в индивидуации, в сепарации от целого, в продвижении вперед и проживании жизни отдельного изолированного существа, в превосходстве над сверстниками и родителями.
Многие клиницисты писали о «неврозе успеха» – странном состоянии, возникающем у человека, находящегося на пике успеха, к которому он долго стремился, когда вместо эйфории его охватывает парализующая дисфория, зачастую не оставляющая никаких шансов на дальнейшее продвижение. Фрейд называет этот феномен синдромом «крушения от успеха». Ранк описывает его как «тревогу жизни» – страх встречи с жизнью в качестве отдельного существа. Маслоу отмечает, что мы уклоняемся от реализации наших высших возможностей (так же, как и низших) и дает этому явлению название «комплекс Ионы» – подобно всем нам, для Ионы нестерпима была его личная сила, и он стремился избежать своей судьбы.
Как объясняется эта странная, самоотрицающая человеческая тенденция? Возможно, она происходит из ассоциации успеха с агрессией. Для некоторых людей успех это путь к мстительному превосходству над другими, они боятся, что другие поймут их мотив и, когда успех станет слишком велик, отомстят в ответ. Фрейд полагал, что в этом случае значительную роль играет страх превзойти отца и тем самым оказаться под угрозой кастрации. Бекер дает новый импульс нашему пониманию, выдвигая мысль, что опасность превзойти отца состоит не в кастрации, а в пугающей перспективе стать своим собственным отцом. Стать собственным отцом значит лишиться успокаивающей, но магической родительской защиты от боли, сопряженной с сознаванием своей смертности.
Таким образом, погруженный в жизнь индивид обречен на тревогу. Обособиться от природы, стать своим собственным отцом, или, по выражению Спинозы, «своим собственным богом», означает предельную изоляцию, означает «самостояние» без поддержки мифа о спасителе или искупителе, без успокаивающего пребывания внутри человеческого стада. Для любого из нас такая полная, беззащитная изолированность индивидуации слишком ужасна, чтобы быть переносимой. Когда нашей веры в личную исключительность и неуязвимость оказывается недостаточно, чтобы обеспечить необходимое нам избавление от боли, мы обращаемся к другой фундаментальной системе отрицания вере в персонального спасителя.
КОНЕЧНЫЙ СПАСИТЕЛЬ
Онтогенез воссоздает филогенез Эволюция видов отображена и в физическом, и в социальном развитии индивида Ни один социальный атрибут не демонстрирует этот факт с такой очевидностью, как человеческая вера в существование всемогущего персонального заступника – в силу или сущность, всегда видящую, любящую и защищающую нас. Она может позволить нам подойти очень близко к краю бездны, но в конце концов все равно нас спасет. Фромм характеризует эту мифическую фигуру как «магического помощника», Массерман – как «всемогущего слугу». В третьей главе я проследил возникновение этой системы верований к раннему детству, подобно вере в персональную исключительность, она укоренена в событиях раннего детства, когда родители, казалось, постоянно заботились и удовлетворяли любую потребность. Несомненно, на заре письменной истории человечество уже было привержено вере в персонального бога – существо, которое могло быть любящим, устрашающим, переменчивым, суровым, умиротворенным или разгневанным, но которое в любом случае всегда тут. Ни одна из ранних культур не представляла человека одиноким в безразличном к нему мире.
Некоторые люди находят своего спасителя не в некоем сверхъестественном существе, а в своем земном окружении, в виде лидера или какого‑либо высокого дела. На протяжении тысячелетий люди таким образом побеждали страх смерти, принося свою свободу и саму жизнь на алтарь какой‑либо высшей фигуры или персонифицированной идеи. Толстой остро сознавал человеческую потребность в создании богоподобной фигуры, чтобы затем можно было греться в лучах иллюзорной безопасности, исходящих от собственного творения. Вспомним в «Войне и мире» экстатический восторг Ростова на поле битвы при мысли о близости царя.
«…Он весь поглощен был чувством счастья, происходящего от близости государя. Он чувствовал себя одною этою близостью вознагражденным за потерю нынешнего дня. Он был счастлив, как любовник, дождавшийся ожидаемого свидания. Не смея оглядываться во фронте и не оглядываясь, он чувствовал восторженным чутьем его приближение. И он чувствовал это не по одному звуку копыт лошадей приближавшейся кавалькады, но он чувствовал это потому, что по мере приближения все светлее, радостнее, значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце для Ростова, распространяя вокруг себя лучи кроткого и величественного света, и вот он уже чувствует себя захваченным этими лучами, он слышит его голос – этот ласковый, спокойный, величественный и вместе с тем столь простой голос… И Ростов встал и пошел бродить между костров, мечтая о том, какое было бы счастье умереть, не спасая жизнь (об этом он не смел и мечтать), а просто умереть в глазах государя. Он действительно был влюблен и в царя, и в славу русского оружия, и в надежду будущего торжества. И не он один испытывал это чувство в те памятные дни, предшествовавшие Аустерлицкому сражению, девять десятых людей русской армии в то время были влюблены, хотя и менее восторженно, в своего царя и в славу русского оружия».
«…По мере приближения все светлее, радостнее, значительнее и праздничнее делалось вокруг него. Все ближе и ближе подвигалось это солнце…» С великолепной ясностью Толстой изобразил защитный экстатический восторг – конечно же, не только русского солдата, но легионов и легионов обычных людей, которых терапевты встречают в повседневной клинической работе.
Защитная вера в спасителя и личностные ограничения
В целом вера в конечного спасителя как защита менее эффективна, чем вера в собственную исключительность. Она не только менее прочна, но и по сути своей накладывает более значительные ограничения на личность. Ниже я расскажу об эмпирических исследованиях, демонстрирующих эту неэффективность. Впрочем, более ста лет назад Кьеркегор понял ее интуитивно. У него есть любопытное высказывание, сопоставляющее опасности «рисковать» (отделения, индивидуации, исключительности) и не рисковать (слияния, принадлежности чему‑либо, веры в конечного спасителя):
"…Рисковать опасно. И почему? Потому что можно проиграть. Не рисковать – разумно. Однако, не рискуя, ужасно просто лишиться того, что было бы трудно проиграть даже в самом рискованном предприятии, – собственного "я". Ибо если я рисковал и совершил промах – что ж, жизнь поможет мне наказать себя. Но если я не рисковал вовсе кто тогда поможет мне? Пусть даже, не рискуя совсем в высшем смысле слова (а рисковать в высшем смысле слова означает не что иное, как осознать себя), я получил все земные блага… и потерял себя. Что тогда?"
Оставаться погруженным в другого, «не рисковать» значит подвергнуться величайшей опасности из всех возможных потери себя отказа от исследования и развития своего многогранного внутреннего потенциала.
Слишком большие ожидания от веры в спасителя ведут к тяжелым ограничениям в жизни. Так было в случае Лины, тридцатилетней участницы терапевтической группы. Лина находилась в состоянии глубокой подавленности, преследуемая суицидальными идеями и часто впадавшая в депрессивный ступор, когда она целыми днями не вставала с постели. Она жила очень изолированно, в основном проводя время одна в своей скудно меблированной комнате. Внешний облик Лины был примечателен: всем – от небрежных белокурых локонов до декорированных джинсов и куртки в стиле «жертва боевых действий», до юношеской манеры держаться и доверчивости – она напоминала девочку в среднеподросткового возраста. Она потеряла мать в пять лет, отца – в двенадцать и выросла чрезмерно привязанная к дедушке с бабушкой и другим родительским «заместителям». По мере того, как дедушка и бабушка старели и слабели, у нее развивался ужас перед телефоном (некогда принесшим известие о смерти отца), и Лина стала отказываться брать трубку, чтобы не услышать о смерти своих стариков.
Лина открыто боялась смерти и избегала всякого соприкосновения с темой смерти. Она пыталась укротить свой ужас самым неэффективным и магическим способом – способом, который я встречал у многих пациентов, – она пыталась избежать смерти, отказываясь жить. Подобно Оскару из «Жестяного барабана» Гюнтера Грасса, она хотела остаться ребенком, чтобы победить время, заставить его замереть навсегда. Она посвятила себя избеганию индивидуации и искала безопасности путем растворения в фигуре защитника. Члены терапевтической группы, взаимодействуя друг с другом в групповом «здесь и сейчас», обнаруживают свои психологические защиты – это аксиома групповой терапии. В процессе групповой работы защитная установка Лины ярко проявилась. Однажды в начале сессии она объявила, что в предыдущий уик‑энд попала в серьезную автомобильную аварию. Лина направлялась навестить друга, живущего в городе за 150 миль отсюда, и в результате ее грубого недосмотра машина съехала с дороги, перевернулась, и она едва избежала гибели. В качестве комментария она добавила: как было бы хорошо и легко не приходить в сознание.
Члены группы отреагировали адекватно. Они были озабочены и испуганы за Лину. Они наперебой старались поддержать и утешить ее. Терапевт делал то же самое, пока не начал про себя анализировать происходящее. Лина постоянно умирала, постоянно пугала группу, постоянно привлекала массивную заботу других участников. По сути, в первые месяцы пребывания Лины в группе они отвечали за то, чтобы она жила, принимала пищу, не покончила с собой. Терапевт гадал: «Происходит ли когда‑нибудь у Лины что‑то хорошее?»
Лина попала в аварию на пути к другу. И внезапно терапевт задал себе вопрос: «К какому другу?» Лина упорно предъявляла себя группе как одинокого человека, не имеющего ни друзей, ни родственников, ни даже знакомых. Однако же, по ее словам, она отправилась за 150 миль, чтобы навестить друга. В ответ на вопросы терапевта она сказала, что да, у нее есть друг, да, она проводила с ним все уик‑энды в течение последних месяцев: наконец – да, он собирается жениться на ней. Она предпочитала не делиться этой информацией с группой. Причины очевидны: для Лины в группе был важен не рост, а выживание, для которого ей казалось необходимым домогаться заботы и защиты от группы и терапевта. Ее основная задача состояла в том, чтобы вечно обеспечивать себе протекцию, она не должна была обнаруживать признаков роста или изменения, иначе членам группы и терапевту могло прийти в голову, что она достаточно благополучна для завершения терапии.
В течение групповой терапии Лина ощущала себя подвергающейся серьезной угрозе в результате инцидентов, бросающих вызов ее главной защитной системе, то есть вере в то, что источник помощи находится вовне и единственная гарантия безопасности – постоянное присутствие спасителя. Пылкое стремление Лины к слиянию с терапевтом привело ко многим трансферентным искажениям, непрестанно требовавшим внимания в терапии. Она была чрезвычайно чувствительна к любому знаку отвержения с его стороны и остро реагировала на признаки его смертности, несовершенства или недоступности. Она больше других участников бывала встревожена (и рассержена), когда он брал отпуск, заболевал, в групповой ситуации явно ошибался или терялся. Как я продемонстрирую в следующей главе, значительная часть терапевтической работы с пациентами, имеющими гипертрофированную потребность в конечном спасителе, посвящена анализу переноса.
Крах спасителя
Вера в конечного спасителя в течение долгих периодов жизни функционирует гладко и незаметно и служит источником немалого утешения. Как правило, люди не сознают структуру своих веровании, пока те не перестают выполнять свою задачу, иначе говоря, как выразился Хайдеггер, пока не происходит «сбой в механизме». Существует множество возможностей для сбоя и множество форм патологии, связанных с крахом защиты
Смертельные болезни. Может быть, самым тяжелым испытанием для действенности иллюзии конечного спасителя является смертельная болезнь. Многие, кому это выпадает, значительную часть энергии расходуют на поддержание своей веры в присутствие и могущество защитника. Поскольку врач ближайший кандидат на роль спасителя, отношения пациента с доктором становятся психологически нагруженными и сложными. Мантия спасителя на враче появляется отчасти потому, что пациент хочет этого. Однако, с другой стороны, доктор с удовольствием наряжается в это одеяние, поскольку играть Господа Бога – это его метод усиливать веру в собственную исключительность. И то, и другое приводит к одному результату: доктор воспринимается более могущественным, чем в реальности, а отношение пациента к нему нередко отмечено иррациональным послушанием. Нередко пациенты, страдающие смертельной болезнью, очень опасаются рассердить или разочаровать доктора, они извиняются перед ним за то, что отнимают у него время, и настолько волнуются в его присутствии, что забывают задать подготовленные заранее безотлагательные вопросы. (Некоторые больные пытаются преодолеть эту проблему, заготавливая список вопросов, которые нужно задать врачу.)
Для пациентов столь важно сохранить представление о могуществе их врачей, что они не подвергают его испытанию и не оспаривают. Более того, многие из них обеспечивают своему доктору роль успешного целителя таким высоко магическим способом, как утаивание от него важной информации о своем психологическом и даже физическом неблагополучии. Таким образом, зачастую врач последним узнает об отчаянии своего больного. Вполне способный открыто говорить о своем страдании с медицинскими сестрами и социальными работниками, пациент в присутствии доктора всячески изображает оптимизм и мужество, позволяя последнему заключить, что тот справляется с ситуацией наилучшим образом. (В связи с этим не так уж удивительно распространенное нежелание врачей направлять смертельно больных пациентов на психотерапию.)
Люди цепляются за свое отрицание с разной силой. Однако в конце концов всякое отрицание сокрушается под натиском реальности. Кюблер Росс, например, утверждает, что за многие годы своей практики она встретила лишь несколько человек, сохранявших отрицание в момент смерти. Когда пациент узнает, что ему не поможет ни терапевтическое, ни хирургическое лечение, он реагирует на это как на катастрофу. Он испытывает гнев, чувствует себя обманутым и преданным. Однако на кого ему злиться? На космос? На судьбу? Многие пациенты злятся на доктора, не оправдавшего их ожиданий – не в медицинском смысле, а в том, что он не воплотил их личный миф о конечном спасителе.
Депрессия. Сильвано Ариети (Silvano Arieti) в своем исследовании лиц, страдающих психотической депрессией, описывает предшествующий центральный мотив, или жизненную идеологию – то, что «готовит почву» для наступления депрессии. Его пациенты вели опосредованное существование: они жили не для себя, а для «доминирующего другого» или «доминирующей цели». Эти две идеологии, как они описаны у Ариети, очень сходны с охарактеризованными мною двумя видами защит от смерти, хотя используемые нами системы терминов различны. Индивид, живущий ради «доминирующей цели», по сути, строит свою жизнь на убежденности в своей личной исключительности и неуязвимости. Как уже обсуждалось выше, нередко депрессия развивается после крушения веры в вечно восходящую спираль («доминирующую цель»).
Существование ради «доминирующего другого» – не что иное, как попытка слиться с другим, воспринимаемым как источник защиты и жизненного смысла. Доминирующим другим может быть супруг, мать, отец, любовник, терапевт, наконец, антропоморфизация бизнеса или социального института. Эта идеология может рухнуть по многим причинам доминирующий другой может умереть, бросить, отказать в любви и внимании, оказаться слишком ненадежным для удовлетворения возложенных на него ожидании.
После осознания краха своей идеологии у человека нередко наступает состояние подавленности, он ощущает, что пожертвовал своей жизнью ради фальшивых ценностей Однако альтернативной стратегии выживания у него нет Говоря о конкретной пациентке, Ариети описывает эти переживания следующим образом:
«Пациентка достигла критической точки, когда необходимо перераспределение психодинамических сил с формированием новой модели межличностных отношений, но она не в силах справиться с этим. Отсюда – ее проблема. Она беспомощна. Ее воображение не может породить иные когнитивные структуры, которые позволили бы психологически восстановиться, а если и может, то связывает с ними непреодолимые препятствия. В других случаях, когда альтернатива не представляется неосуществимой, она воспринимается как не значимая, поскольку пациентка привыкла концентрировать все свои интересы, все желания на одних‑единственных рухнувших отношениях».
Пациент может пытаться восстановить отношения или искать другие. Если эти попытки неудачны, он остается без дальнейших ресурсов, одновременно чувствуя полное бессилие и упрекая себя. Пересмотр жизненной идеологии не допускается; многие пациенты, вместо того чтобы усомниться в своих базовых убеждениях, приходят к выводу: они настолько ничтожны или плохи, что не заслуживают любви и защиты со стороны конечного спасителя. Их депрессия усугубляется также тем, что бессознательно своим страданием и самопожертвованием они выражают последнюю, отчаянную мольбу о любви. Иначе говоря, они несчастны, потому что утратили любовь, и остаются несчастными, чтобы вернуть ее.
Мазохизм. Я описал варианты поведения, связанного с гипертрофированной верой в конечного спасителя: самоумаление, страх лишиться любви, пассивность, зависимость, самопожертвование, неприятие своей взрослости, депрессия после краха системы представлений. Любой из этих вариантов, будучи акцентирован, может вылиться в определенный клинический синдром. В случае преобладания самопожертвования пациент может быть охарактеризован как «мазохистический».
40‑летняя Карен, которая была моей пациенткой в течение двух лет, помогла мне многое понять относительно механизмов, скрытых за стремлением причинить себе страдание. Карен предприняла терапию по многим причинам: мазохистические сексуальные наклонности, неспособность достичь сексуального удовлетворения со своим постоянным любовником, депрессия, тотальная инертность, ужасающие ночные кошмары и неприятные состояния в моменты засыпания. В терапии у нее быстро сформировался мощный позитивный перенос. Она всецело посвятила себя задаче получения от меня заботы и участия. В своих мастурбаторных фантазиях она представляла себя тяжело больной (физическим заболеванием типа туберкулеза или психическим расстройством), а меня – кормящим и убаюкивающим ее. Она обыкновенно медлила покидать мой кабинет, стремясь пробыть со мной несколько лишних минут; ради моей росписи сохраняла корешки погашенных счетов за терапию; прилагала усилия, чтобы посещать мои лекции, где могла лишний раз меня увидеть. Казалось, ничто не доставляет ей большего удовольствия, чем моя суровость; если я выражал раздражение ею, она сексуально возбуждалась в моем кабинете. Она идеализировала меня в каждом мыслимом аспекте, избирательно игнорируя абсолютно все мои очевидные недостатки. Она прочла книгу, написанную мной вместе с пациентом, в которой я был весьма откровенен относительно своих тревог и ограничений. Но вместо того. чтобы осознать мое несовершенство, она стала еще больше восхищаться мною за великое мужество, проявленное в публикации такой книги.
Подобным же образом она реагировала на свидетельства слабости или несовершенства других значимых и мощных фигур в своей жизни. Если ее любовник заболевал или обнаруживал какие‑либо признаки слабости, замешательства, нерешительности, она переживала сильную тревогу. Для нее непереносимо было видеть его нетвердым, неуверенным. Когда однажды он получил серьезные травмы в автомобильной аварии, у нее развилась фобия посещений его в больнице. Примерно так же она относилась к родителям, переживая их старение и дряхление как мучительную угрозу. Ребенком она контактировала с ними через болезни. «Быть больной составляло ложь моей жизни», – говорила мне Карен. Она искала страдания, чтобы получить помощь. Много раз в течение своего детства она целые недели проводила в постели из‑за фиктивной болезни. В подростковом возрасте она стала аноректичкой, с готовностью доводя себя до физического истощения ради того, чтобы получить внимание и заботу.
Сексуальность Карен также несла на себе отпечаток ее стремления к безопасности и освобождению от тревоги: ее возбуждали сила, насилие, принуждение, в то время как проявления слабости, пассивности и даже нежности отталкивали. Быть наказанной означало быть защищенной; быть принуждаемой, связанной, ограничиваемой – чудесно: это значило, что границы установлены, и установлены некой мощной фигурой. Ее мазохизм отличался сверхдетерминированностью: она выживала не только путем подчинения, но также находя опору в символическом и магическом значении страдания. В конце концов, смерть понарошку лучше, чем настоящая смерть.
В процессе терапии удалось уменьшить остроту депрессии, ночные кошмары, суицидальную настроенность. Но пришло время, когда терапия у меня стала блокировать дальнейший прогресс пациентки: Карен продолжала приносить себя в жертву уже ради того, чтобы не потерять меня.
Поэтому я установил шестимесячный срок для завершения терапии и сообщил ей, что по прошествии этого срока уже не буду встречаться с ней как терапевт. В следующие несколько недель нам пришлось выдержать тяжелый шквал симптоматики, вернувшейся в полном объеме. Мало того, что у нее вновь появились сильная тревога и ночные кошмары: она также, всякий раз, когда оставалась одна, испытывала ужасные галлюцинаторные переживания бросающихся на нее с высоты гигантских летучих мышеи.
Этот период был для Карен наполнен величайшим страхом и отчаянием. Иллюзия конечного спасителя всегда защищала ее от панического ужаса смерти, теперь же, когда она лишилась ее, уже ничто не стояло между ней и этим ужасом. Изумительные стихи, которые она записывала в своем дневнике (и отослала мне после завершения терапии), живо передают ее состояние.
Со смертью во рту я прихожу к вам.
И черви поедают мое сердце
В какофонии колоколов
Мои протесты никому не слышны
Смерть – разочарование.
Горький хлеб
Вы впихиваете его мне в глотку,
Чтобы заглушить мои вопли
Глубокая и сильная вера Карен в то, что слияние со мной позволит ей избежать смерти, открыто выражена в следующем стихотворении:
Я признала бы Смерть своим господином.
Назвала ее плеть нежным ласканием
И отправилась с ней в мрачные пещеры,
Где ее дом,
Охотно отказалась бы от спелых ароматов лета
От запаха семени, переполненного кипением жизни,
Чтобы сесть рядом с ней на ледяной трон,
Чтобы познать ее любовь.
С приближением даты окончания терапии Карен отпустила все тормоза. Она угрожала мне покончить с собой, если я не стану продолжать ее лечение. В другом стихотворении она выражала свое настроение того момента и свою угрозу:
Смерть – не притворство.
Это столь же реальная реальность.
Столь же полное присутствие, как другой конечный выбор,
Сама жизнь. Я чувствую себя убегающей в тень,
Облачающейся в паутину,
Чтобы стать неуязвимой для реальности которую вы вонзаете в меня.
Я хочу выставить перед собой мои темный покров, смерть,
И угрожать вам им.
Понимаете?
Я окутаю им себя, если вы станете упорствовать.
Испуганный угрозами Карен, поддерживая ее насколько возможно, я тем не менее решил не отступать от своей позиции и подтверждал, что через шесть месяцев перестану видеться с ней, сколь бы плохо ей ни было. Завершение терапии должно было быть окончательным и необратимым, независимо от бедственности ее состояния. Постепенно усилия Карен слиться со мной ослабли, и она обратилась к насущной задаче – использовать последние наши сессии как можно конструктивней. И лишь после того, как она оставила всякую надежду на мое постоянное, вечное присутствие, она смогла эффективно работать в терапии. Она позволила себе увидеть и проявить свою силу и свой рост. Быстро нашла работу на полный рабочий день, соответствующую ее талантам и умениям (в течение четырех предшествующих лет Карен тянула с этим). Изменила манеру поведения и стала следить за своей внешностью, радикально трансформировав свой облик и превратившись из безутешной сироты в зрелую привлекательную женщину.
Через два года после завершения терапии она попросила о встрече, объяснив это смертью друга. Я согласился на одну сессию и обнаружил, что Карен не только сумела сохранить изменения, но и добилась дальнейшего роста. Вероятно, пациенту важно понять, что, хотя терапевт может быть полезен, есть предел, за которым он уже ничего не может дать. В терапии, так же как в жизни, необходим фундамент одиночества – в работе и в самоощущении.
Вера в спасителя и межличностные проблемы. Тот факт, что некоторые люди избегают страха смерти благодаря вере в существование конечного спасителя, дает терапевту дополнительную точку зрения, полезную при оценке некоторых труднообъяснимых межличностных ситуаций. Рассмотрим нижеследующие примеры распространенной клинической проблемы: пациент вовлечен в очевидно неудовлетворительные, даже деструктивные отношения, от которых не в состоянии освободиться.
Бонни, сорока восьми лет, страдала тяжелым расстройством кровообращения (болезнью Бюргера) и, после двадцатилетнего бездетного брака, десять лет назад разошлась с мужем. Ее муж, энтузиаст загородных прогулок, производил впечатление бесчувственного, эгоцентричного диктатора, который окончательно оставил Бонни, когда из‑за плохого здоровья она уже не могла сопровождать его в охотничьих и рыболовных вылазках. В течение десяти лет раздельной жизни он никак ее материально не поддерживал, имел множество любовных связей (которые неизменно обсуждал с ней) и раз в одну‑две недели обязательно посещал ее дом, чтобы воспользоваться стиральной машиной, ознакомиться с телефонными сообщениями, записанными на автоответчик, сохраняемый им здесь, и – один или два раза в год – вступать в половой контакт с Бонни. Она, придерживаясь своих строгих моральных стандартов, отказывалась встречаться с другими мужчинами, поскольку все еще состояла в браке. Она по‑прежнему была поглощена своим мужем – то приходя в бешенство от одного его вида, то влюбляясь в него. Существование Бонни все больше суживалось по мере того, как она становилось все более больной, одинокой, измученной его еженедельными визитами к стиральной машине. Однако она не в состоянии была ни развестись с ним, ни отключить его телефон, ни ликвидировать его прачечную привилегию.
Долорес после долгой череды неудовлетворительных отношений с мужчинами наконец в тридцать пять лет вышла замуж за чрезвычайно компульсивного, не склонного к психологизму человека. До брака она проходила психотерапию в связи с хронической тревогой и язвой двенадцатиперстной кишки. Однако после брака педантичный контроль со стороны мужа привел к тому, что прежнее тревожное состояние показалось ей блаженством по сравнению с нынешним. Он составлял расписание ее уик‑эндов (9.00‑10.15 – работа в саду, 10.30‑12.00 – покупка продуктов и т.д.) и тщательно следил за ее расходами; контролировал все телефонные звонки и упрекал ее всякий раз, когда она проводила время с кем‑либо, кроме него. Долорес была вне себя от тревоги и подавленного гнева, однако одна мысль о расставании или разводе приводила ее в ужас.
Марте был тридцать один год, она отчаянно хотела выйти замуж и иметь детей. В течение нескольких лет она была связана с мужчиной, принадлежащим к мистической религиозной секте, которая учила, что чем меньше человек берет на себя обязательств, тем больше его свобода. Соответственно, хотя ему было хорошо с Мартой, он отказывался жить с ней вместе или принимать на себя какие‑либо долговременные обязательства по отношению к ней. Его тревожило то, что она в нем нуждается, и чем крепче она цеплялась за него, тем меньше он готов был что‑либо обещать. Марта была одержима стремлением привязать его к себе, отсутствие у него обязательств перед ней причиняло ей неописуемые страдания. В то же время она чувствовала, что он стал предметом ей навязчивости, она не может от него освободиться; порвав с ним, она всякий раз испытывала мучительную «ломку», пока наконец в подавленности или панике не хватала телефонную трубку, чтобы позвонить ему. Он же в периоды разрывов был отвратительно, душераздирающе спокоен; Марта была ему небезразлична, но он отлично обходился и без нее. Она же была слишком поглощена им, чтобы реально искать кого‑то другого: ее главной жизненной задачей стало побудить его принять на себя обязательства, притом, что здравый смысл и весь предшествующий опыт не позволяли на это надеяться.
Каждая из этих трех пациенток была вовлечена в отношения, причинявшие ей значительные страдания; каждая понимала, что продолжение этих отношений для нее разрушительно. Каждая безрезультатно пыталась освободиться; по сути, эти тщетные попытки составляли главную тему терапии для всех трех женщин. Почему расторжение отношений оказывалось таким трудным? Что так крепко привязывало их к другому человеку? Проблемы всех трех пациенток объединены одной, вполне очевидной темой, которая в каждом случае быстро становилась заметной, как только я просил пациентку рассказать, что приходит ей в голову при мысли об отделении от партнера.
Бонни двадцать лет состояла в браке с человеком, который принимал за нее все решения. Он мог все, и он о ней «заботился». Конечно – как она узнала после их расставания, – личностный рост и самодостаточность объекта «заботы» неминуемо ограничиваются. Но знать, что есть кто‑то, кто в любой момент защитит и спасет, – это так успокаивает. Бонни была серьезно больна и даже после десяти лет раздельной жизни упорно продолжала верить, что «там» есть муж, который заботится о ней. Всякий раз, когда я убеждал ее поразмышлять о жизни без его присутствия (я имею в виду символическое присутствие; что касается значимого физического присутствия, к которому трудно отнести визиты к общей стиральной машине и несколько довольно механических соитий, то оно отсутствовало уже годы и годы), она испытывала сильную тревогу. Что делать в критической ситуации? Кому позвонить? Жизнь без него будет невыносимо одинокой. Несомненно, он являлся символом, спасавшим ее от осознания жесткой реальности: «там» никого нет, «критическая ситуация» неизбежна, и ни один человек, реальный или символический, не избавит от нее.
Долорес, подобно Бонни, панически боялась остаться одна. Притом, что муж невообразимо ограничивал и сковывал ее, она предпочитала тюрьму своего замужества тому, что сама назвала «свободой улиц». По ее словам, она стала бы не чем иным, как парией, членом бесчисленной армии неудачниц, находящихся в постоянном поиске случайного одинокого мужчины. Достаточно было во время терапевтической сессии попросить ее поразмышлять об отделении от мужа, чтобы вызвать тяжелый приступ тревожной гипервентиляции.
Марта позволила будущему управлять своей жизнью. Когда бы я ни предлагал ей поразмыслить о перспективе прекращения отношений с ее безответственным любовником, она неизменно отвечала: все, что она может себе представить, это «шестьдесят три, и завтрак в одиночестве». На мой вопрос о том, как она определяет ответственность, она заявила: «Это уверенность, что мне никогда не придется жить одной или умереть одной». Мысль о том, чтобы обедать или идти в кино в одиночестве, наполняла ее стыдом и страхом. Чего же она на самом деле хотела от отношений? «Чтобы я могла получить помощь, о которой не надо просить».
Марту преследовал постоянный отчаянный страх будущего одиночества. Подобно многим невротикам, она в действительности не жила в настоящем, пытаясь вместо этого вновь обрести прошлое (то есть успокаивающую связь с матерью) в будущем. Страх и эмоциональная потребность Марты были так велики, что полностью блокировали для нее возможность установления приятных отношений с мужчиной. Она слишком боялась одиночества, чтобы прекратить текущие неудовлетворительные отношения, а ее эмоциональные требования были настолько велики, что отпугивали потенциальных партнеров.
Таким образом, каждую из этих женщин связывали не собственно отношения, а ужас перед тем, чтобы остаться одной, прежде всего – перед отсутствием магического, могущественного другого, который постоянно витает вокруг нас, наблюдает за нами, предвосхищает наши нужды, обеспечивает каждому из нас избавление от смертной доли.
То, что вера в конечного спасителя может вовлекать человека в очень ограничивающие отношения, особенно ярко иллюстрируется отношениями некоторых взрослых с их стареющими родителями. Сорокалетняя Ирен и ее мать в течение долгого времени были связаны интенсивными амбивалентными отношениями. Мать была враждебна, требовательна и хронически подавлена; Ирен чаще всего чувствовала к ней большей частью отвращение и сильнейший гнев. Однако когда мать стала жаловаться на условия своей жизни, Ирен пригласила ее жить вместе с ней, что означало переезд из одного конца страны в другой. В этот период Ирен проходила терапию, однако не обсуждала с терапевтом свое решение пригласить мать к себе до тех пор, пока не выслала приглашение. Похоже было, что она сознает саморазрушительность своего поступка, но чувствует себя принужденной так действовать, и потому она не хочет, чтобы кто‑то ее разубеждал. Вскоре после приезда матери у Ирен наступила декомпенсация: появились приступы сильной тревоги, бессонница, произошла острая вспышка астмы. Пока терапия фокусировалась на маневрах матери, продуцирующих у Ирен чувство вины, на навязчивости и ядовитом нраве последней, мы не двигались с места. Прогресс наметился тогда, когда мы переключились на другой вопрос – вопрос, критический для понимания мучительных отношений многих взрослых людей с их родителями: почему мать так важна для Ирен? Почему она считает себя ответственной за счастье собственной матери и обязанной его обеспечить? Почему она не могла психологически освободиться от своей матери?
Когда я попросил Ирен поразмышлять о складе ее жизни без матери, ее первая ассоциация была интересна: «Без матери никому не будет дела до того, что я ем!» Мать постоянно витала где‑то над ее правым плечом, следя за питанием Ирен и делая заметки на эту тему. На сознательном уровне Ирен неизменно испытывала ярость от присутствия матери; однако теперь она поняла, что на более глубинном уровне оно действовало успокоительно. Из того, что мать контролировала ее питание, следовало, что она гарантирует благополучие дочери и в других сферах жизни. Ирен нужна была мать не только живая, но и энергичная, на глубинном уровне у нее вызывали беспокойство признаки немощи, апатии, подавленности матери.
К ЦЕЛОСТНОМУ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ О ПСИХОПАТОЛОГИИ
Из дидактических соображении я рассмотрел по отдельности две основные стратегии преодоления тревоги смерти и представил виньетки историй пациентов, демонстрирующие крайние формы той или иной базовой защиты, теперь настало время интегрировать их. Разумеется, у большинства пациентов не наблюдается ясной и однонаправленной клинической картины. Стремясь отгородиться от тревоги, мы обычно используем не одну монументальную защиту, а множество переплетенных между собой защит. Большинство людей защищаются от тревоги смерти как с помощью иллюзорного убеждения в собственной неуязвимости, так и опираясь на веру в существование конечного спасителя. До сих пор я говорил об этих двух защитах как о диалектически противоположных, но в действительности они тесно взаимосвязаны. Мы уникальны и бессмертны и обладаем мужеством индивидуально выделиться из человеческой массы именно потому, что некое всемогущее существо или сила постоянно печется о нашем благополучии. Именно потому, что мы представляем собой уникальные и особые существа, нам посвящены специальные силы во вселенной. Наш конечный спаситель, хоть он и всемогущ, в то же время является нашим вечным слугой.
Отто Ранк (Otto Rank) в глубоком обзоре, озаглавленном «Страх жизни и страх смерти» («Life Fear and Death Fear»), постулировал базисную динамику, которая позволяет понять отношения между двумя защитами. По мнению Ранка, в человеке существует первичный страх, проявляющийся иногда как страх жизни, иногда – как страх смерти. Под «страхом жизни» Ранк подразумевал тревогу, связанную с перспективой «утраты связи с большей целостностью». Страх жизни – это страх встречи с жизнью в качестве изолированного существа, это страх индивидуации, «движения вперед», «выделения из природы». Ранк полагал, что прототипически страх жизни связан с процессом «рождения», первичной травмой и первичной сепарацией «Страхом смерти» Ранк называл страх исчезновения, потери индивидуальности, растворения отдельного существа – возвращения его целостности.
Ранк утверждал, что «Индивида всю его жизнь швыряет между этими двумя возможностями страха, двумя полюсами страха…». Человек пытается отделиться, индивидуироваться, утвердить свою автономию, продвигаться вперед, реализовать свой потенциал. Однако наступает момент, когда у него возникает страх перед лицом жизни
Индивидуация, выход из массы вовне, или, как я назвал это в данной главе, утверждение своей исключительности, не дается даром, а влечет за собой полное переживаний страха и одиночества, чувство незащищенности. Индивид может смягчить это ощущение, поменян направление своего пути на противоположное – отступая «назад», отрекаясь от индивидуации, находя комфорт в слиянии, растворении себя, отдании себя другому. Однако комфорт нестабилен, поскольку эта альтернатива также пробуждает страх – страх смерти: капитуляции, стагнации и, в конечном счете, состояния неживой материи. Между этими двумя полюсами страха – страхом жизни и страхом смерти – индивид раскачивается всю свою жизнь.
Предлагаемая мной парадигма парных защит – собственной исключительностью и конечным спасителем – не тождественна диалектике страха жизни и страха смерти, сформулированной Ранком, однако они явно имеют общую зону. Полюсы страха Ранка близко соответствуют границам защит, которые заложены в них самих. «Тревога жизни» порождается защитой с помощью исключительности: это цена, которую мы платим за то, что, ничем не огражденные более, отделяемся от природы. «Тревога смерти» – это «налог» со слияния: когда человек отказывается от автономии, он теряет себя и претерпевает своего рода смерть. В результате возникает колебательное движение мы движемся в одном направлении до тех пор, пока обусловленная защитой тревога не перевесит даруемое ею же облегчение, после чего меняем курс и движемся в обратную сторону.
Некоторые из уже представленных мной клинических примерен демонстрируют это колебательное движение. Вспомним случай Лины которая предпочла «законсервироваться» в подростковой фазе, что бы избежать тревоги. Она постоянно пыталась слиться с каким‑нибудь спасителем. Однако нередко жизненная ситуация ужасала ее, и, цепляясь за других, она в то же время упорно бунтовала против них. Она жаждала близости; но стоило предложить ей близость, как она спасалась бегством. Возникало впечатление, что значительная часть ее энергии затрачивается на избегание «тревоги жизни», сопутствующей изменению и росту. Она искала мира, комфорта и безопасности; но когда получала их, ее охватывала тревога смерти. Она ненавидела сон и вообще всякую неподвижность и, чтобы избежать этого, предавалась лихорадочной активности нередко, например, бесцельно гоня автомобиль всю ночь.
Вспомним Карен, которая была мазохистична и ради моих объятий готова была при необходимости приносить себя в жертву. Ее пугали и собственные устремления. Слияние с другим означало комфорт и безопасность, но оно означало также потерю себя. Одно из ее стихотворений ярко выражает эту дилемму:
Я хочу встряхнуться, как собака, выходящая из воды,
Чтобы освободиться от вашего влияния.
Мне было слишком свободно с вами, я слишком приблизила вас к своему сердцу.
И оно прилепилось к вам, как плоть к холодному металлу.
Проявите ко мне теплоту и отпустите меня.
Чтобы освободиться, я должна разорвать свою плоть.
Нанести раны, которые не исцелятся.
Не этого ли вы хотите от меня?
Колебание между слиянием и отделением нередко с особенной силой демонстрируется на сеансах семейной терапии, когда основная проблема связана с подростком, готовящимся оставить дом. В одной из таких семей, с которой я работал. Дон, девятнадцатилетний идентифицированный пациент, как будто был сыт по горло родительским контролем над его жизнью. Судорожно пытаясь стать самому себе хозяином, он, в частности, требовал, чтобы родители не участвовали в выборе колледжа и в процедуре принятия в колледж. В то же время он слишком долго медлил и упустил время поступления в колледж, который сам выбрал, решив в результате остаться дома и посещать местный двухгодичный колледж.
Дома присутствие Дона порождало хаос. Его отношение к свободе проявлялось бурно, но было амбивалентным. Болезненно чувствительный к любым действиям родителей, хотя бы отдаленно намекавшим на ограничение его свободы, он в то же время скрыто, но недвусмысленно просил, чтобы его ограничивали. Так, он допоздна слушал музыку на оглушительной громкости; требовал, чтобы ему разрешили пользоваться семейным автомобилем, а добившись своего, гонял машину на полном газу, визжа тормозами на крутых виражах, и нередко возвращался с опустошенным баком, так что его отец едва мог на следующее утро доехать до заправочной станции. Дон требовал деньги для встреч с девушками, но «нечаянно» оставлял презервативы на туалетном столике, чтобы его строгие родители‑мормоны могли ими полюбоваться.
Дон требовал свободы, но не мог ею воспользоваться. Множество раз он в гневе уходил из дома, на несколько дней, находя приют у друга, но никогда всерьез не думал о том, чтобы поселиться отдельно. Его родители были богаты, но он не мог позволить им платить за свою квартиру и не мог оплачивать ее сам. (Он заработал летом значительную сумму денег, но отказывался их тратить, желая сберечь до того времени, когда они ему «по‑настоящему» понадобятся.) Дон жаждал свободы и боролся за нее, но одновременно как бы говорил своим родителям: «Я – незрелый, безответственный, опекайте меня, но делайте вид, что я не просил вас об этом».
Родители Дона в этой драме отнюдь не были незаинтересованными свидетелями. Дон был старшим ребенком; его уход из дома означал поворотную веху в жизненном цикле родителей. Особенную угрозу эта перемена представляла для отца Дона, чрезвычайно склонного к конкуренции трудоголика: она раскрывала иллюзорность его идеи собственной уникальности; символизировала его личностное умаление, начало новой, менее энергичной, менее полезной жизненной фазы; означала вытеснение его с прежнего места, упадок и таящуюся за всем этим смерть. Для матери Дона, чья основное личностное самосознание определялась ее ролью матери и домохозяйки, уход Дона также представлял угрозу. Она боялась одиночества и утраты смысла жизни. Соответственно, родители Дона в тончайших формах препятствовали его росту: они готовили его к жизни в качестве автономного взрослого (не это ли цель успешного родителя?), однако sotto voce* молили: «Не вырастай, не оставляй нас, оставайся всегда юным, и тогда то же будет с нами»**.
* Вполголоса (лат.) – Прим. переводчика.
** Подобная динамика обычно обнаруживается в семьях детей со школьной фобией. В.Тиц (W. Tietz) описывает несколько случаев страха смерти, выливающегося в школьную фобию: ребенок пытается защититься от тревоги смерти путем отказа сепарироваться от семьи: семья, в силу амбивалентного отношения к нарастающей автономии ребенка, скрыто соучаствует в сохранении симптома.
Еще одним пациентом, раскачивавшимся между слиянием и отделением, был Роб, тридцатилетний служащий из сферы бизнеса, обратившийся за консультацией по поводу трансвестизма. Он переодевался в женскую одежду, всегда пребывал в уединении, с подросткового возраста и до настоящего времени это обыкновение оставалось эго‑синтонным. Иначе говоря, этот импульс приходил, казалось, из самой сердцевины его существа: переодевание доставляло ему массу удовольствия, и он намеревался продолжать в том же духе. Однако в последнее время эта привычка стала брать над ним верх. Роб часто испытывал тревогу и сознавал необходимость переодеться, чтобы устранить ее. Симптом стал требовать большего: он хотел, чтобы Роб появился на публике в женской одежде, чтобы он сбрил все волосы на теле (что Роб исполнил); наконец, чтобы он отрезал себе пенис и стал женщиной. Таким образом. Роб испытывал тревогу в любом случае если переодевался и если не переодевался.
Обычно психотерапевты рассматривают трансвестизм исходя из идеи, что половое извращение является попыткой защититься от кастрационной тревоги. Симптом переодевания в одежду противоположного пола выполняет две функции: это символическая кастрация (тот, кто уже кастрирован, находится в безопасности) и в то же время путь к некоторой форме генитального удовлетворения. Для Роба эта парадигма проясняет, например, почему он мог мастурбировать только будучи одет в женское платье и воображая себя женщиной. Однако многое она оставляет непонятным, в то время как экзистенциальная парадигма предоставляет более широкий контекст поведения Роба.
Фантазии Роба редко были открыто сексуальными. Обычно он представлял себя женщиной, которую приветствует и которой восхищается группа женщин, принимающая ее в свой круг; они принимают ее благодаря ее внешности или просто как личность, не требуя никаких специальных действий. Роб желал слиться с ними, быть одной из них, быть медицинской сестрой, домохозяйкой или машинисткой. Он отметил, что отсутствие необходимости каких‑то достижений для него особенно важно: он так устал от стресса, присущего жизни мужчины – от того, чтобы конкурировать, выделяться, бороться, демонстрировать свое умение.
Переодевание скрывало за собой значительную поглощенность темой смерти и страх смерти. Мать Роба медленно и мучительно умирала от рака, когда он был подростком, и более четырнадцати лет она продолжала ему сниться. Переодевание символизировало слияние с матерью и со всеми женщинами; в течение большей части жизни Роба акты трансвестизма связывали его тревогу, сопутствующую индивидуации. Всегда ориентированный на достижения, Роб давно превзошел отца, но тем самым оказался лицом к лицу с тем, что Ранк называет «страхом жизни». Он всегда реагировал на тревогу индивидуации фантазийной жизнью, главным содержанием которой было слияние, осуществляемое через акт переодевания. Однако теперь эта защита перестала быть эффективной: она возбуждала слишком много «страха смерти», и Роб ужасно боялся, что его фантазии возьмут верх, что он потеряет себя в этом слиянии.
Стремление смягчить тревогу индивидуации через половое единение вполне обычно. Успешный мужчина, целиком посвятивший себя аккумуляции власти, продвижению вперед, выделению из общего ряда и «приобретению имени», в какой‑то момент должен встретиться лицом к лицу с изолированностью и беззащитностью, сопровождающими индивидуацию. Зачастую этот момент настигает в деловых поездках. Когда этот человек, чья жизнь наполнена напряженными усилиями и устремлениями, не может полностью обратить свои энергию и внимание на работу, когда он должен замедлиться в непривычной среде, – тогда он нередко переживает ужасающее одиночество и впадает в сильнейшее неистовство. Он начинает искать секса, но не любовного объятия женщины (которое возбудило бы страх потери себя): он ищет манипулятивного секса, сексуального слияния, которое позволило бы ему по‑прежнему контролировать свою жизнь и ограничивать сознавание, но смягчило бы боль изолированности и глубинную тревогу смерти. Отношения при этом, конечно, «сделаны», и на некоем глубинном уровне индивид осознает неподлинность своей встречи с другим человеком. Результирующее чувство вины присоединяется к тревоге и ведет к еще большей изоляции, еще большему неистовству, когда становится нужна еще одна женщина, порой буквально через несколько минут после ухода от первой.
У пациентов нередко наблюдается половая активность как средство смягчения тревоги смерти. Патриция Макэлвин‑Хоен (Patricia McElveen‑Hoehn) сообщает о серии таких случаев: сексуально консервативная женщина приезжает в родительский дом на похороны родителя или близкого родственника; с собой она прихватывает презерватив и вступает в сексуальные отношения с незнакомцем или случайным другом, что ей совершенно несвойственно; мужчина в состоянии тяжелой коронарной недостаточности на пути в больницу ласкает груди жены, вызывая ее на некоторый сексуальный обмен; мужчина начинает вести в высшей степени беспорядочную половую жизнь, в то время как его ребенок умирает от лейкемии.
Еще один иллюстрирующий пример – случай Тима, тридцатилетнего пациента, жена которого умирала от лейкемии. Тим обратился за терапией не из‑за своего горя, а в связи с тревожащей его сексуальной поглощенностью и компульсивностью. До болезни жены он вел моногамный образ жизни, но с приближением ее смерти он стал навязчиво заглядывать в порнографические салоны и бары для одиноких (с большим риском быть узнанным) и мастурбировать по несколько раз в день, часто находясь в постели с умирающей женой. Вечером в день похорон жены он нашел проститутку. За сексуальной компульсивностью Тима нетрудно было распознать его горе и страх собственной смерти. Ясные свидетельства тому дают его сновидения, которые я опишу в следующей главе.
Поразительным примером взаимосвязи между сексом и смертью является случай одной моей пациентки, у которой развился массивный, неоперабельный рак шейки матки. Несмотря на явные физические страдания и истощение, она привлекала бесчисленных поклонников – по ее словам, больше, чем когда была в цветущем состояние. Ее партнеры таким образом нейтрализовывали собственный страх смерти. Они говорили о том, как возбуждающе действует такая близость к самой сердцевине жизни – или, как выразился один из них, к «кишкам земли». Представляю, что им кружила голову возможность подходить так близко к смерти, извергать семя ей в лицо, оставаясь всякий раз целым и невредимым. У самой пациентки была другая мотивация: несмотря на интенсивные боли в области таза, у нее было мощное стремление к сексу. Она была так близка к смерти и так страшилась одиночества умирания, что жаждала слияния с другим человеком. Элен Гринбергер (Ellen Greenberger), исследовавшая женщин, больных раком на терминальной стадии, на основании данных ТАТа сделала вывод о достоверно повышенном интересе к теме запретной сексуальности.
В течение всей жизни в нашем внутреннем мире существует диалектика двух потребностей – отделенности и автономии, с одной стороны, защиты и слияния, с другой – и встречи со страхом, сопутствующим каждой из них. Задача удовлетворения обеих потребностей возникает в первые месяцы жизни, когда ребенок, первоначально симбиотически связанный с матерью (и впоследствии имеющий постепенно ослабевающую эмоциональную зависимость от нее), должен высвободиться и дифференцироваться от матери, чтобы у него могло развиться чувство своей самобытности, чувство целостности и отделенности, – задача, называемая Маргарет Малер «сепарацией‑индивидуацией».
Цена невротической адаптации
Попытка избежать тревоги смерти составляет ядро невротического конфликта. Соответствующее поведение становится «невротическим», когда оно достигает крайней степени выраженности и приобретает ригидность; как мы уже могли убедиться, гипертрофия любой из базовых защит от тревоги смерти выливается в ту или иную форму невротической адаптации. Невротический стиль жизни порождается страхом смерти, но поскольку он ограничивает способность индивида к спонтанной и творческой жизни, эта защита от смерти сама представляет собой частичную смерть. Именно это имел в виду Ранк, когда сказал, что невротик отказывается брать взаймы жизнь, чтобы не платить по векселю смерти: он покупает свободу от страха смерти ценой частичного саморазрушения.
Но такое самоограничение – не единственная цена невротической адаптации. Чувство вины не позволяет невротику избежать «уплаты налогов» даже за остаточную жизнь. Традиционно вина определяется как чувство, порождаемое реальным или воображаемым проступком против другого. Но Кьеркегор, а позже Ранк и Тиллих привлекли внимание к другому источнику вины – проступку против себя, непроживанию данной нам жизни. Ранк выразил это следующим образом: «Когда мы ограждаем себя от слишком интенсивных или слишком быстрых переживаний или жизненных усилий, мы чувствуем себя виноватыми в том, что не используем свою жизнь, вину перед непрожитой жизнью в себе». Таким образом, подавление – это палка о двух концах: оно дает чувство безопасности и облегчает тревогу, но в то же время ограничивает жизненные проявления и вследствие этого порождает вину – так называемую «экзистенциальную вину». В главе 6 вопрос экзистенциальной вины будет исследован глубже.
До сих пор речь шла о четко очерченном невротическом приспособительном механизме к тревоге смерти. Сейчас мы ненадолго обратимся к рассмотрению более примитивных, фрагментарных защит от тревоги смерти, характерных для шизофрении.
ШИЗОФРЕНИЯ И СТРАХ СМЕРТИ
Хотя появляется все больше данных в пользу значительного биохимического компонента многих форм шизофрении, нельзя забывать также и о том, что шизофрения – это трагический человеческий опыт, который может быть оценен как в лонгитюдной (исторической), так и в одномоментной (феноменологической) перспективе. Взгляд пациента на мир формируется под воздействием сокрушительных стрессов в процессе его развития: мир, в котором он или она психологически обитает, полон ужаса и хаоса.
Возможно, ни один из современных психотерапевтов не предпринял столь последовательных и героических усилий для понимания и прояснения внутреннего мира шизофреника, как Гарольд Сэлс (Harold Scarles), который многие годы занимался лечением психотических больных в Честнут Лодж, Роквилл, штат Мэриленд (Chestnut Lodge, Rockville, Maryland). В 1958 г. он написал очень глубокую, но оставшуюся незамеченной статью, озаглавленную «Шизофрения и неизбежность смерти», в которой выразил свои взгляды на психодинамиику шизофренического пациента. Выдвинутый им тезис обобщен в следующем отрывке:
«Факт неизбежности смерти, как будто бы будничный, в действительности составляет один из мощнейших источников человеческой тревоги, и реакции наших чувств на этот аспект реальности принадлежат к числу самых интенсивных и сложных, какие мы только способны пережить. Заключенные в психическом заболевании защитные механизмы, в том числе и те зачастую экзотические защиты, которые обнаруживаются в шизофрении, направлены на устранение из сферы осознания – среди других вызывающих тревогу аспектов внутренней и внешней реальности – также и просто факта конечности жизни».
Сэлс утверждает, что психодинамика шизофренического больного, так же как и невротика, может быть вполне понята, лишь если ее рассматривать как реакцию пациента на неизбежность его смерти. Несомненно, защиты шизофреника более причудливы, принимают более экстремальные формы, являются более повреждающими, чем защиты невротического пациента. Кроме того, ранний жизненный опыт у шизофреника более опустошителен, чем у невротика. Однако экзистенциальная природа человеческой реальности всех нас делает братьями и сестрами. Шизофреника не менее, чем невротика, терзает факт человеческой смертности, хотя их реакции на него неодинаковы по своей разрушительности. Сэлс блестяще пишет об этом:
"Вне всякого сомнения, шизофрения может рассматриваться как результат необычного, извращенного опыта в прошлом – прежде всего во младенчестве и раннем детстве; однако, по мнению автора, столь же точно, но с большей клинической пользой, она может быть описана как ситуация использования определенных, очень рано усвоенных защитных механизмов для совладания с нынешними источниками тревоги. И ни один из этих источников не является таким мощным, как экзистенциальное обстоятельство конечности человеческой жизни. Суть предлагаемой гипотезы заключается в точке зрения на шизофрению – одной из различных и возможных – как на интенсивную попытку противостояния этому аспекту человеческой ситуации или отрицания его.
Автор хотел бы подчеркнуть, что, согласно его опыту, факт неизбежности смерти имеет к шизофрении отношение достаточно близкое. Речь идет вовсе не о том, что по мере освобождения от шизофрении пациент становится способен обратить внимание на этот великий жизненный факт неизбежности смерти, прежде пассивно располагавшийся где‑то на периферии его психологического кругозора или даже вообще вне его. Напротив, клинический опыт автора показал, что взаимосвязь значительно теснее, по сути, пациент становится и долго остается шизофреником (далее речь идет. конечно, о преимущественно или полностью бессознательной целенаправленности) с целью избежать конфронтации – среди других аспектов внутренней и внешней реальности – с фактом конечности жизни".
В традиционных историях болезни шизофренических пациентов неизменно подчеркиваются их унылое, конфликтное раннее детство и тяжелая патология их раннего семейного окружения. Но как бы могла выглядеть реальная история болезни пациента, его экзистенциальная история? В психиатрическое обследование входит опрос, направленный на оценку психического статуса, когда интервьюер пытается выяснить, ориентирован ли больной в пространстве, времени и самом себе. Вот какое описание своей «ориентированности» мог бы составить, по мнению Сэлса, один его пациент:
«Я – Чарльз Бреннан, сегодня, 15 апреля 1953 г., мне 51 год, я живу здесь, в Честнут Ладж, психиатрической больнице Роквилла, штат Мэриленд, последние восемь лет постоянно проживал в ряде психиатрических больниц, свыше 25 лет серьезно болен психическим заболеванием, которое, как можно уже сказать в моем теперешнем возрасте, лишило меня реальной перспективы жениться и иметь детей и, вполне возможно, потребует моего пребывания в больнице до конца жизни. Я – мужчина, некогда бывший членом семьи, состоявшей из двоих родителей и семерых детей, но пережившей ряд сокрушительных трагедий много лет назад: моя мать умерла, будучи психически больной; один из братьев в молодости заболел психической болезнью, требовавшей продолжительной госпитализации; другой брат покончил с собой; еще один брат убит в ходе военных действии во время второй мировой войны; и третий, достигший высот своей юридической карьеры, убит совсем недавно психически больным клиентом. Оставшийся родитель, мой отец, сейчас в преклонном возрасте, он разительно отличается от того сильного мужчины, каким некогда был, и приближается к своей смерти».
В этой конкретной истории есть нечто, от чего кровь стынет в жилах, но, возможно, еще более ошеломляет понимание того, что подобная трагическая история, повествующая не о раннем развитии, образовании, военной службе, объектных отношениях и половом опыте, а об экзистенциальных фактах жизни, могла бы быть написана о каждом пациенте (и в действительности – о каждом терапевте).
Сэлс описывает ход психотерапии ярко выраженной психотической пациентки, которую он лечил в течение нескольких лет. Вначале пациентка обнаруживала «обильные признаки высоко детализированной, захватывающе необычной и сложной, с крайней бескомпромиссностью отстаиваемой бредовой системы, наполненной всевозможными ужасающими явлениями – от брутальной жестокости дикарей до колдовства и замысловатых ухищрений научной фантастики». Сэлс заметил, что, с одной стороны, мир переживаний пациентки был ужасен, с другой – ее мало беспокоили вещи, которые внушают ужас всем, такие как болезни, старение и неизбежная смерть. Со всем этим она уживалась посредством явного и массированного отрицания смерти. «Сегодня ни у кого в мире нет никаких причин страдать или чувствовать себя несчастным, у них есть противоядия от всего… Люди на самом деле не умирают, а просто 'изменяются', перемещаются из одного места в другое или бывают превращены в не ведающих о своей природе персонажей кинокартин».
После трех с половиной лет психотерапии у пациентки начало формироваться реалистическое видение жизни и принятие того факта, что жизнь, в том числе и человеческая, имеет конец. В предшествующие этому принятию месяцы было заметно усиление ее бредовых защит против осознания неизбежности смерти, ожесточенное, как оборона последнего рубежа.
"…Она стала проводить большую часть своего времени, собирая сухие листья, ища мертвых птиц и мелких животных, иногда обнаруживаемых после долгих часов поисков, и, покупая всевозможные предметы в магазинах ближайшего поселка, затем пыталась с помощью различных процессов, напоминающих алхимию, возродить эти мертвые существа к той или иной форме жизни. Было совершенно ясно (и она сама это подтвердила), что она чувствует себя Богом, избирающим различные мертвые листья и другие вещи, чтобы вернуть в них жизнь. Много раз психотерапевтические сессии проводились в больничном парке; терапевт сидел на скамейке, в то время как пациентка весь день занималась изучением находящегося поблизости газона.
Но по мере того, как шли эти месяцы и период отрицания смерти стал подходить к концу, она стала все более открыто выражать отчаяние по поводу своей деятельности. А потом наступил осенний день, когда во время сессии терапевт и пациентка сидели на разных скамейках не слишком далеко друг от друга и вместе смотрели на покрытую листьями лужайку. Она дала понять, преимущественно невербальными способами, что ее наполняют мягкость, нежность и горе. Со слезами на глазах, тоном смирения перед фактом, который остается только принять, она произнесла: «Я не могу превратить эти листья, например, в овец». Терапевт отвечал: «Мне кажется, ты понимаешь, что с человеческой жизнью тоже так – так же, как жизнь листьев, жизнь людей заканчивается смертью». Она кивнула: «Да».
Этим пониманием ознаменовалось начало стойкого терапевтического прогресса. Пациентка постепенно отказалась от своей главной защиты против смерти – веры в собственные всемогущество и неуязвимость. Она осознала:
«…что она не Бог… и что все мы, человеческие существа, смертны. И это означало, что рушится сам фундамент ее параноидной шизофрении, заболевания, частью которого было, например, многолетнее убеждение, что ее покойные родители на самом деле живы».
Хотя защиты этой женщины, как и других описанных Сэлсом шизофренических больных, крайне и чрезвычайно примитивны, они, тем не менее, аналогичны защитным стереотипам, обнаруживаемых у невротиков. Например, бред величия и всемогущества параноидального пациента представляет собой проявление одного из двух базисных способов избегания смерти – веры в свою уникальность и бессмертие.
Многие, если не все, шизофренические пациенты неспособны ощутить себя полностью живыми. Эта «печать смерти», несомненно, является результатом глобального подавления всяческого аффекта, но, по мысли Сэлса, она также может быть связана с дополнительной защитной функцией: если пациент «мертв», то он тем самым уже защищен от смерти. Ограниченная смерть лучше, чем реальная: тому, кто уже мертв, не нужно бояться смерти.
Но каждый из нас должен встретиться со смертью. Если страх смерти является центром психической динамики шизофреника, то необходимо разрешить загадку, почему этот универсальный страх в данном случае вызывает слом. Сэлс выдвигает несколько причин.
Во‑первых, у тех, кто не получил поддерживающего знания о своей личностной целостности и о полноте своего участия в жизни, смерть вызывает значительно большую тревогу. «Личность, – пишет Сэлс, – не в состоянии встретиться с неизбежностью смерти, пока он не пережил полноту жизни, а шизофреник – это тот, кто еще не жил в полной мере». Норман Браун (Norman Brown) в своей замечательной книге «Жизнь против смерти» («Life Against Death») делает сходное утверждение: «Только утвердившийся в своем рождении может утвердиться в своей смерти… Ужас смерти – это ужас умирания с непрожитой жизнью в своем теле». (Этот тезис то, что тревога смерти значительно повышается неудачей жизни, – имеет серьезные следствия для терапии и обсуждается в следующей главе.)
Вторая причина капитуляции шизофреника перед тревогой смерти – тяжелые утраты, пережитые в столь ранний период развития, когда человек еще не способен был их интегрировать. Вследствие незрелости своего Эго пациент реагирует на потери патологически, главным образом усилением субъективного инфантильного всемогущества, служащего для отрицания потери (тот, кто является целым миром, не может понести потерю). Таким образом, пациент, который не смог интегрировать потери в прошлом, в настоящем не может интегрировать перспективу величайшей из потерь – потери себя и всех, кого он знает. Следовательно, главное прикрытие пациента от смерти – это ощущение всемогущества, ключевой фактор любого шизофренического заболевания.
Третий источник интенсивной тревоги смерти обусловлен характером ранних отношений шизофреника с матерью – симбиотическим единением, из которого он так никогда и не вышел, но, находясь в нем, колеблется между пребыванием в психологическом слиянии и полной отчужденностью. Отношения пациента с матерью, какими они сохранились в его опыте, наводят на мысль о магнитном поле: подойдешь слишком близко – внезапно «всосет», отодвинешься слишком далеко – унесет в ничто. Для своего поддержания симбиотические отношения требуют, чтобы ни одна сторона не ощущала себя независимой целостностью: каждый из партнеров нуждается в другом, дополняющем его до состояния целостности. Поэтому у шизофренического пациента не формируется ощущение целостности, необходимое для переживания полноты жизни.
Кроме того, шизофреник ощущает симбиотические отношения как совершенно необходимые для выживания и потому нуждается в защите от любых угроз этим отношениям. Среди угроз нет более опасной, чем его или ее собственная (и материнская) мощная амбивалентность. Ребенок чувствует себя совершенно беспомощным, ощущая свою глубочайшую ненависть по отношению к самому любимому им человеку. Он беспомощен также перед лицом знания о том, что один и тот же человек одновременно очень любит его и ненавидит. Эта беспомощность требует постоянного поддержания нормальной лишь во младенчестве фантазии личного всемогущества. Но ничто не уничтожает переживание личного всемогущества в такой степени, как принятие неизбежности смерти, и шизофренический пациент отстаивает свое отрицание смерти со всей силой отчаяния.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПАРАДИГМА ПСИХОПАТОЛОГИИ: ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
В этой главе я постулировал, что, хотя отрицание смерти – универсальная тенденция, проявляющаяся в разнообразных формах, оно имеет два базовых механизма: веру в личную уникальность и веру в конечного спасителя. Эти защиты формируются рано и оказывают огромное влияние на структуру характера. Индивид, глубоко убежденный в существовании конечного спасителя (и, соответственно, стремящийся к слиянию, единению, погруженности в некую большую целостность), склонен искать силу вовне; он занимает зависимую, просительную позицию по отношению к другим; подавляет агрессию, может проявлять мазохистические черты; наконец, может впадать в глубокую депрессию при потере значимого другого. Индивид, опирающийся на свою уникальность и неуязвимость (и, соответственно. стремящийся к самопроявлению, индивидуации, автономии, отделению), может быть нарциссичен; нередко это компульсивный «успешник»; он, возможно, направляет свою агрессию вовне; склонен к преувеличенной самодостаточности вплоть до отвержения необходимой, уместной помощи других, а также к грубому неприятию собственных слабости и ограничений; наконец, он нередко проявляет экспансию, высокие притязания.
Прямые эмпирические подтверждения этой диалектики отделенности‑погруженности отсутствуют – точно так же, как и подтверждения других клинических парадигм психопатологии, выдвинутых Фрейдом, Салливаном, Хорни, Фроммом или Юнгом: клинические парадигмы всегда рождаются интуицией, а оправдываются, или валидизируются, своей клинической полезностью. Тем не менее, имеется два здравых и основательных направления исследований, в рамках которых были выдвинуты и тщательно изучались личностные конструкты, аналогичные рассматриваемым здесь. Это лабораторные исследования когнитивного стиля и личностные исследования локуса контроля.
Когнитивный стиль
Герман Виткин (Herman Witkin) в 1949 г. выявил два базисных перцептивных модуса – полезависимость и поленезависимость, – обнаруживающих сходство с личностными ориентациями на конечного спасителя и личную исключительность. В случае «полезависимого» модуса (соответствующего вере в конечного спасителя) индивидуальное восприятие в значительной мере обусловливается глобальной организацией перцептивного поля. При «поленезависимом» модусе (аналогичном вере в личную исключительность) элементы поля воспринимаются отдельно от фона. В ходе множества исследований было продемонстрировано, что преобладание того или иного модуса восприятия является стойкой характеристикой личностного функционирования. Полезависимый индивид обнаруживает неспособность отделять находящуюся на переднем плане фигуру от средового фона в широком диапазоне перцептивных задач;* поленезависимый без всяких трудностей разрешает эту задачу. Таким образом, тесты демонстрируют стилевую индивидуальную тенденцию, которая, как выясняется, не ограничена восприятием, а представляет собой общий когнитивный стиль, выражаемый индивидом в интеллектуальной активности, образе тела и характере переживания своей отдельной личности.
* Существует множество перцептивных тестов, которые могут быть использованы для демонстрации этого феномена. Например, в тесте телесной адаптации индивид располагается на стуле, который можно наклонять вправо и влево, причем стул находится в маленьком помещении, которое также можно наклонять вправо и влево. В то время как комната несколько наклонена, испытуемого просят расположить свой корпус прямо по отношению к линии гравитации. Полезависимые люди не в состоянии отделить свои ощущения от позиции комнаты. Иными словами, если комната наклонена, они придают своему корпусу тот же наклон и сообщают, что сидят прямо: при этом реально их наклон может достигать сорока пяти градусов. Напротив, поленезависимые испытуемые при любой позиции комнаты способны найти для себя действительно прямое положение. Таким образом, для полезависимого человека его тело и окружающая среда находятся в некоем слиянии, в то время как реакции поленезависимых субъектов свидетельствуют о наличии у них непосредственного переживания отделенности их тела от средового фона.
В другом, но аналогичном тесте индивид получает светящиеся стержень и рамку (комната затемнена, и это единственные видимые объекты) и задание расположить стержень прямо, независимо от наклона рамки. В тесте на включенные фигуры испытуемому предлагается рассмотреть некоторые сложные рисунки, в которые включены определенные простые фигуры. Полезависимый индивид не в состоянии увидеть простую фигуру, в то время как для поленезависимого простая фигура очевидна и буквально «выпрыгивает» из фона рисунка.
Интеллектуальная активность. Полезависимый индивид хуже, чем поленезависимый справляется с проблемами, требующими выделения центрального элемента из контекста. Подобные тенденции носят название «когнитивного стиля». На одном конце спектра впечатления оказываются слишком глобальными и диффузными, на другом – слишком четко очерченными и структурированными, и это всякий раз устойчивая индивидуальная характеристика. Виткин называет эти два когнитивных полюса соответственно «глобальный» и «артикулированный». Однако стоит подчеркнуть тот факт, что мир не населен двумя отдельными породами существ: показатели когнитивного стиля распределены не биполярно, а непрерывно.
Образ тела. Индивидуальный когнитивный стиль влияет не только на то, что мы воспринимаем «вовне», но и на то, что обнаруживаем «внутри». Тесты на образ тела (например, тест «нарисуй человека») убедительно показывают, что восприятие индивидом своего тела существенно связано с тем, как он выполняет перцептивные и когнитивные тесты. Люди с полезависимым (глобальным) когнитивным стилем изображают мало деталей, пропорции и части тела представлены у них нереалистично, особых усилий к репрезентации половых особенностей не обнаруживается; поленезависимый (артикулированный) стиль способствует ясной обозначенное на рисунке пропорций и половых различий.
Самоосознание. При поленезависимом когнитивном стиле индивид обнаруживает признаки развитого чувства своей самобытности – сознавания потребностей, чувств, отличительных качеств, которые он признает своими собственными и определяет как отличные от соответствующих признаков других людей. С другой стороны, индивид с полезависимым когнитивным стилем при установлении собственных позиций, суждений, мнений и представлений о самом себе существенно опирается на внешние источники.* Например, исследования показали, что полезависимые люди чаще смотрят в лицо взрослому экзаменатору, чем поленезависимые. Кроме того, первые лучше узнают лица тех, кого они видели раньше, и им чаще снятся сны, в которых затрагивается их отношение к проводящему исследование.
* Полезависимыи испытуемый в аутокинетической ситуации изменяет свою оценку движения точки света в соответствии с оценкой другого человека, «подсадной утки». (Аутокинетическая ситуация означает, что человек должен смотреть на точку света в темной комнате и оценивать, насколько она передвинулась. Сам по себе свет в действительности не двигается, но на испытуемого могут в большей или меньшей степени влиять оценки предшествующих испытуемых или «подсадных уток».)
Когнитивный стиль и отрицание смерти. Индивид, определенный в результате тестирования как «Полезависимый», по клиническому описанию сходен с теми, кто ориентирован на конечного спасителя; «поленезависимый» по своим характеристикам близок к убежденному в своей личной исключительности. Диалектика полезависимости поленезависимости целиком основана на эмпирических исследованиях перцептивной и когнитивной функций и лишена какого‑либо субъективного содержания. Я склонен утверждать, что описанная выше экзистенциальная диалектика связана с этой эмпирической диалектикой так же, как «ужас» связан с кожно‑гальванической реакцией: экзистенциальная диалектика описывает личностный смысл, или феноменологический опыт, индивида, классифицированного согласно своему когнитивному стилю. Позвольте мне продолжить аналогию, сопоставив, с одной стороны, эмпирическую связь между когнитивным стилем и психопатологией, с другой – связь психопатологии с двумя базисными защитами от тревоги смерти, о которой шла речь выше в этой главе.
Психопатология и когнитивные стили. Индивидуальный когнитивный стиль тесно связан с «выбором» психологической защиты и с формой психопатологии. Полезависимость‑полезнезависимость – это континуум, на обоих концах которого возникает психопатология; более того, на разных концах патология принимает совершенно различные формы.
Личностные расстройства у полезависимого индивида обычно проявляются как тяжелые проблемы самосознания; как симптомы, характерные для глубинных склонностей к чрезмерной зависимости, пассивности и беспомощности. В нескольких исследованиях показано, что у такого пациента развиваются симптомы, связанные с недостаточной сформированностью «переживания личной самобытности» такие как алкоголизм, ожирение, психопатия, депрессия и психофизиологические реакции (например, астма). При психозе этот пациент склонен к галлюцинациям, в отличие от полезнезависимого психотика, «предпочитающего» бред.
Если патология развивается у поленезависимого индивида, то она с большой вероятностью сопряжена с направленной вовне агрессией, бредом, экспансивными и маниакальными идеями величия, параноидными синдромами и депрессивно‑компульсивными структурами характера.
Известны также интересные наблюдения относительно полезависимых и поленезависимых личностей в психотерапии. Главное различие связано с переносом. Как и следует ожидать, полезависимый пациент склонен к быстрому формированию высоко позитивного переноса на терапевта и раньше начинает чувствовать улучшение состояния, чем поленезависимый пациент. Полезависимый пациент склонен к «слиянию» с терапевтом, в то время как поленезависимый в развитии отношений с терапевтом обычно проявляет значительно большую осторожность. Поленезависимый пациент на первую сессию приходит с четким описанием своих проблем и собственных идей на эту тему; полезависимый, напротив, обратит на себя внимание расплывчатостью описаний. Полезависимый индивид с готовностью принимает идеи и предложения терапевта, настойчиво добивается его поддержки и, испытывая тревогу в конце терапевтического часа, пытается продлевать сессии.
Когнитивный стиль психотерапевта является важной детерминантой терапевтического контекста. Поленезависимые психотерапевты склонны предпочитать либо директивную, либо пассивную, наблюдательную позицию по отношению к пациенту; полезависимые – личностные, диалогические отношения со своими пациентами.
Признаки взаимосвязи двух осей очевидны: крайняя выраженность как полезависимости, так и ориентации на конечного спасителя, ведет к патологии, характеризуемой пассивностью, зависимостью, оральностью, недостаточностью автономии функционирования, неадекватностью; чрезмерная поленезависимость, так же как и преувеличенное чувство личной исключительности, имеет тенденцию выливаться в патологические идеи величия, параноидные синдромы, агрессию или навязчивости. Эти наблюдения получают дополнительную поддержку от другого направления исследований локуса контроля, парадигмы, сформулированной на основе эмпирических открытий и также тесно ассоциирующейся с клинической парадигмой «исключительность – конечный спаситель».
Локус контроля
Начиная с работ Джозефа Роттера (Joseph Rotter) и Е. Джерри Фареса (Е. Jerry Phares)", многие исследователи проявляли интерес к личностной парадигме, связанной с оценкой того, внутренний или внешний локус контроля имеет индивид. Чувствует ли человек, что события собственной жизни находятся под его контролем или же что они происходят независимо от его действий? В большинстве исследований локуса контроля используется один инструмент – I.E. шкала, разработанная Роттером в 1966 г. и с тех пор примененная в нескольких сотнях исследовательских работ.*
* I.Е.‑шкала (internal‑external, внутреннее‑внешнее) – это опросник, предлагающий человеку ответить на вопросы о самом себе, состоящий из двадцати трех пунктов, по каждому из которых необходимо выбрать один из двух альтернативных ответов. Некоторые примеры пар альтернатив:
а. Люди одиноки, если они не стараются быть дружелюбными.
б. Бесполезно слишком стараться понравиться людям: если они тебя любят, то любят.
а. Я сам(а) – причина тому, что со мной происходит.
б. Иногда я чувствую, что не слишком контролирую ход своей жизни.
Существует также форма опросника для детей дошкольного возраста, имеющая, например, такие пункты:
а. Если у тебя дырка в штанах, это потому, что
а) ты порвал(а) их,
б) они порвались.
б. Если у тебя был блестящий новенький пенни, и ты его потерял(а), – это потому, что
а) ты его уронил(а),
б) у тебя оказалась дырка в кармане".
«Интерналы» имеют внутренний локус контроля, и у них есть чувство контроля своей личной судьбы; «экстерналы» помещают источник контроля вне себя, где и ищут ответы, поддержку, руководство.*
* «Интернал» – от английского «internal», внутренний; «экстернал» – от английского «external», внешний. – Прим. переводчика.
Интерналы отличаются от экстерналов по очень многим позициям. Интерналы склонны быть более независимыми, они более ориентированы на успех, более политически активны, обладают большим ощущением личной силы. Они в большей степени ищут власти, направляют усилия на достижение господства над средой. Пациенты‑интерналы, госпитализированные по поводу туберкулеза, больше знали о своем состоянии, проявляли больше любознательности в отношении своей болезни и давали понять, что они не удовлетворены количеством информации, получаемым от врачей и медицинских сестер. При составлении рассказов по карточкам ТАТа интерналы были значительно менее восприимчивы к внушению и влиянию, оказывавшемуся посредством скрытых подсказок со стороны проводившего тестирование.
В целом, интерналы получают больше информации, а также лучше удерживают и используют ее для контроля собственной среды Интерналы менее внушаемы, более независимы и больше полагаются на собственное суждение. В противоположность экстерналам, они оценивают информацию на основе ее собственной ценности, а не исходя из престижа или компетентности источника информации. Интерналы более склонны стремиться к высоким достижениям и отсрочивать удовлетворение ради получения большей награды, хотя бы и в более поздний срок. Экстерналы значительно более внушаемы, значительно чаще курят и идут на высокий риск в азартных играх; они менее успешны, доминантны и терпеливы; в большей степени желают получать помощь от других и более склонны к самоуничижению.
Совершенно очевидно сходство этих характеристик с описаниями поленезависимых (или убежденных в своей исключительности) и полезависимых (или верящих в существование конечного спасителя) личностей. Можно интегрировать эти данные в общую картину, представив себе континуум с полезависимостью, внешним локусом контроля, ориентацией на конечного спасителя на одном полюсе и поле независимостью, внутренним локусом контроля, ориентацией на личную исключительность на другом полюсе. Близость к любому из краев континуума высоко коррелирует с клинически проявленной психопатологией. Однако, судя по многим исследованиям, один из полюсов континуума связан с личностной организацией, которая менее эффективна и более склонна к развитию психопатологии. В чрезмерной степени полезависимые, с внешним локусом контроля индивиды чаще страдают явно выраженной психопатологией, чем индивиды, близкие к поленезависимому, с внутренним локусом контроля экстремуму. У человека с высоким показателем внешнего локуса контроля легче возникает чувство неадекватности, он в среднем более тревожен, враждебен, утомлен, растерян и подавлен", менее энергичен и жизнерадостен". Тяжело нарушенные психиатрические пациенты чаще оказываются экстерналами. Среди шизофреников значительно преобладают экстерналы". Во множестве исследований продемонстрирована тесная связь между внешним локусом контроля и депрессией".
Все эти данные исследований согласуются с клиническим опытом Люди чаще обращаются за терапией вследствие краха защиты, связанной с верой в конечного спасителя (по причине жажды зависимости, низкой самооценки, презрения к себе, беспомощности, мазохистических тенденций, депрессии в результате потери или угрозы потери значимого другого), чем из‑за срыва защиты, основанной на убеждении в личной исключительности. Один коллектив исследователей сообщал о позитивной корреляции между внешним локусом контроля и тревогой смерти". Иными словами, внешний локус оказывается менее эффективным заслоном против тревоги смерти, чем внутренний. (Впрочем, в другом эксперименте, где использовались другие методы оценки тревоги смерти, этот результат воспроизвести не удалось.)
Возникает впечатление, что вера во внешнего избавителя как психологическая защита по своей природе имеет определенную ущербность. Она не только не вполне контейнирует первичную тревогу, но и закономерно порождает дополнительную патологию, вера человека в то, что его жизнь контролируется внешними силами, связана с чувством бессилия, неполноценности, низким самоуважением. Тот, кто не полагается на себя или не верит в себя, соответственно ограничивает себя в приобретении информации и умений, в общении с другим он склонен стараться расположить их к себе. Легко понять, что низкая самооценка, тенденция самоуничижения, малое число умений, на владении которыми могло бы основываться переживание самоценности, неудовлетворительные межличностные отношения – все это подготавливает почву для психопатологии.
5. СМЕРТЬ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Путь от теории к практике непрост. В этой главе я проведу вас из башни метафизика в приемную практикующего психотерапевта и попытаюсь извлечь из вышеприведенных метафизических дискуссий о смерти то, что имеет отношение к повседневным проблемам терапии.
Для психотерапии реальность смерти значима в двух отношениях. Сознавание смерти может работать как «пограничная ситуация» и радикальным образом изменить взгляд на жизнь; кроме того, смерть является базовым источником тревоги. Я намерен поочередно обсудить использование обоих этих аспектов в терапевтических техниках.
СМЕРТЬ КАК ПОГРАНИЧНАЯ СИТУАЦИЯ
«Пограничная ситуация» это событие, некий чрезвычайный опыт, приводящий человека к конфронтации с его экзистенциальной «ситуацией» в мире. Конфронтация с личной смертью («моей смертью») – это ни с чем не сравнимая пограничная ситуация, способная вызвать значительное изменение стиля и характера жизни индивида в мире. «Физически смерть разрушает человека, но идея смерти может спасти его». Смерть действует как катализатор перехода из одного состояния бытия в другое, более высокое – из состояния, в котором мы задаемся вопросом о том, каковы вещи, в состояние потрясенности тем, что они есть. Сознавание смерти выводит нас из поглощенности тривиальным, придавая жизни глубину, остроту и совершенно иную перспективу.
Выше я приводил наглядные примеры из литературы и клинических историй, рассказывавшие о людях, которые после встречи со смертью претерпели радикальную личностную трансформацию. Пьер в «Войне и мире» Толстого и Иван Ильич в «Смерти Ивана Ильича» – яркие примеры «личностного изменения», или «личностного роста». Еще одна поразительная иллюстрация всеобщий любимец, чудесно преображенный персонаж по имени Оливер Скрудж. Многие из нас легко забывают, что трансформация Скруджа – это не просто естественный результат действия святочной теплоты, растопившей его ледяное самообладание. Скруджа изменило не что иное, как конфронтация с собственной смертью.
Диккенсовский Дух Будущего (Дух грядущего Рождества) применил мощную форму экзистенциальной шоковой терапии. Скруджу была дана возможность наблюдать собственную смерть, слушать, как члены общины обсуждают ее, а затем с легкостью оставляют эту тему, и лицезреть, как незнакомцы ссорятся из‑за его имущества, включая постельное белье и ночную сорочку. После этого Скрудж стал свидетелем собственных похорон и, наконец, в последней сцене, предшествующей его трансформации, преклонив колени на кладбище, внимательно осмотрел буквы своего имени, высеченного на надгробном камне.
Конфронтация со смертью как источник личностного изменения: механизм действия
Каким образом осознание смерти вызывает личностное изменение? Каков внутренний опыт человека, пришедшего к трансформации этим путем? Во второй главе представлены некоторые факты, свидетельствующие о роде и степени позитивных перемен, которые произошли с некоторыми смертельно больными раковыми пациентами.
Рак излечивает психоневроз. У одной пациентки, после того как она заболела раком, почти чудесным образом исчезла фобия, связанная с межличностными отношениями, ранее серьезно ограничивавшая ее жизненные возможности. В ответ на вопрос об этом исцелении она сказала: «Рак излечивает психоневроз». Она бросила эту фразу почти вскользь; в ней тем не менее содержится истина, которая заставляет задуматься: не печальная истина, что смерть устраняет жизненные огорчения вместе с самой жизнью, а оптимистическая истина, что осознание смерти создает богатый потенциал для решения жизненных проблем. Когда эту пациентку попросили рассказать о произошедшей в ней трансформации, она ответила, что все было просто: встретившись со своим страхом смерти и, как она чувствует, победив его – страх, перед которым вес остальные ее страхи казались ничтожными – она испытала сильное переживание личной силы.
Существование не может быть отложено. Сорокапятилетняя Ева пребывала в состоянии глубокой подавленности. У нее был рак яичников на поздней стадии, и она никак не могла решить, предпринять ли ей еще одну, последнюю поездку. Наш терапевтический процесс был в разгаре, когда она рассказала следующий сон:
"Была большая толпа людей. Это напоминало сцену из Сесил Б. де Милль. Я могу узнать среди них свою мать. Они все распевают: «Ты не можешь ехать, у тебя рак, ты больна». Пение все продолжается и продолжается. Потом я услышала своего покойного отца – его мягкий одобряющий голос: «Я знаю, что у тебя рак легких, как был у меня, но не сиди дома, не ешь куриный бульон в ожидании смерти, как это делал я. Поезжай в Африку – живи».
Отец Евы умер много лет назад от затяжного рака легких. В последний раз она видела его за несколько месяцев до смерти и печалилась не только о его потере, но и о том, как он умирал. Никто из членов семьи не решился сказать ему о том, что у него рак; образ сидения дома и поедания куриного бульона был вполне уместным: последние дни жизни отца и его смерть были тусклыми и не героичными. Сон Евы заключал в себе совет, оказавший на нее большое влияние. Ева обратила на него должное внимание и решительным образом изменила свою жизнь. Она прямо потребовала у своего врача полную информацию о своем раке и настояла на своем участии в принятии решений, касающихся ее лечения. Она восстановила старые отношения с друзьями; она разделила с другими свои страхи и помогла им разделить с ней свою печаль. И предприняла то последнее путешествие в Африку, которое, хотя и было оборвано болезнью, оставило ее удовлетворенной: она выпила чашу жизни до последнего глотка.
Все это суммируется очень просто: «Существование не может быть отложено». Многие больные раком говорят о том, что стали жить более полно в настоящем. Они уже не откладывают жизнь на будущее. Они стали понимать, что по‑настоящему жить возможно только в настоящем; по сути дела, настоящее нельзя оставить позади – оно всегда держится вровень с нами. Когда мы оглядываемся назад на свою жизнь – даже в самый последний момент, – мы находимся здесь, проживаем жизнь, живем. Настоящее, а не будущее, есть вечное время.
Я вспоминаю тридцатилетнюю пациентку, которую преследовал собственный образ в виде старой женщины, проводящей Рождество в одиночестве. Стремясь избежать подобной участи, она значительную часть своей взрослой жизни, как одержимая, занималась поиском спутника жизни и делала это настолько неистово, что отпугивала всех возможных поклонников. Она отвергала настоящее и посвятила жизнь новому обретению защищенности раннего детства. Невротик уничтожает настоящее, пытаясь найти прошлое в будущем. Это, разумеется, парадоксальная стратегия, и ниже я скажу об этом больше – о том, что наибольший ужас перед смертью испытывает человек, который не «живет». Казантзакис спросил: «Почему, подобно насытившемуся гостю, не покинуть пир жизни?»
Другой человек, университетский профессор, в результате серьезной схватки с раком принял решение наслаждаться будущим в непосредственном настоящем. С изумлением он обнаружил, что может взять и не делать то, чего не хочет делать. Оправившись от операции и вернувшись к работе, он резко изменил стиль своей жизни: отказался от тягостных административных обязанностей, погрузился в наиболее интересные направления своих исследований (достигнув на этом пути национальной известности) и – да будет это уроком всем нам – больше ни разу в жизни не посетил ни одного факультетского заседания.
Фрэн испытывала хроническую депрессию и в течение пятнадцати лет была заточена в крайне неудовлетворительном браке, с которым не могла заставить себя покончить. Последним препятствием к расставанию являлся огромный домашний аквариум ее мужа! Она не хотела менять место жительства, желая, чтобы ее дети сохранили своих друзей и остались в прежней школе, но не в состоянии была взять на себя ежедневный двухчасовой уход за рыбой. Перевозка же громадного аквариума потребовала бы невероятных расходов. Проблема казалась неразрешимой. (Ради таких пустяков мы жертвуем жизнью.)
Затем у Фрэн развился злокачественный рак костей, который заставил ее осознать простой факт, что эта ее жизнь – одна‑единственная. Она рассказывала, что внезапно поняла: стрелки часов движутся непрерывно, и никаких «тайм‑аутов», когда бы они останавливались, не бывает. Хотя болезнь была столь тяжелой, что потребность Фрэн и физической и экономической поддержке мужа реально была очень велика, она смогла принять мужественное решение разойтись с ним решение, с которым медлила целое десятилетие.
Смерть напоминает нам, что существование не может быть отложено. И что еще есть время для жизни. Если вам посчастливилось встретиться со своей смертью и ощутить жизнь как «возможность возможности» (Кьеркегор), и узнать смерть как «невозможность дальнейшей возможности» (Хайдеггер), – то вы осознаете, что, пока живы, вы обладаете возможностью – можете изменить свою жизнь до того, как наступит конец – но только до того. Если вы умрете сегодня ночью, то все завтрашние планы и перспективы погибнут, не успев родиться. Именно это узнал Эбенезер Скрудж. По сути дела, рисунок его трансформации определялся систематическим обращением плохих поступков предыдущего дня: он давал на чай певчему, которого проклял; жертвовал деньги сборщикам пожертвований, к которым отнесся с презрением; заключал в свои объятия племянника, над которым насмехался; давал уголь, пищу и деньги Крэтчиту, которым тиранически распоряжался.
Подсчитывайте свои сокровища. Еще один механизм изменений, активизируемый конфронтацией со смертью, хорошо иллюстрирует случай пациентки, у которой был рак, распространившийся на пищевод. Глотать стало трудно; постепенно она перешла на мягкую пищу, затем на пюре, и наконец на жидкости. Однажды в кафетерии, будучи не в состоянии проглотить процеженный мясной бульон, она оглядела других обедающих и подумала: «Понимают ли они, какое это счастье – возможность глотать? Думают ли они когда‑нибудь об этом?» Затем она приложила этот простой принцип к себе и отдала себе отчет в том, что она еще может делать и может испытывать: элементарные факты жизни, смену времен года, красоту ее естественного окружения; может видеть, слышать, осязать и любить. Ницше выразил этот принцип в чудесном отрывке:
«Из таких бездн, из такой тяжелой болезни ты возвращаешься вновь родившимся, сбросив все покровы, более нервным и злым, способным ощущать все тонкие оттенки радости и находить нежные слова для малейших проявлений хорошего, с обостренной остротой и азартом ощущений, с заново обретенной невинностью ликования, более наивного и одновременно в сотни раз более утонченного, чем когда‑либо прежде».
Подсчитывайте свои сокровища! Насколько редко извлекаем мы пользу из этого простого поучения? Обычно то, что мы действительно имеем, то, что мы действительно можем делать, ускользает из сферы нашего сознания, оттесняется мыслями о том, чего нам недостает или что мы не можем сделать, затмевается мелочными заботами, угрозами для устоев нашей репутации или гордости. Думая о смерти, мы становимся благодарными, способными ценить бесчисленные данности своего существования. Именно это имели в виду стоики, когда говорили: «Размышляй о смерти, если хочешь научиться жить». Императив, стало быть, состоит не в болезненной поглощенности мыслями о смерти, а в том, чтобы одновременно удерживать в фокусе восприятия фигуру и фон, благодаря чему бытие становится осознанным, а жизнь – более богатой. Сантаяна (Santayana) выражает это так: «На темном фоне, который создает смерть, нежные цвета жизни сверкают во всей их чистоте».
Раcтождествление. В повседневной клинической работе психотерапевт встречает индивидов, испытывающих сильную тревогу перед лицом событий, вроде бы такую тревогу не оправдывающих. Между тем тревога – это сигнал восприятия угрозы продолжению существования. Проблема невротика состоит в сомнениях по поводу собственной безопасности, что заставляет его далеко расширять свои защитные ограждения. Иными словами, невротик защищает не только ядро своего существа, то также множество атрибутов (работу, престиж, роль, тщеславие, сексуальные доблести, атлетические возможности). Многие люди испытывают чрезмерный стресс, когда под угрозой оказываются их карьера или какие‑либо другие атрибуты. Фактически они убеждены: «Я есть моя карьера», или «Я есть моя сексуальная привлекательность». Терапевт как бы говорит им: "Нет, вы – это не ваша карьера, вы – не ваше великолепное тело, вы – не ваша мать, или отец, или мудрый старец, или вечная кормилица. Вы – это вы сами, "я"*, ядро вашей сущности. Обведите его линией: другое, то, что остается снаружи, – это не вы; эти другие вещи могут исчезнуть, а вы по‑прежнему будете существовать".
* Здесь и далее self переводится как "я". – Прим. переводчика.
Увы, такие самоочевидные увещевания, как и все самоочевидные увещевания, редко бывают эффективными катализаторами изменений. Психотерапевты ищут способы увеличения действенности своего призыва. Один из таких способов я использовал как с группами раковых больных, так и в учебном процессе. Это структурированное упражнение по растождествлению.* Процедура проста и занимает примерно тридцать – сорок пять минут. Упражнение проводится в тихой, спокойной обстановке. Я прошу участников на отдельных карточках дать восемь важных для них ответов на вопрос: «Кто я?» Затем предлагаю им просмотреть свои восемь ответов и расположить их в порядке значимости и центральности: ближайшие к центру их существа ответы поместить вниз, более периферические для них – выше. Затем прошу сосредоточиться на самой верхней карточке и поразмышлять о том, как бы они себя чувствовали, отказавшись от этого атрибута. Через две‑три минуты (какой‑нибудь мягкий сигнал, такой как колокольчик, является наименее отвлекающим) прошу перейти к следующей карточке и так далее, пока они не избавятся от всех восьми атрибутов. Рекомендую вслед за тем помочь участникам вновь интегрировать эти качества, проделав всю процедуру в обратном направлении.
* Предложено мне Джеймсом Бьюдженталем.
Это простое упражнение вызывает сильнейшие эмоции. Однажды я провел через него триста человек, участвовавших в образовательной мастерской для взрослых; даже годы спустя участники спонтанно сообщали мне о том, сколь важным оно для них оказалось. Растождествление составляет существенный элемент системы психосинтеза Роберто Ассаджоли (Roberto Assagioli). Он пытается помочь индивиду достичь своего «центра чистого самосознания», предлагая ему представлять в воображении отсоединение от себя поочередно своего тела, эмоций, желаний и, наконец, интеллекта.
Индивид с хроническим заболеванием, хорошо справляющийся со своей ситуацией, зачастую спонтанно проходит через процесс растождествления. Одна пациентка, которую я хорошо помню, всегда тесно отождествляла себя со своей физической энергией и активностью. Рак постепенно ослабил ее настолько, что она уже не в состоянии была носить рюкзак, кататься на лыжах, совершать пешие походы. Долгое время она оплакивала эти потери. Спектр ее физической активности неуклонно уменьшался, но в конце концов ей удалось справиться со своими утратами. После месяцев терапии она смогла принять ограничения сказать «Я не могу это делать» без чувства личной ничтожности и ненужности. Затем она дала своей энергии другие, доступные ей формы выражения. Она поставила себе выполнимые конечные задачи: завершение личных и профессиональных неоконченных дел, выражение ранее невысказанных чувств по отношению к другим пациентам, друзьям, врачам и детям. Много позже она смогла сделать еще один шаг, имеющий фундаментальное значение, – растождествиться даже со своей энергией, со своим влиянием и осознать, что она существует отдельно от них, так же как и от всех остальных качеств.
Растождествление – это очевидный и древний механизм изменения: выход за пределы материальных и социальных оболочек давным‑давно нашел воплощение в аскетической традиции. Однако оно не является легко применимым в клинической практике. Сдвиг жизненной перспективы и возможность для индивида провести различие между сущностью и атрибутами, восстановив в правах первое и освободившись от второго, стимулируются сознаванием смерти.
СОЗНАВАНИЕ СМЕРТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ПСИХОТЕРАПИИ
Если мы, психотерапевты, соглашаемся с тем, что сознавание личной смерти может катализировать процесс личностных изменений, значит, наша задача – способствовать сознаванию смерти пациентом. Но как? Многие из приведенных мной примеров относятся к людям. находящимся в экстраординарной ситуации. А что делать психотерапевту при работе с обычным пациентом – не страдающим раком в терминальной стадии, не смотревшим в лица расстрельной команды, никогда не попадавшим в почти роковой переплет?
Несколько моих раковых пациентов задавали тот же вопрос. Говоря о своем росте и о том, чему они научились в конфронтации со смертью, они сетовали: «Как жаль, что для того чтобы узнать эти истины, нам пришлось дожидаться сегодняшнего дня, когда наши тела изрешетил рак!»
Существует много структурированных упражнений, которые терапевт может использовать для того, чтобы стимулировать конфронтацию со смертью. Некоторые из них интересны, и я кратко их опишу. Но самое важное, что я хочу сказать в этой связи, состоит в следующем: терапевту не обязательно обеспечивать опыт; ему нужно лишь помочь пациенту осознать этот опыт, которым проникнуто все вокруг него. Обычно мы отрицаем или селективно не замечаем то, что напоминает о нашей экзистенциальной ситуации. Задача терапевта обратить внимание на этот процесс, выискивая подобные напоминания, являющиеся, как я попытался показать, не врагами, а мощными союзниками на нашем пути к интеграции и зрелости.
Рассмотрим следующую иллюстративную виньетку. Сорокашестилетняя мать везет младшего из своих четверых детей в аэропорт, откуда он отправится в колледж. Последние двадцать шесть лет она воспитывала детей и мечтала о наступлении этого дня. Конец лишним обязанностям, беспрестанной жизни для других, приготовлению обедов и подбиранию одежды – лишь для того, чтобы новые грязные тарелки и беспорядок в комнате вскоре напомнили ей о тщетности ее усилий. Наконец она свободна.
Однако, сказав слова прощания, она внезапно начинает громко рыдать, а на пути домой ее тело пронизывают глубокие содрогания. «Это совершенно естественно», – думает она. Это просто печаль прощания с тем, кого так любишь. Но это и нечто большее. Дрожь не прекращается и вскоре переходит в настоящую тревогу. Что бы это могло быть? Она консультируется с терапевтом. Он ее успокаивает. Это самая обычная проблема: синдром «опустевшего гнезда». В течение стольких лет ее самоуважение основывалось на ее успешности в качестве матери и домохозяйки. И теперь вдруг она не находит способа подтвердить свою ценность. Разумеется, она в тревоге: организация и рутина ее жизни изменились, она лишилась своей жизненной роли и главного источника самоуважения. Постепенно, благодаря валиуму, поддерживающей терапии, тренингу уверенности в женской группе, нескольким курсам образования для взрослых, одному‑двум любовникам и добровольческой работе на неполную рабочую неделю глубокие содрогания сменяются мелкой дрожью и затем исчезают вовсе. Она возвращается к «преморбидному» уровню комфорта и адаптации.
Эта пациентка, несколько лет назад проходившая терапию у психиатра‑ординатора, была включена в исследовательский проект, посвященный исходу психотерапии. Результаты, ее лечения могут быть названы не иначе как превосходными: по всем критериям их оценки контрольным листам измерения симптома, оценке состояния центральной проблемы, самооценке – у нее произошло значительное улучшение. Даже сейчас, в ретроспективе, не вызывает сомнении, что терапевт выполнил свою задачу. Тем не менее, я смотрю на эту терапию так же, как на «упущенную встречу», как на случай неиспользованных терапевтических возможностей.
Я сравниваю эту пациентку с другой, моей недавней пациенткой, пришедшей ко мне в почти такой же жизненной ситуации. В ее терапии я стремился скорее нянчиться с этой глубинной дрожью, чем делать пациентку нечувствительной к ней. Пациентка переживала то, что Кьеркегор называл «творческой тревогой», и ее тревога стала нашим проводником в важные области. Действительно, у нее были проблемы самооценки, она действительно страдала от синдрома «опустевшего гнезда» и, кроме того, глубоко страдала от сильной амбивалентности по отношению к своему ребенку: она любила его, но в то же время обижалась на него и завидовала ему из‑за тех жизненных шансов, которых не было у нее самой (и разумеется, она чувствовала вину за эти «низменные» чувства).
Мы последовали за ее трепетом, и он привел нас в важные сферы и поставил перед фундаментальными проблемами. Несомненно, она могла найти способы заполнить свое время, но какое значение имел ее страх «опустевшего гнезда»? Она всегда желала свободы, но сейчас, получив ее, была от нее в ужасе. Почему?
Значение дрожи нам прояснил сон. Сын этой пациентки, который только что уехал в колледж, в средней школе был акробатом и жонглером. В ее сне была только она сама, держащая в руке 35‑миллиметровый фотослайд, изображающий ее жонглирующего сына. Слайд, однако, был особенным в том смысле, что он показывал одновременно множество движений ее сына, который жонглировал и проделывал акробатические номера. Ее ассоциации, связанные с этим сном, относились к теме времени. Слайд схватывал и организовывал время и движение. Он сохранял все живым, но делал все неподвижным. Он замораживал жизнь. «Время движется, – сказала она, – и у меня нет способа остановить его. Я не хотела, чтобы Джон вырастал. Я по‑настоящему дорожила этими годами, когда он был с нами. Но время движется независимо от того, нравится мне это или нет. Оно движется как для Джона, так и для меня. Понять это, по‑настоящему понять – ужасно».
Этот сон поместил в четкий фокус факт ее собственной смертности, и вместо того, чтобы кинуться заполнять жизнь отвлечениями, она научилась более полно, чем прежде, ценить время и жизнь и поражаться ей. Пациентка переместилась в сферу, которую Хайдеггер описывает как подлинное бытие; она удивлялась не тому, каковы вещи, а тому, что они есть. С моей точки зрения, терапия помогла второй пациентке больше, чем первой. Это невозможно показать с помощью обычных средств оценки результата терапии. На самом деле, возможно, вторая пациентка сохраняла переживание тревоги в большей степени, чем первая. Но тревога – это часть существования, и пока мы продолжаем расти и созидать, мы не можем быть свободными от нее. Однако такая ценностная ориентация вызывает много вопросов относительно роли терапевта. Не берет ли терапевт на себя слишком много? Разве пациент обращается к нему как к проводнику в мир экзистенциального сознания? Не сводятся ли высказывания большинства пациентов к незатейливому: «Мне плохо, помогите мне почувствовать себя лучше»? И если это так, то почему бы не прибегнуть к самым быстрым, самым эффективным средствам из находящихся в нашем распоряжении например, к транквилизаторам или бихевиоральной модификации состояния? Такие вопросы, возникающие в связи с любой формой терапии, основанной на самосознавании, не могут игнорироваться; они будут затрагиваться вновь и вновь на протяжении этой книги.
В ходе всякой терапии непременно случаются ситуации, которые, будучи чутко акцентированы терапевтом, позволяют увеличить сознавание пациентом экзистенциальных параметров его или ее проблем. Наиболее явные из этих ситуаций неуклонно напоминают о смертности и о необратимости времени. Смерть человека из близкого окружения всегда, если терапевт достаточно настойчив, может вызвать у пациента возрастание сознавания смерти. Горе имеет много компонентов – собственно утрата, амбивалентность и чувство вины, крушение жизненного плана. И все они должны тщательно прорабатываться в терапии. Но, как я уже подчеркнул выше, смерть другого человека также приближает нас к встрече с собственной смертью, а этот аспект работы горя обычно упускается. Некоторые психотерапевты могут считать, что понесший утрату человек и без того слишком подавлен, чтобы взваливать на него дополнительную задачу выяснения отношений с собственной смертностью. Я, однако, считаю, что это представление часто бывает ошибочным; некоторые люди в результате личной трагедии проходят через грандиозный личностный рост.
Смерть другого и экзистенциальное сознание. Для многих смерть близкого существа влечет интимнейшее осознание собственной смерти. Пол Ландсбург (Paul Landsburg) в связи со смертью любимого человека говорит следующее:
«Было наше „мы“ с умирающим. В этом „мы“ – все; особая власть, которой обладало это новое и совершенно личностное существо, вела меня к живому осознанию неизбежности моей собственной смерти… Моя общность с тем человеком как будто бы прервана, но до некоторой степени она есть я сам, и я чувствую смерть в самом сердце моего существования».
Джон Донн (John Donne) говорил о том же самом в своей знаменитой проповеди: «И потому не спрашивай никогда, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе».
Потеря родителя заставляет нас соприкоснуться с нашей собственной уязвимостью: если наши родители не смогли спасти себя, то кто спасет нас? Если родителей нет – уже никого нет между нами и могилой. Это мы стали теперь барьером между нашими детьми и смертью.
Переживания коллеги после смерти его отца иллюстрируют эту мысль. Он давно ожидал смерти отца и воспринял новость спокойно. Однако когда он сел в самолет, чтобы лететь домой на похороны, его охватила паника. Очень опытный путешественник, он внезапно потерял уверенность в безопасности взлета и приземления самолета – как если бы исчезла его защита от превратностей судьбы.
Потеря супруга часто пробуждает проблему фундаментальной изоляции; потеря значимого другого (иногда доминантного другого) усиливает наше сознание того факта, что как бы мы ни старались пройти через этот мир рука об руку с кем‑то, все равно остается базовое одиночество, с которым мы должны мириться. Никто не в силах умереть своей смертью с кем‑то или для кого‑то.
Терапевт, внимательный к ассоциациям и сновидениям переживающего утрату пациента, обнаружит красноречивые свидетельства его озабоченности собственной смертью.
Например, один пациент рассказал следующий кошмар, приснившийся ему ночью после того, как он узнал, что у его жены неоперабельный рак:
«Я жил в моем старом доме в __(Дом, принадлежавший семье в течение трех поколений.) Чудовище Франкенштейна преследовало меня по дому. Я был в ужасе. Дом ветхий, разрушающийся. Черепица осыпается, крыша течет. Вода текла всюду – сквозь мою мать. (Его мать умерла шесть месяцев назад.) Я боролся с ним. Я мог выбрать оружие. Одно оружие имело изогнутое лезвие с рукояткой и напоминало косу. Я полоснул его и сбросил с крыши. Оно лежало распростертое на мостовой. Потом оно встало и вновь начало преследовать меня по дому».
Первая ассоциация пациента, относящаяся к этому сну, была следующая: «Я знаю, что за моими плечами – сотня тысяч миль». Символичность сна не оставляла сомнений.
Приближающаяся смерть жены напоминала пациенту, что его собственная жизнь, подобно дому, разрушается; смерть неотвратимо преследует его, персонифицированная, как и в детстве, образом монстра, которого нельзя остановить.
Другому пациенту, Тиму, у жены которого был рак на терминальной стадии, приснился следующий сон в ночь после того, как его жену незадолго до смерти пришлось госпитализировать из‑за серьезных дыхательных проблем:
«Я только что вернулся из некой поездки и обнаружил, что меня вытеснили в какую‑то заднюю комнату. Кто‑то со мной расправился. Эта комната вся была заполнена мягкой мебелью, фанерой, пылью; все было покрыто проволочной сеткой. Выхода не было. Это напомнило мне пьесу Сартра. Я чувствовал удушье. Я не мог дышать, что‑то давило на меня. Я подобрал какую‑то грубо сколоченную фанерную коробку или ящик. Она ударилась о стену или об пол, и один угол у нее был разбит. Этот разбитый угол на самом деле застрял в моем уме. Он как бы сделал зарубку. Я решил обсудить это с самым большим начальником. Я пойду прямо в верхи и буду жаловаться. Я пойду к вице‑президенту. Затем я поднимался по очень элегантной лестнице с перилами из красного дерева и мраморными ступенями. Я был разгневан. Меня отодвинули в сторону. Они сделали это со мной. Потом я перестал понимать, кому мне следует жаловаться».
Ассоциации Тима по поводу этого сна ясно показывали, что надвигающаяся смерть жены подтолкнула его к конфронтации с собственной смертью. Выделяющийся образ из этого сна, «делающий зарубку» разбитый угол фанерного ящика, напомнил ему разбитый корпус его автомобиля после серьезной аварии, в которой мой пациент едва не погиб. Фанерный ящик заставил его подумать о простом гробе, который он должен будет заказать для жены (согласно похоронному ритуалу иудаизма). Во сне именно он оказывается в ситуации своей жены. Это он не может дышать. Это он отодвинут к сторону, пойман в ловушку, подмят чем‑то давящим на него. Основные аффекты сна – гнев и недоумение. Он чувствовал гнев из‑за того. что с ним происходит, но кому он мог адресовать жалобу? Он проснулся в состоянии глубокой растерянности по поводу того, к кому там, наверху, следовало бы обратиться.
В терапии этот сон открыл важные перспективы. Он открыл для пациента, находившегося до того в паническом состоянии, возможность сгруппировать свои чувства и работать осмысленным образом над каждой группой. Пациента захлестнула тревога смерти, с которой он пытался справиться, физически избегая жены и с помощью компульсивной сексуальности. Например, он по несколько раз в день мастурбировал в постели рядом с женой (я кратко описывал случай этого пациента в главе 4). После того, как мы открыто поработали над его тревогой по поводу собственной смерти, он в конце концов смог оставаться рядом с женой, успокаивать ее, обладая ею, и благодаря этому в значительной мере избежал чувства вины после ее смерти.
После смерти жены терапия Тима фокусировалась как на утрате, так и на его собственной экзистенциальной ситуации, увидеть которую более ясно ему помогла смерть жены. Например, он всегда был ориентирован на успех, но теперь стал спрашивать: «Для кого я работаю?» «Кто увидит это?» Постепенно Тиму начало открываться то, что закрывали от него постоянный уход за женой и его одержимость сексом его изоляция и смертность. После смерти жены он вел беспорядочную половую жизнь, но постепенно сексуальная охота потеряла для него свою привлекательность, и он стал задаваться вопросом, что же он хочет делать в этой жизни для себя самого. Так начался невероятно плодотворный период терапии; в течение последующих месяцев Тим прошел через значительные личностные изменения.
Потеря сына или дочери – самая тяжелая и горькая утрата. Мы одновременно оплакиваем свое дитя и себя самих. В такой момент мы чувствуем, что жизнь нанесла нам удары сразу со всех сторон. Родители вначале проклинают вселенскую несправедливость, но вскоре начинают понимать: то, что казалось им несправедливостью, на самом деле – космическое безразличие. Они также получают свидетельство ограниченности своей власти: никогда прежде у них не было большей мотивации к действию и в то же время они беспомощны, они не могут уберечь беззащитного ребенка. Как за днем следует ночь, так за этим уроком следует другой горький урок: и мы сами, в свою очередь, не будем защищены.
Психиатрическая литература, посвященная горю, не акцентирует эту динамику, сосредоточиваясь вместо этого на чувстве вины (ассоциированной, как считается, с неосознаваемой агрессией), переживаемом родителями из‑за смерти ребенка. Ричард Гарднер эмпирически исследовал родительскую утрату, систематически интервьюируя и тестируя большую выборку родителей, дети которых страдали смертельной болезнью. Он подтвердил, что многие родители испытывали значительное чувство вины; однако, по его данным, вина в четыре раза чаще является попыткой родителя смягчить свою экзистенциальную тревогу, «контролируя неконтролируемое», чем обусловливается «неосознаваемой агрессией». Ведь если мы виним себя за то, что должны были сделать нечто и не сделали, – значит, что‑то могло быть сделано. Это гораздо более утешительная ситуация, чем суровые экзистенциальные факты жизни.
Потеря ребенка заключает в себе еще одно зловещее послание для родителей. Она сигнализирует о крушении их основного предприятия по достижению бессмертия: их не будут помнить, их семя не укоренится в будущем.
Вехи. Все, что ставит под сомнение устойчивое мироощущение пациента, может помочь терапевту раздвинуть его защиты и дать ему увидеть экзистенциальную подкладку жизни. Хайдеггер особо подчеркивают, что мы отдаем себе отчет в работе механизма лишь тогда, когда он внезапно ломается". Только после того, как защиты от тревоги смерти устранены, мы начинаем полностью осознавать, от чего они нас заслоняли. Поэтому терапевт при желании всегда может отыскать экзистенциальную тревогу у пациента, в жизни которого происходит значимое событие, особенно если оно необратимо. Ближайшие примеры таких событий – расставание и развод супругов. Связанные с ними переживания настолько болезненны, что терапевты часто совершают ошибку, сосредоточиваясь исключительно на облегчении страдания и упуская открывающийся шанс для глубинной терапевтической работы.
Для некоторых пациентов экстремальной ситуацией является скорее принятие на себя обязательств в отношениях, чем их прекращение. Обязательства привносят оттенок финальности, и многие люди не могут решиться на постоянные отношения, потому для них они означают «это все» – больше никаких новых возможностей, никаких восхитительных видений длящейся власти. В главе 7 я буду говорить о том, что необратимые решения пробуждают экзистенциальную треногу именно потому, что они исключают другие возможности и конфронтируют индивида с «невозможностью дальнейшей возможности».
Переход к психологической зрелости нередко особенно труден. В возрасте около двадцати лет у многих людей возникает острая тревога по поводу смерти. Более того, описан клинический синдром юношеского возраста, названный «ужасом перед жизнью» (terror of life). Он заключается в выраженной ипохондрии и поглощенности мыслями о старении тела, о быстром течении времени и неизбежности смерти.
Терапевты, которым приходилось лечить ординаторов в клинике (это лишь один пример), иногда отмечают значительную экзистенциальную тревогу у тридцатилетних, завершивших, наконец, обучение и впервые сталкивающихся с необходимостью оставить студенческое самосознание и взглянуть на мир глазами взрослого. Я давно сделал наблюдение, что психиатрических ординаторов незадолго до окончания обучения на некоторое время охватывает серьезное смятение, корни которого находятся значительно глубже таких актуальных забот, как финансы, выбор места приема и формирование системы привлечения пациентов для частной практики.
Жак (Jaques) в своем замечательном эссе «Смерть и кризис середины жизни» подчеркивает, что мысли о смерти особенно терзают человека в середине жизни. В этот период нас порой преследует зачастую неосознаваемая идея, что мы «перестали расти и начинаем стареть». В первую половину жизни «добиваясь независимой зрелости», мы приходим ко времени расцвета (Юнг называл сорокалетний возраст «полуднем жизни») лишь для того, чтобы остро осознать ожидающую нас смерть. Один трицатишестилетний пациент, в процессе своего анализа остро осознавший смерть, изложил это следующим образом: «До сих пор жизнь казалась бесконечным подъемом с одним лишь дальним видом горизонта впереди. А теперь вдруг я словно достиг гребня горного хребта, и впереди простирается уходящий вниз склон с видимым концом дороги правда, достаточно далеко, – где зримо присутствует смерть». Жак отметил трудность преодоления многослойной защиты отрицания смерти и привел пример случая, когда он помог пациенту осознать смерть, анализируя его неспособность оплакивать смерть друзей.
Угроза карьере или уход на пенсию (прежде всего для тех, кто верит в жизнь как непрерывно восходящую спираль) может быть особо мощным стимулом для усиления сознавания смерти. Недавнее исследование лиц, в середине жизни радикально поменявших свою профессию, обнаружило, что многие из них решение «выпасть» из рутины или упростить свою жизнь приняли в результате столкновения со своей экзистенциальной ситуацией.
Терапевт может воспользоваться такими обычными жизненными вехами, как дни рождения и юбилеи. Эти знаки течения времени вызывают глубинную боль (побуждающую обычно к формированию реакции – радостному празднованию). Иногда поводом к росту экзистенциального сознания бывают повседневные свидетельства старения. Даже внимательный взгляд в зеркало может открыть проблему. Одна пациентка рассказала мне, что говорит себе так: «Я – маленький гном. Внутри я – маленькая Изабелла, но снаружи – старая дама. Мне – шестнадцать, переходящие в шестьдесят. Я отлично знаю, что другим полагается стареть, но почему‑то никогда не думала, что это приключится со мной». Появление признаков старости, таких как потеря выносливости, старческие бляшки на коже, уменьшение подвижности суставов, морщины, облысение и даже просто осознание, что получаешь удовольствие от «стариковских» занятий – смотреть, гулять, безмятежно проводить время, – может послужить стимулом к осознанию смерти. То же самое относится к рассматриванию собственных старых фотографий; к обнаружению своего внешнего сходства с родителями в возрасте, когда они уже воспринимались как старики; к встрече с друзьями после долгого перерыва, когда оказывается, что они так постарели. Терапевт, который внимательно слушает, сможет использовать любое из этих вполне обыкновенных событий. Он может также тактично спровоцировать подобную ситуацию. Фрейд, как я уже рассказал в главе 1, безо всяких угрызений совести дал фройляйн Элизабет задание поразмышлять на могиле сестры.
Тщательный мониторинг сновидений и фантазий неизменно дает материал для усиления сознания смерти. Всякий тревожный сон – это сон о смерти; исследование пугающих фантазий о вламывающихся в дом неизвестных агрессорах приводит нас к страху смерти. Обсуждение вызвавших беспокойство телевизионных шоу, кинофильмов или книг также дает существенный материал.
Тяжелая болезнь – столь явный катализатор, что ни один терапевт не оставит эту золотую жилу неразработанной. Нойес (Noyes) исследовал две сотни пациентов, которые в результате внезапного заболевания или несчастного случая едва не умерли, и обнаружил, что многие из них (25 процентов) испытали новое для себя сильнейшее переживание всемогущества и близости смерти. Один из его испытуемых заметил: «Я привык считать, что смерть никогда не наступит, а если и наступит, мне будет к тому времени восемьдесят лет. Но теперь я понимаю, что она может случиться в любой момент, в любом месте, независимо от того, как вы проводите свою жизнь. Люди имеют очень ограниченное восприятие смерти, пока не столкнутся с ней лицом к лицу». Другой описал свое сознавание смерти в следующих понятиях: «Я увидел смерть в ткани жизни и подтвердил это сознанием. Я не боюсь жить, так как чувствую, что в процессе моего бытия смерть играет свою роль». Несколько испытуемых Нойеса сообщили об усилении ужаса смерти и переживания своей уязвимости, но для огромного большинства возросшее осознание смерти явилось позитивным опытом, приведшим к более интенсивному ощущению ценности жизни и конструктивной переоценке жизненных приоритетов.
Искусственные средства усиления сознавания смерти. Нередко терапевты обнаруживают, что естественные напоминания о присутствии смерти при всем их обилии недостаточно мощны, чтобы преодолеть постоянно активное отрицание пациента. Поэтому многие терапевты искали наглядные пути приведения пациентов к встрече с фактом смерти. В прошлом умышленные и неумышленные напоминания о смерти были распространены намного больше, чем теперь. В келье средневекового монаха обыкновенно помещался человеческий череп – для напоминания о мимолетности жизни. Джон Донн (John Donne), британский поэт и священнослужитель XVII века, проповедуя своей пастве «Обратите свой взор в вечность», облачался в похоронный саван; еще ранее Монтень в великолепном эссе «Философствовать значит учиться умирать» сумел многое сказать на тему намеренных напоминаний о нашей смертности.
"…Мы разбиваем свои кладбища рядом с церквями и в самых населенных частях города, чтобы (говорит Ликург) приучить простых людей, женщин и детей, не впадать в панику при виде мертвого человека и чтобы постоянное лицезрение костей, надгробий и похоронных процессий напоминало нам о нашем положении… Некогда считалось, что кровопролитие придает пиршествам дополнительную прелесть/ Присоединяя к пище зрелище вооруженных бойцов/ И гладиаторы падали среди чаш, и прямо на столы/ Обильно проливалась их кровь… И у египтян был обычай, согласно которому после празднества перед гостями появлялся мужчина, показывавший им изображение смерти и возглашавший. «Пейте и веселитесь, ибо когда умрете, станете как это».
Поэтому я приучился поддерживать в себе постоянное присутствие смерти, не только в воображении, но и в языке. Ничто я не рассматриваю с такой страстью, как смерти людей, какие слова, какой вид, какое поведение находились у них для этого времени; нет ничего в историях, что я отмечал бы столь внимательно. Изобилие моих иллюстративных примеров свидетельствует об этом; воистину, я питаю особую слабость к этой теме. Будь я создателем книг, я бы составил снабженный комментариями реестр различных смертей. Тот должен учить людей жить, кто учит их умирать".
Некоторые терапевты, использовавшие ЛСД в качестве подспорья для психотерапии, полагают, что важный механизм действия ЛСД обусловлен приведением пациента в драматическую конфронтацию со смертью. Другие терапевты высказывали мысль, что эффект шоковой терапии (электрошоковой, метразоловой, инсулиновой) связан с переживанием смерти и нового рождения.
Некоторые ведущие групп встреч применяли своего рода «экзистенциальную шоковую» терапию, предлагая каждому члену группы написать эпитафию или некролог самому себе. Мастерские под названием «Место назначения», проводимые для страдающих тревогой, усталостью и раздражением административных служащих в бизнесе, обычно начинают с такого структурированного упражнения:
«На пустом листе бумаги начертите отрезок. Один его конец представляет ваше рождение, другой – вашу смерть. Поставьте крестик на том месте, где вы находитесь сейчас. Поразмышляйте над этим примерно пять минут».
Это короткое простое упражнение почти всегда вызывает мощные и глубокие реакции.
В больших группах для усиления сознавания смертности используется упражнение «вызов».* Группу разделяют на тройки и дают задание беседовать. Имена участников группы пишутся на отдельных листках бумаги; листки помещаются в сосуд, затем их вслепую вынимают по одному и выкликают написанные на них имена. Тот, чье имя названо, прерывает разговор и поворачивается спиной к остальным. Многие участники сообщают, что в результате этого упражнения у них возросло сознавание случайности и хрупкости существования.
* Предложено Джеймсом Бьюдженталем.
Некоторые терапевты и ведущие групп встреч для усиления осознания смерти использовали технику направленного фантазирования. Людей просили представить себе свою смерть. «Где она произойдет?» «Когда?» «Как?» «Опишите подробную фантазию на эту тему». «Вообразите свои похороны». Профессор философии описывает ряд упражнений, используемых им в учебной аудитории для усиления сознавания смерти. Например, студентам предлагается написать себе некролог (свои «реальный» и «идеальный» некрологи), зафиксировать свои эмоциональные реакции на трагическую историю смерти шестилетнего сироты и написать сценарий собственной смерти.
Групповой опыт переживания «жизненного цикла», предложенный Эллиотом Аронсоном и Энн Дрейфус на летней программе Национальной тренинговой лаборатории (National Training Laborarory) в Бетеле, штат Мэн, помогал участникам сфокусироваться на основных вопросах каждой стадии жизни. В отрезок времени, посвященный старости и смерти, они целые дни жили жизнью стариков. Им была дана инструкция ходить и одеваться как старые люди, припудрить волосы и стараться играть конкретных хорошо знакомых им стариков. Они посещали местное кладбище. В одиночестве гуляли по лесу, представляя в своем воображении, как они теряют сознание, умирают, как их обнаруживают друзья и как их хоронят.
Сообщалось о проведении нескольких мастерских, посвященных сознаванию смерти, где применялись структурированные упражнения, направленные на конфронтирование участников с их смертью. Например, У.М.Уэлан (W.M. Whelan) описывает мастерскую, состоящую из одной восьмичасовой встречи группы из восьми человек, со следующей программой: 1) Участники заполняют вопросник, посвященный тревоге смерти, и обсуждают вызывающие тревогу темы. 2) Участники, находясь в состоянии глубокой мышечной релаксации, очень подробно, с охватом всех пяти чувств, воображают свою собственную (легкую) смерть. 3)Участникам предлагается составить список своих ценностей и затем представить себе ситуацию, связанную с тем, что убежище от радиоактивных осадков может спасти жизнь лишь ограниченному числу людей; каждый член группы, исходя из своей иерархии ценностей, должен аргументировать, почему он должен быть спасен (по словам авторов, это упражнение было придумано с целью воссоздания стадии сделки по Кюблер‑Росс). 4) Участникам группы, вновь приведенным в состояние глубокой мышечной релаксации. предлагают вообразить себе свою смертельную болезнь, возникающую в результате неспособность к коммуникации и, наконец, свои похороны.
Общение с умирающими. Какими бы волнующими ни были многие из этих упражнении, они все же остаются игрой воображения. Мы можем быть захвачены магией такого упражнения в течение некоторого времени, но работа отрицания включается быстро – и вот мы уже напоминаем себе о том, что пока еще существуем, а сейчас просто наблюдаем эти переживания. Стойкость и вездесущность отрицания. направленного на ослабление страха, явились причиной того, что несколько лет назад я начал заниматься терапией людей, страдающих смертельными заболеваниями, которые постоянно испытывают экстремальные переживания и не могут отрицать происходящее с ними Я надеялся, что не только окажусь полезным этим пациентам, но также смогу применить то, чему научился в терапии физически здоровых индивидов. (Сформулировать это предложение было непросто, так как по сути данного подхода смерть является частью жизни с самого ее начала. Впоследствии я буду пользоваться выражением «обычная психотерапия» или, может быть, предпочтительно выражением «психотерапия насущно не умирающих».)
Сессии групповой терапии с терминальными пациентами часто бывают ярким событием, пробуждающим значительный аффект и активный обмен жизненной мудростью между участниками. У многих из этих пациентов есть чувство, что они немало узнали о жизни, но блокированы в своих попытках быть полезными другим. Одна пациентка сказала об этом так: «Мне кажется, что я многому могла бы научить, но мои ученики не станут слушать». Я стал искать способы открыть «обычным» пациентам мудрость и силу умирающих. Ниже я опишу весьма ограниченный опыт применения двух различных подходов: 1) приглашение обычных психотерапевтических пациентов на встречи группы терминально больных в качестве наблюдателей: 2) включение пациента, страдающего раком на терминальной стадии, в обычную психотерапевтическую группу.
Обычные психотерапевтические пациенты как наблюдатели в группе терминально больных. Одной из пациенток, участвовавших в качестве наблюдателей в группе терминально больных, была Карен, о которой я рассказывал в главе 4. Основной психодинамический конфликт Карен был связан с ее всепоглощающим поиском значимого другого – конечного спасителя, – принявшим форму психического и сексуального мазохизма. При необходимости Карен была готова к самоограничению и причинению себе страдания ради привлечения внимания и протекции некой «высшей» фигуры. Групповая встреча, которую ей пришлось наблюдать, была особенной. Одна пациентка. Ева, сообщила группе о своем рецидиве рака, о котором она только что узнала. Она рассказала, что в это утро сделала то, что долго откладывала: написала детям письмо с инструкциями о том, как разделить всякие памятные мелочи. Помещая письмо в свой депозитный банковский сейф, она понимала как никогда прежде ясно, что ее действительно не станет. Я уже рассказывал в главе 4 о том, что она поняла: когда ее дети будут читать это письмо, ее не будет здесь, чтобы наблюдать или реагировать. Она сказала на группе о том, что лучше бы ей было проделать работу над отношением к смерти между двадцатью и тридцатью годами, чем ждать до теперешнего момента. Однажды, когда умерла одна из ее учительниц (Ева была директором школы), она, вместо того чтобы скрыть смерть от школьников, организовала поминальную службу и открыто обсуждала с детьми тему смерти – смерть растений, животных, домашних зверей и смерть людей. Теперь она поняла, как была тогда права. Другие члены группы также поделились своими моментами полного осознания собственной смерти, и некоторые говорили о том, как это осознание послужило их росту.
Интересная дискуссия произошла в связи с рассказом одной из участниц о соседке, которая была совершенно здорова и вдруг внезапно умерла ночью. «Это идеальная смерть», заявила она. Другая участница не согласилась с ней, и представила убедительные аргументы в пользу того, что это неудачный вариант смерти: умершая женщина не имела возможности привести в порядок свои дела, завершить незавершенное, подготовить мужа и детей к своей смерти; наконец, бережно ценить оставшееся время жизни, как это научились делать некоторые члены группы. «Все равно, фыркнула первая, – я бы хотела умереть именно так. Я всегда любила сюрпризы!»
Встреча, которую наблюдала Карен, вызвала у нее сильную реакцию. Непосредственно после этого она пришла ко многим глубинным инсайтам относительно себя, описанным в главе 4. Например, она поняла, что из‑за страха смерти пожертвовала многим в своей жизни. Она так боялась смерти, что всю свою жизнь подчинила поиску конечного спасителя. Именно поэтому она в детстве притворялась больной, а будучи взрослой женщиной, оставалась больной и неблагополучной, чтобы не потерять своего терапевта. Наблюдая групповую встречу, она с ужасом осознала свою готовность болеть раком, лишь бы быть в этой группе и сидеть рядом со мной, – может быть, даже держать меня за руку (группа завершалась периодом медитации, когда все держались за руки). Когда я указал на очевидную вещь, – а именно, на то, что вечных отношений не существует и что я, так же, как она, умру, – Карен ответила, что она бы нисколько не чувствовала себя одинокой, если бы могла умереть у меня на руках. Появление и дальнейшая терапевтическая проработка этого материала помогли Карен перейти на новый этап терапии – к рассмотрению вопроса о ее завершении, который она прежде не была готова обсуждать.
Другая обычная пациентка, наблюдавшая эту группу, Сьюзен, жена видного ученого, который, когда ей было пятьдесят, подал иск о разводе. В браке она вела «опосредованное» существование: обслуживала мужа и грелась в лучах его успеха. Такой жизненный стереотип, нередкий в наши дни среди жен успешных мужей, имел неизбежные трагические последствия. Во‑первых, Сьюзен не проживала свою жизнь: стремясь упрочить отношения со значимым другим, она выпустила из поля зрения саму себя – потеряла из виду свои желания, права, удовольствия. Во‑вторых, пожертвовав собственными устремлениями, интересами, желаниями и спонтанностью, она стала менее вдохновляющим партнером и значительно более вероятным кандидатом на развод.
В нашей работе Сьюзен прошла через стадию глубокой депрессии и постепенно обратилась к своим активным чувствам, в отличие от реактивных, которыми всегда себя ограничивала. Она почувствовала свою агрессию – глубокую, сильную, полную жизни; почувствовала свое сожаление – не о потере мужа, а о потере себя на все эти годы; почувствовала себя оскорбленной всеми ограничениями, на которые она соглашалась. (Например, поскольку мужу были необходимы оптимальные условия для работы, в то время, когда он находился дома, ей не позволялось смотреть телевизор, говорить по телефону, работать в саду – его кабинет выходил в сад, и ее присутствие отвлекало его.) Сожаление о большой части жизни, растраченной таким образом, грозило раздавить Сьюзен, и задачей терапии являлось дать ей возможность наполнить остаток жизни новой энергией. После двух месяцев терапии она стала наблюдателем насыщенной и мучительной встречи «раковой» группы. Этот опыт затронул ее, и непосредственно вслед за тем она погрузилась в продуктивную терапевтическую работу, в конечном счете позволившую ей увидеть свой развод как спасение, а не как катастрофу. После терапии она переехала в другой город и несколько месяцев спустя написала мне отчетное письмо, и котором говорилось:
"Прежде всего, я подумала, что эти женщины, больные раком, не нуждаются в напоминаниях о неизбежности смерти, что осознание смерти помогает им видеть вещи и события в их подлинных пропорциях и корректирует наше обычно плохое чувство времени. Жизнь впереди может быть очень коротка. Жизнь драгоценна, не растрачивайте ее! Вкладывайте в каждый день как можно больше того, что вы цените! Пересмотрите свои ценности! Проверьте свои приоритеты! Не откладывайте! Делайте!
Что касается меня, то я растрачивала время впустую. В прошлом я то и дело остро ощущала, что я лишь зритель или дублер, который смотрит пьесу жизни из‑за кулис, но постоянно надеется и верит, что в один прекрасный день сам окажется на сцене. Конечно, были и моменты интенсивной жизни, но чаще жизнь воспринималась лишь как «репетиция» настоящей жизни, ожидающей впереди. А если смерть придет раньше, чем начнется «настоящая» жизнь? Трагично было бы осознать тогда, когда уже слишком поздно, что ты едва ли жила вообще".
Включение в обычную психотерапевтическую группу пациента, находящегося перед лицом смерти. «Смерть напоминает определенный тип лектора, – писал романист Джон Фаулз (John Fowles). – Вы не услышите практически ничего, пока не сядете в первый ряд». Некоторое время тому назад я попробовал посадить в первый ряд семерых членов терапевтической группы (все они были обычными пациентами), включив в группу Чарльза, – пациента, неизлечимо больного раком.
По этому эксперименту существует много данных. После каждой встречи я писал детальное резюме – как разговорного потока, так и самого процесса – и отправлял его по почте участникам группы (метод, который я использовал в группах многие годы). Кроме того, поскольку каждую групповую встречу наблюдали из‑за одностороннего зеркала и затем подробно анализировали десять психиатрических ординаторов, эта группа стала предметом массированного изучения. На основе всех наблюдений и записей я выбрал для обсуждения некоторые из основных характеристик группы, проявившихся в первые двенадцать месяцев после присоединения к ней Чарльза.
Группа включала приходящих (не стационированных) пациентов и проходила еженедельно в течение полутора часов. Это была открытая группа: по мере того, как состояние участников улучшалось и они покидали группу, на их место приходили другие. К моменту появления Чарльза двое членов группы провели в ней уже два года, а четверо остальных посещали ее различные периоды времени – от трех до восемнадцати месяцев. Возраст участников колебался от двадцати семи до пятидесяти лет. Типы психопатологии в целом можно было отнести к невротическим или характерологическим, хотя у двоих членов присутствовали пограничные черты.
Чарльзу было тридцать восемь лет; он работал зубным врачом и был разведен. За три месяца до обращения ко мне он узнал, что болен формой рака, не поддающейся ни терапевтическому, ни хирургическому лечению. На нашем первичном интервью он подчеркнул, что не ощущает потребности в помощи для сосуществования со своим раком. Он провел много дней в медицинских библиотеках в поисках информации о ходе, лечении и прогнозе своего рака. Он принес с собой график предполагаемого клинического течения своего заболевания вместе с выводом, что в его распоряжении осталось от полутора до трех лет хорошей, полезной жизни, вслед за которым наступит быстрый, в течение года, спад. Я помню два своих сильных впечатления во время этого интервью. Во‑первых, я был изумлен отсутствием эмоций. Чарльз казался отстраненным, как если был говорил о ком‑то постороннем, которому выпало несчастье подцепить редкую болезнь. Во‑вторых, хотя его изоляция от собственных чувств покоробила меня, я не мог не заметить, что в данном случае это его свойство отлично ему служило. Чарльз подчеркнул, что со своим страхом смерти сладит сам, но желал помощи в том, чтобы извлечь как можно больше из оставшейся ему жизни. Рак побудил его произвести ревизию удовольствий, получаемых им в жизни, и он обнаружил, что существенных удовлетворении помимо работы у него набирается немного. Он особенно хотел помощи в том, чтобы улучшить качество отношений с другими людьми. Он чувствовал себя отчужденным от других; ему недоставало личностной близости, которой, как он видел, имеют счастье располагать столь многие. Его отношения с женщиной, с которой он жил в течение трех лет, были очень напряженными, и он отчаянно желал научиться выражать и получать любовь, существовавшую между ними лишь подобно куколке в коконе.
В течение некоторого времени я старался найти больного раком, которого можно было бы ввести в обычную психотерапевтическую группу, и Чарльз показался мне идеальной кандидатурой. Он искал помощи в тех самых сферах, где терапевтическая группа может быть особенно полезной; кроме того, я предположил, что и Чарльз будет невероятно полезен другим членам группы. Было очевидно, что Чарльзу непривычно просить помощи: его запрос, неуклюжий и косноязычный, но в то же время неотложный и искренний, не допускал отказа.
Терапия семи человек, связанных между собой хитросплетениями терапевтической группы, весьма сложна; в течение последующих двенадцати месяцев возникали, обсуждались и порой прорабатывались удивительно замысловатые ряды проблем меж– и внутриличностного характера. Конечно же, я не в состоянии описать все это; я предпочту сосредоточить внимание на Чарльзе и на взаимном влиянии его и остальных членов группы.
Опережая самого себя, хочу заявить: присутствие человека, находящегося перед лицом смерти, не оказало на терапевтическую группу подавляющего действия. Атмосфера группы не стала болезненной, эмоциональный климат не затемнился, взгляд не стал суженным или фаталистичным. Чарльзу работа в группе дала многое; с другой стороны, его ситуация углубила уровень обсуждения для каждого из остальных членов. Группа не стала монотонной – затрагивался все тот же широкий спектр жизненных вопросов. Следует отметить, что были периоды господства массового отрицания, когда на протяжении целых недель рак Чарльза был почти забыт.
Момент самораскрытия является весьма существенным в психотерапии – в группе оно не менее важно, чем в индивидуальной терапии. В то же время важно, чтобы члены группы не воспринимали ее как принудительную исповедальню. Поэтому на ориентирующей сессии с Чарльзом перед его включением в группу я не преминул пояснить ему (так же, как поясняю всем новым членам): чтобы получить помощь от группы, он должен быть совершенно честен относительно своего физического состояния и психологических забот, но проявлять честность следует в приемлемом для него темпе. Соответственно, Чарльз посещал группу десять недель, прежде чем сообщил ее участникам о своем раке. Смотря ретроспективно, можно сказать, что его решение умолчать об этом на первых порах было мудрым. Группа всегда воспринимала Чарльза не как «ракового больного», а как человека, у которого рак.
Одна из базовых аксиом групповой психотерапии общения состоит в том, что для каждого из ее членов группа становится социальным микрокосмом. Каждый из них рано или поздно начинает взаимодействовать с другими членами группы так же, как с людьми вне группы. Таким образом, каждый создает себе характерную социальную нишу. Это быстро произошло и с Чарльзом. В течение первых нескольких встреч, которые он посетил, участники группы заметили, что многие их утверждения встречали у него либо равнодушие, либо критическое и оценочное отношение. Постепенно они поняли, что он изолирован, ему трудно сближаться с людьми, он не может ни переживать, ни выражать свои чувства и критичен по отношению к себе.
Особенное нетерпение и чувство превосходства он проявлял по отношению к женщинам в группе. Он воспринимал их как «надоедливых», «ребячливых» или же «несерьезных», и их мнение значило для него немного. С одной из женщин он был нетерпелив из‑за недостаточной логичности ее мышления и обычно отвергал ее интуитивные комментарии как нечто вроде «помехи» или «шума» на линии связи. Однажды, когда трое остальных мужчин группы отсутствовали, Чарльз почти ничего не говорил, считая ниже своего достоинства участвовать в целиком женской группе. Для него было важно признать, понять и разрешить свои установки по отношению к женщинам группы – это помогло бы ему понять определенные фундаментальные источники конфликта между ним и женщиной, с которой он жил.
Хотя эти проблемы играли существенную роль в межличностном конфликте Чарльза и выводили на темы, над которыми он хотел работать, в группе, тем не менее, сохранялось немалое замешательство на его счет. Периодически в течение первых нескольких групповых встреч, происходивших в присутствии Чарльза, участники отмечали, что они не знают его по‑настоящему, что он кажется им закрытым, неестественным, отчужденным. (Еще одна аксиома групповой терапии состоит в том, что у члена группы, скрывающего что‑то важное, возникает тенденция общей скованности. Человек, имеющий секрет, не только утаивает сам секрет, но также становится осторожен при обсуждении всех тем, которые могут так или иначе к нему привести.) В конце концов на десятой сессии Чарльз, благодаря поддержке участников группы и терапевтов, решился больше открыться и рассказал о своем раке примерно в такой же манере, как во время наших индивидуальных сессий: отстранение, деловито, со множеством теоретических деталей.
Участники группы отреагировали на откровения Чарльза по‑разному. Несколько человек сказали о его мужестве и о том, какой образец он им дал. На одного из них особенное впечатление произвели слова Чарльза о его цели, стремлении получить как можно больше от оставшейся ему жизни. Этот пациент, Дэйв, осознал, насколько он откладывает свою жизнь на будущее и мало наслаждается настоящим.
У двух участников реакции были тяжелые и неадекватные. Одна из них, Лина (о которой я кратко писал в главе 4), потеряла обоих родителей в раннем возрасте, и с тех пор у нее сохранился ужас перед смертью. Она искала защиты от конечного спасителя и оставалась пассивной, зависимой, ребячливой. Неудивительно, что Лина была испугана, а ее реакция оказалась агрессивной и причудливой: она решила, что у Чарльза тот же тип рака, который явился причиной смерти ее матери и самым неуместным образом, с мрачными деталями принялась описывать группе физическую деградацию, происходившую с ее матерью. Другая пациентка, сорокалетняя Сильвия, испытывавшая сильную тревогу смерти, немедленно загорелась гневом на пассивность Чарльза перед лицом смерти. Она ругала его за то, что он не обращался к иным возможным источникам помощи: к исцеляющим с помощью молитвы, к филиппинским психохирургам, к метавитаминам и т.д. Когда кто‑то из членов группы встал на защиту Чарльза, возник горячий диспут. Сильвию так испугал рак Чарльза, что она попыталась затеять конфликт в надежде под этим предлогом выйти из группы. Реакция Сильвии на Чарльза в течение года продолжала оставаться бурной. Длительный контакт с ним пробудил в ней сильнейшую тревогу, которая привела к краткой декомпенсации, но в конце концов здоровым образом разрешилась. Поскольку клиническая динамика Сильвии ярко иллюстрирует некоторые важные принципы контроля и проработки тревоги смерти, ниже в этой главе я опишу ее терапию подробно.
В течение последующих нескольких недель в группе произошло несколько важных событий. Одна из участниц, педиатрическая медицинская сестра, впервые рассказала об эмоциональной близости, возникшей у нее с одним из ее пациентов, десятилетним ребенком, который умер несколько месяцев назад. Она мучительно сознавала тот факт, что этот ребенок даже отпущенный ему короткий десятилетний срок прожил более полно, чем живет свою жизнь она. Смерть этого ребенка и смертельное заболевание Чарльза побудили ее к попыткам преодолеть ограничения, наложенные на себя собственноручно, и пробиться к большей глубине жизни.
Другой пациент. Дон, на протяжении многих месяцев был вовлечен в трансферентную борьбу со мной. Испытывая глубокую потребность в моем совете и руководстве, он тем не менее не раз вступал в противостояние со мной, иногда выражавшееся в несколько деструктивной форме. Например, он систематически находил возможность социального взаимодействия с каждым членом группы вне группы Хотя мы не раз обсуждали факт саботирования Доном групповой работы, ему было важно найти в группе союзников против меня. После того, как Чарльз открыл группе, что болен раком, чувства Дона по отношению ко мне начали меняться, напряжение и антагонизм между нами явственно уменьшились. Дон отметил, как сильно я изменился за недели, прошедшие со времени вступления Чарльза в группу. Он заявил, что ему трудно выразить это словами, но затем внезапно выпалил: «Почему‑то я теперь знаю, что вы не бессмертны». Он смог теперь подробно обсудить на группе некоторые из своих фантазий, касающихся конечного спасителя, – веру в мою непогрешимость, а также в мою способность определить его будущее с величайшей несомненностью. Он смог выразить свою агрессию по повод) того, что, как ему казалось, я не желаю дать ему то, что на самом деле способен дать. Присутствие Чарльза напоминало Дону, что я. так же как и он, должен буду встретиться со смертью, что в этом все мы едины и равны, как сказал Эмерсон: «Давайте не будем горячиться, потому что через сотню лет это будет совершенно неважно». Борьба со мной внезапно представилась ему глупой и банальной, и вскоре мы из противников превратились в союзников.
Отношение Лины к Чарльзу было крайне сложным. Вначале она обнаружила, что ее переполняет гнев на него из‑за своего ожидания, что он покинет ее так же, как это сделали мать и отец. Впервые она начала вспоминать события, связанные со смертью матери (это произошло, когда Лине было пять лет). Она вновь и вновь возрождала это переживание в своей памяти. Ее мать перед смертью очень исхудала, в первые месяцы пребывания Чарльза в группе Лина была аноректична и пугающе потеряла в весе. Она была настолько подавлена смертью близких людей, что для дальнейшей жизни избрала состояние своего рода анабиоза. Ее жизненная формула гласила. «Никаких дружб, никаких потерь». Имея четырех престарелых бабушек и дедушек. Лина каждый день с ужасом ожидала известия о смерти кого‑то из них. Ее ужас был так велик, что она лишила себя удовольствия лучше узнать их и сблизиться с ними. Однажды в группе она сказала. Я бы хотела, чтобы они не тянули и умерли наконец, и с этим было бы покончено". Постепенно она сломала в себе этот стереотип и позволила себе мучительно потянуться к Чарльзу. Она осторожно начала прикасаться к нему – например, помогая ему снять пальто в начале встречи. Он неизменно оставался для нее самым значимым человеком в группе, и, приняв тот факт, что глубокое удовольствие от близости к нему стоило страданий предстоящей разлуки, она постепенно стала способна установить другие важные для нее отношения. Таким образом, в конечном счете она смогла извлечь значительную пользу из опыта участия в группе вместе с Чарльзом. За то время, пока они вместе были в группе, она вернула потерянный вес, ее суицидальные устремления исчезли, депрессия прошла и после трех лет безработицы она нашла ответственную и удовлетворяющую ее работу.
Другая участница получила от «сидения в первом ряду» пользу другого рода. Она была разведена, имела двух маленьких детей, большей частью испытывала по отношению к ним возмущение и раздражение. Лишь время от времени, когда один из них бывал болен или ушибался, она в состоянии была ощутить в себе позитивные нежные чувства. Благодаря отношениям с Чарльзом она остро и живо осознала, что время движется и жизнь конечна. Постепенно она смогла черпать из источника любви к своим детям и без провокации в виде болезней, несчастных случаев и других сильных напоминаний о смертности.
Участники группы переживали глубокие эмоции, но аффект никогда не был настолько мощным, чтобы стать недоступным для ассимиляции и проработки. Несомненно, этим мы в основном были обязаны манере Чарльза. Он редко обнаруживал признаки проявления или переживания глубокого аффекта. Это было очень полезно в групповой работе, поскольку позволяло обозначать аффект: эмоция появлялась медленно и в управляемых объемах. Однако в конце концов тенденция Чарльза подавлять эмоции стала объектом непосредственного наблюдения. Одна групповая встреча, происходившая примерно через два месяца после прихода Чарльза в группу, в этом смысле особенно показательна. Чарльз выглядел угнетенным и начал встречу необычным образом, заявив, что у него есть некоторые вопросы, которые он хотел бы задать терапевту. Вопросы имели общий характер, и его ожидание точных, авторитетных ответов было нереалистичным. Он спрашивал о конкретных техниках, которые помогли бы ему преодолеть свою дистанцированность от других, и о конкретной рекомендации для разрешения конфликта со своей подругой. Он задавал свои вопросы словно инженер, ищущий эффективное решение технической задачи, и явно ожидал ответов в том же духе.
Группа попыталась ответить на вопросы Чарльза, но он непременно хотел услышать лидера и раздраженно отмахивался от остальных. Но участники группы не дали заткнуть себе рот и поделились своими чувствами гнева и обиды на то, что их так исключают. Один участник мягко поинтересовался, не связано ли отчаяние, звучащее в вопросах Чарльза, с его ощущением уходящего времени и потребностью увеличить эффективность группового процесса. Постепенно группа тактично помогла Чарльзу рассказать о том, что зрело последние несколько дней глубоко внутри него. Со слезами на глазах он признался, что ужасно потрясен двумя событиями: он смотрел большой телевизионный фильм о смерти ребенка от рака и в связи со своей профессией стоматолога присутствовал на длительной и «страшной» конференции, посвященной раку ротовой полости.
Получив эту информацию, группа вновь обратилась к необычному поведению Чарльза на нынешней встрече. Его настойчивость в стремлении получить от терапевта точный ответ на свой вопрос выражала желание, чтобы о нем позаботились. По его словам, он ходил вокруг этого кругами, потому что боялся открыто выразить «извергающиеся» из него чувства. Чарльзу казалось, что если бы ему самому были предложены такие экспансивные, подавляющие чувства, он был бы этим парализован.
Исходные вопросы Чарльза получили на этой встрече ответ не через «содержание» (то есть конкретные советы терапевта), а через анализ «процесса» (то есть анализ его отношений с другими людьми). Он понял, что его трудности в достижении близости с другими, включая бывшую жену и нынешнюю подругу, были связаны с его подавлением аффекта, страхом «извержения» чувств со стороны других, с его критицизмом и отвержением по отношению к равным в надежде получить концептуальное мнение авторитетной фигуры.
Несколько недель спустя произошел сходный эпизод, который подтвердил и подкрепил для Чарльза тот же самый урок. В начале встречи Чарльз был настроен воинственно. Он часто сокрушался объемом алиментов, которые должен был платить, и в тот день прокомментировал газетную статью, демонстрирующую, как женщины и адвокаты, ведущие бракоразводные дела, эксплуатируют беспомощных мужчин. Затем он распространил этот комментарий на женщин в группе и одним махом обесценил вклад их всех. Когда группа вновь обратилась к тому, что с ним происходит, Чарльз поведал о некоторых эмоционально нагруженных событиях последних двух дней. Его единственный ребенок только что уехал из дома в колледж, и их последний проведенный вместе день разочаровал Чарльза. Он очень хотел сказать своему сыну о том, как сильно любит его. Однако они в последний раз поели вместе в безмолвии, и Чарльз был в отчаянии от потери этой драгоценной возможности. С момента отъезда сына Чарльза преследовали мысли такого рода: «Что следующее?», «Все словно в последний раз». Он почувствовал, что входит в новую и завершающую фазу своей жизни. Он сказал, что не боится смерти или боли, чего он на самом деле боится, так это бессилия и беспомощности.
Понятно, что страх перед бессилием и беспомощностью есть у каждого, но Чарльзу он внушал особенный ужас, проявляющийся в его нежелании признавать свою уязвимость или обращаться за помощью. На той встрече Чарльз, вместо того чтобы открыто рассказать о своем страдании и попросить помощи, повел себя отчужденно и воинственно. Его рак рано или поздно сделает его физически зависимым от других, и он жил в паническом страхе перед этим днем. Группа создала возможность постепенного ослабления этого страха благодаря тому, что множество раз позволила ему раскрыть свое чувство незащищенности и обратиться за помощью к другим.
Один из участников группы, Рон, посещавший группу свыше двух лет, очевидно пришел в достаточно хорошее состояние, чтобы покинуть ее, и уже в течение некоторого времени подумывал о завершении терапии. Кроме того, он был влюблен в Ирен, одну из участниц группы, и в его присутствии ей было трудно надлежащим образом участвовать в групповой работе. Всякий раз, когда члены терапевтической группы образуют подгруппу или, в частности, диаду, лояльность по отношению к которой для них становится более значимой, чем их преданность базовой задаче исходной терапевтической группы, – терапевтическая работа неизменно терпит серьезный урон. Отношения между Роном и Ирен достигли этой фазы, и на одной из сессий я не только поддержал решение Рона выйти из группы, но настолько откровенно подталкивал его к этому, что он поспешил осуществить свое решение. Первая сессия после ухода Рона была бурной. Существует еще одна аксиома относительно малой терапевтической группы, состоящая в том, что члены группы, испытавшие воздействие общего стимула, имеют высоко индивидуальные реакции на этот стимул. Данный феномен может иметь лишь одно объяснение: каждый член группы имеет свой особый внутренний мир. Поэтому исследование различающихся ответов на один стимул зачастую очень плодотворно для терапии.
Особенно примечательны были реакции Сильвии и Лины. Обе почувствовали чрезвычайную угрозу для себя. Они были уверены, что я вышвырнул Рона из группы, – хотя эту точку зрения не разделяли остальные участники. Более того, они восприняли мое решение как высшую степень произвола и несправедливости. Они были рассержены, но боялись выразить свою агрессию, чтобы не быть тоже изгнанными.
Работа над этими чувствами привела к исследованию главной защитной структуры Лины и Сильвии – веры в освобождение, которое принесет конечный спаситель. Обе испытывали такой ужас перед перспективой быть покинутыми мною, что предпринимали неимоверные усилия, стараясь задобрить и умиротворить меня. Стремясь оставаться рядом со мной, они обе на бессознательном уровне сопротивлялись улучшению, а на сознательном предпочитали не сообщать группе об изменениях, которые могли бы быть расценены как позитивные. Благодаря присутствию в группе Чарльза их страх быть оставленными – в конечном счете, страх смерти – практически вышел на поверхность. Обе они постепенно осознали, что их реакция на ситуацию была преувеличенной – что уход Рона был правильным решением как для него самого, так и для группы, и никто, кроме них, не опасается быть исключенным из группы. В конце концов они поняли, что их реакция на этот инцидент отражала их поведение в целом: их зависимость, страх быть оставленными, тенденцию к самоинвалидизации.
Реакция Чарльза на выход Рона из группы была такой же сильной, как и его последующие реакции на подготовку других членов группы к завершению терапии. Он сказал, что это вызывает у него реальную физическую боль в середине груди. Он чувствовал себя так, как если бы из него вырывали что‑то, и возможный роспуск группы представлял для него величайшую угрозу. На одной из встреч он – тот самый Чарльз, который несколько месяцев назад назвал себя эмоционально стерильным и заявил, что нет человека, который бы для него что‑то значил, – рассказал группе, как много они значат для него, и со слезами, текущими по лицу, поблагодарил их, как он выразился, за спасение своей жизни.
Однажды один молодой человек заявил в группе любопытную вещь: он завидует смертельной болезни Чарльза; если бы у него самого была такая болезнь, это, может быть, подвигло бы его сделать что‑то большее из своей жизни. Группа не замедлила напомнить этому молодому человеку, что он, вне всякого сомнения, несет в себе смерть, и разница между Чарльзом и всеми остальными не больше, чем разница при сидении в первом или в последнем ряду. Чарльз часто пытался донести это до других членов группы. Как‑то раз один из более пожилых участников группы жаловался, что «растратил» свою жизнь: в ней было столько упущенных возможностей, столько не получивших развития потенциальных дружб, столько неиспользованных профессиональных шансов. Он был полон жалости к себе и, преследуемый угрызениями совести, пережевывал прошлое, избегая таким образом жизни в настоящем. Пример Чарльза был особенно полезен для него, с неотразимой убедительностью указав, что он‑то как раз еще не растратил всю свою жизнь, а в данный момент находится в процессе ее «растрачивания».
Члены группы время от времени получали напоминание, что Чарльз болен раком и должен умереть в не слишком отдаленном будущем. Каждый периодически бывал конфронтирован со смертью Чарльза так же, как и со своей собственной. Одна участница, которой всегда было свойственно отрицание смерти, отметила, что жажда жизни Чарльза, его мужество и его способ обращения со своей смертью дали ей силу и образец как для жизни, так и для смерти.
На момент написания этих строк Чарльз остается активным членом группы. Он надолго пережил свой прогноз и находится в хорошем физическом состоянии. Более того, он достиг своих первичных целей терапии. Он в большей степени чувствует себя человеком и уже не изолирован: его отношения с другими стали значительно более открытыми и близкими. Вместе со своей подругой он принял участие в терапии пар, и их отношения в значительной мере улучшились. Его присутствие в группе глубоко затронуло почти всех участников; опыт отношений с Чарльзом для каждого из них способствовал тому, чтобы замкнутость в относительно узком диапазоне существования отступила перед стремлением ощутить жизнь во всей ее широте и интенсивности.
СМЕРТЬ КАК ПЕРВИЧНЫЙ ИСТОЧНИК ТРЕВОГИ
Концепция смерти предоставляет психотерапевту два фундаментальных инструментальных подхода. Первый из них я обсудил: смерть – событие столь грандиозной важности, что при правильном отношении конфронтация с ней может привести к изменению жизненной перспективы и явиться стимулом к подлинному погружению в жизнь. Второй, к которому я собираюсь сейчас обратиться, основан на предпосылке, что страх смерти составляет первичный источник тревоги, присутствует уже на ранней стадии жизни, влияет на формирование структуры характера и в течение жизни продолжает порождать тревогу, являющуюся, в свою очередь, причиной как явного психологического неблагополучия, так и возникновения психологических защит.
Начнем с некоторых общих терапевтических принципов. Важно иметь в виду, что тревога смерти, при всей своей вездесущности и всепроникающих последствиях, обитает в глубочайших пластах нашего существа, мощно подавляется и редко переживается в своей полноте. Тревога смерти сама по себе обычно не находится на поверхности в клинических картинах, нечасто становится она и явной темой психотерапии – тем более, краткосрочной – у большинства пациентов. Однако некоторые пациенты с самого начала терапии полны переживания открытой тревоги смерти. Встречаются также жизненные ситуации, заставляющие пациента испытать такой натиск тревоги смерти, что терапевту не избежать этой темы, как бы он ни пытался. Что же касается долговременной интенсивной терапии, в которой исследуются глубинные уровни проблем – то в ней эксплицитная тревога смерти неизменно обнаруживается и должна учитываться в терапевтическом процессе.
Поскольку тревога смерти столь интимно связана с процессом существования, она имеет оттенок значения, нехарактерный для понятия «тревоги» в других концептуальных системах. Экзистенциальный терапевт старается облегчить тревогу, которая достигает инвалидизирующей степени, но не стремится убрать ее совсем. Невозможно проживать жизнь, невозможно встречаться со смертью без тревоги. Тревога – не только враг, но и учитель: она может указать путь к подлинному существованию. Задача терапевта – уменьшить тревогу до комфортного уровня и затем использовать имеющуюся тревогу для увеличения осознавания и витальности пациента.
Еще один фундаментальный момент, о котором не следует забывать, состоит в том, что теория тревоги, основанная на сознавании смерти, обеспечивает терапевта точкой рассмотрения, объяснительной системой, которая может значительно повысить его эффективность даже в тех случаях, когда тревога смерти не присутствует явным образом в терапевтическом диалоге.
Вытеснение тревоги смерти
Во второй главе я упоминал о столкновении автомобилей, в котором, сложись все менее удачно, мог бы лишиться жизни. Моя реакция на этот несчастный случай может рассматриваться как кристально ясный образец действия тревоги смерти в рамках невротической реакции. Вспомните, что уже через день или два я не испытывал никакой открытой тревоги смерти, но вместо этого стал страдать специфической фобией, связанной с дискуссиями за ланчем. Что произошло? Я «справился» с тревогой смерти путем вытеснения и смещения. Я привязал тревогу к конкретной ситуации. Вместо того чтобы бояться смерти, или «ничто», я стал тревожиться о «чем‑то». Всегда, когда наша тревога оказывается привязана к конкретному объекту или ситуации, нам становится лучше. Тревога пытается превратиться в страх. Страх – это боязнь чего‑то, некоторой вещи, имеющей координаты во времени и пространстве; со страхом, который таким образом локализован, можно существовать, и им даже можно «управлять» (избегая объекта страха или разработав систематический план преодоления страха); страх – это поток над поверхностью, он не угрожает основаниям.
Я уверен, что такой ход событий не является редкостью. Тревога смерти глубоко вытеснена и не принадлежит повседневному опыту. Грегори Зилбург (Gregory Zilboorg) в связи со страхом смерти заявил: «Если бы этот страх постоянно был сознательным, мы не смогли бы нормально функционировать. Чтобы наша жизнь была хоть сколько‑нибудь комфортной, этот страх должен быть в надлежащей степени вытеснен».
Несомненно, причиной того. что многие терапевты пренебрегают тревогой смерти в своей работе, служит именно вытеснение – вследствие него тревога смерти остается невидимой для наблюдателя. Но несомненно и то, что при других теоретических концепциях дело обстоит так же. Терапевт всегда имеет дело с кальками первичной тревоги и защитами от нес. Насколько часто, например, аналитически ориентированный терапевт встречает открытую кастрационную тревогу? Еще один источник дезориентации заключается в том, что страх смерти может переживаться на многих уровнях. Мы можем, например, взирать на смерть бесстрастно и интеллектуально. Однако этот взгляд взрослого – совсем не то же самое, что обитающий в бессознательном ужас перед смертью – ужас, возникший на ранней стадии жизни, предваряя появление точных концептуальных формулировок; ужас изначальный и невыразимый, существующий вне языка и образа. Исходное неосознаваемое ядро тревоги смерти напитывается еще большим страхом благодаря разрастанию в психике маленького ребенка ужасающих ложных представлений о смерти.
В результате вытеснения и трансформации тревога, с которой имеет дело экзистенциальная терапия, по видимости не имеет экзистенциальной почвы. Ниже в этой главе я буду обсуждать случаи пациентов со значительной открытой тревогой смерти, а также говорить о том, как в процессе длительной интенсивной терапии всегда можно добраться до слоев явной тревоги смерти. Но даже при таком ходе терапии, когда тревога смерти так и не эксплицируется, основанная на ней парадигма может увеличить эффективность работы терапевта.
Терапевт обеспечивается концептуальным подходом, значительно повышающим эффективность его работы. Как природа не терпит пустоты, так мы, человеческие существа, не терпим неопределенности. Одна из задач терапевта увеличить у пациента ощущение определенности и контроля. Способность объяснить и упорядочить события своей жизни в соответствии с неким связным и предсказуемым образцом – отнюдь не маловажная. Назвать нечто определенным именем, определить его место в цепочке причинно‑следственных связей – значит начать чувствовать его контролируемым. Наше внутреннее переживание или поведение уже не представляется пугающим, чуждым, неуправляемым: мы ведем себя определенным образом (или испытываем определенное внутреннее переживание) вследствие чего‑то, что можем назвать или распознать. «Потому что» дает нам контроль (или ощущение контроля, что феноменологически эквивалентно контролю). Я уверен, что даже в сфере нашей базовой экзистенциальной ситуации понимание рождает ощущение силы: как это ни парадоксально, но любой из нас начинает меньше чувствовать свою ничтожность, свою беспомощность, свое одиночество, когда приходит к пониманию факта нашей фундаментальной беспомощности и одиночества перед лицом космического безразличия.
В предыдущей главе я изложил объяснительную систему психопатологии, основанную на тревоге смерти. Подобная объяснительная система важна как для терапевта, так и для пациента. Та или иная объяснительная система идеологическая система координат – имеется у любого терапевта. С ее помощью он организует клинический материал, с которым ему приходится встречаться. Даже если объяснительная система терапевта столь сложна и абстрактна и столь тесно связана с бессознательными структурами, что не может быть явным образом сообщена пациенту, – она тем не менее во многих отношениях повышает эффективность работы терапевта.
Во‑первых, система убеждений дает терапевту ощущение надежности по тому же механизму, по которому пациенту полезно услышать объяснение. Позволяя терапевту контролировать клинический материал пациента и не быть захлестнутым им, система убеждений повышает у терапевта уверенность в себе и ощущение власти и приводит к развитию у пациента веры в терапевта и доверия к нему, что является существенным условием для успеха терапии. Кроме того, система убеждений терапевта зачастую способствует усилению его интереса к пациенту, в огромной степени стимулирующего развитие необходимых терапевтических отношений. Например, я полагаю, что поиск генетического каузального объяснения («Почему пациент таков, каков он есть, с точки зрения его прошлой истории?») – это неправильный ориентир для терапевтического процесса; тем не менее объяснение прошлого часто выполняет в терапии важную функцию. Оно обеспечивает терапевта и пациента общим целенаправленным планом, интеллектуальной костью, которую можно грызть, – объединяет их и крепко привязывает друг к другу на то время, пока зарождается и зреет терапевтический альянс, реальный агент изменения.
Система убеждений терапевта обеспечивает последовательность его комментариев, адресованных пациенту: благодаря ей терапевт знает, что стоит сейчас исследовать, а что не следует форсировать, чтобы не вызвать у пациента замешательство. Даже не делая открытых исчерпывающих интерпретаций относительно бессознательных корней проблем пациента, терапевт может при достаточной тактичности и правильном выборе времени дать комментарий, который на глубинном внесловесном уровне «подойдет» к бессознательному пациента, как ключ подходит к замку, позволив последнему ощутить себя совершенно понятым. Система убеждений имеет глубокие корни, в действительности достигающие базисных пластов нашего существа, и поэтому она наделяет нас особым преимуществом – способностью донести до нашего пациента сообщение о том, что табуированных областей не существует, что любая тема может обсуждаться и, более того, его глубочайшие заботы не идиосинкратичны, а разделяются всеми человеческими существами.
Благотворное влияние, которое оказывает на процесс терапии чувство уверенности терапевта, основанное на его объяснительной системе психопатологии, определяется криволинейным законом. Существует оптимальная степень терапевтической уверенности: слишком высокая и слишком низкая снижают эффективность. Слишком низкая уверенность по уже обсуждавшимся причинам замедляет формирование необходимого уровня доверия. Избыток уверенности превращается в ригидность. Терапевт извращает или отвергает данные, не согласующиеся с его системой; кроме того, он избегает осознания и помощи пациенту в осознании одной из базисных идей экзистенциальной терапии: неопределенность существует, и все мы должны научиться сосуществовать с ней.
Интерпретативный выбор: иллюстрирующий случай
В главе 4 я описал некоторые общие экзистенциальные динамики, лежащие в основе распространенных клинических синдромов, включающих тревогу смерти. Здесь я представлю конкретные альтернативы интерпретаций для случая, в котором речь идет о компульсивной сексуальности.
Брюс – мужчина средних лет, который с подросткового возраста постоянно пребывает, как он выразился, «на охоте». Он имел половые сношения с сотнями женщин, но ни до одной из них ему по‑настоящему не было дела. Для Брюса женщина была не целостной личностью, а «куском тела». Все женщины были для него более или менее равнозначны. Важно было уложить женщину в постель, – но когда оргазм был достигнут, Брюсу не слишком хотелось оставаться с ней. Поэтому не так уж редко случалось, что, после того как женщина уходила, он отправлялся на поиски другой – иногда уже через несколько минут. Компульсивный характер его поведения был настолько очевиден, что даже он сам понимал это. Он сознавал, что часто ему было «нужно», или он «должен» был добиваться женщины, когда вовсе этого не желал.
Случай Брюса может быть понят с многих точек зрения, ни одна из которых не является исключительной и преобладающей. Эдиповы обертона совершенно ясны: он одновременно желал и боялся женщин, походивших на его мать. С женой он обычно был импотентен. Чем более он в своих путешествиях приближался к городу, где жила его мать, тем сильнее становилось его половое желание. Кроме того, его сны были полны тем инцеста и кастрации. Имелись также свидетельства того, что его компульсивная гетеросексуальность приводилась в действие потребностью предотвратить взрыв бессознательных гомосексуальных импульсов. Самооценка Брюса была серьезно нарушена, и успехи в соблазнении женщин могли рассматриваться как попытка укрепить свое чувство самоценности. Еще один угол зрения: Брюс и нуждался в близости, и страшился ее. Сексуальный контакт – одновременно близость и карикатура на близость отдавал должное и нужде, и страху.
На протяжении более чем восьми лет анализа и нескольких курсов терапии с компетентными специалистами все эти и многие другие объяснения были исчерпывающе обсуждены, но не оказали воздействия на его навязчивое половое влечение.
Меня в случае Брюса поразило богатство незатронутой экзистенциальной тематики. Его компульсивность могла быть понята как заслон от конфронтации с его экзистенциальной ситуацией. Например, было очевидно, что Брюс боится оставаться один. Находясь вне семьи, он неизменно предпринимал огромные усилия, чтобы не проводить вечер в одиночестве.
Тревога может служить полезным проводником; порой терапевт и пациент должны открыто провоцировать тревогу. Соответственно. когда толерантность тревоги у Брюса повысилась, я предложил ему провести вечер в полном одиночестве и зафиксировать свои мысли и чувства. Проявившееся в тот вечер оказалось чрезвычайно важно для его терапии. То, что он пережил, точнее всего можно назвать животным ужасом. Впервые со времен детства он встретился со своим страхом сверхъестественного. По чистой случайности в тот вечер на короткое время отказало электричество, и Брюс пришел в ужас от темноты. Ему казалось, что он видел мертвую женщину, лежащую на кровати (напоминающую старуху из фильма «Заклинатель»; голову смерти за окном. Он боялся, что его коснется «что‑то, возможно, рука скелета, одетая в лохмотья». Огромным облегчением для него явилось присутствие собаки, и он впервые осознал крепкие узы, существующие между некоторыми людьми и их домашними животными. Он сказал: «То, что необходимо – это не обязательно человеческое общество, а просто нечто живое рядом с вами».
Постепенно, с помощью терапевтической работы, ужас этого вечера трансформировался в инсайт. Функция секса стала предельно ясна. Оставаясь без сексуального заслона, Брюс испытывал мощный натиск тревоги смерти. Образы были достаточно красноречивы: мертвая женщина, рука скелета, голова смерти. Каким образом секс отгораживал Брюса от смерти? Несколькими путями, каждый из которых мы проанализировали в терапии. Компульсивная сексуальность, подобно любому симптому, сверхдетерминирована. С одной стороны, секс – это вызов смерти. Для Брюса секс содержал в себе нечто пугающее; несомненно, он был тесно переплетен с глубоко похороненными инцестуозными желаниями и страхами отмщающей кастрации – я имею в виду не кастрацию в буквальном смысле, а уничтожение. Таким образом, сексуальный акт был контрфобичен: Брюс оставался в живых благодаря тому, что выталкивал свой пенис в воронку жизни. С этой точки зрения компульсивная сексуальность Брюса оказывалась в одном ряду с другими его пристрастиями – парашютным спортом, скалолазанием и ездой на мотоцикле.
Кроме того, секс означал для Брюса победу над смертью, усиливая его веру в свою личную исключительность. В определенном смысле Брюс оставался в живых постольку, поскольку являлся центром собственной вселенной. Женщины вращались вокруг него. Они существовали для него одного. Брюс никогда не думал о них как о живущих независимой жизнью. Он воображал, что они ожидают его, находясь в состоянии анабиоза; подобно тем, кто бичевал Йозефа К. в «Процессе» Кафки, они были наготове для него всякий раз, когда он открывал их двери, и застывали в неподвижности на то время, пока он в них не нуждался. И разумеется, секс выполнял функцию недопущения условии, необходимых для подлинной конфронтации со смертью. Брюсу не доводилось соприкасаться с изоляцией, сопутствующей сознанию личной смерти. Женщины представляли для него «нечто живое и близкое», не слишком отличающееся от того, чем была для него собака в тот вечер его ужаса. Брюс никогда не оставался один, он всегда был в разгаре коитуса (исступленного усилия спиться с женщиной), или в процессе поиска женщины, или только что оставившим ее. Таким образом, его погоня за женщиной в действительности являлась не погоней за сексом и даже не погоней, инициируемой инфантильными силами, – "материалом, из которого – как любил говаривать Фрейд – «получится секс», это была погоня, имеющая целью позволить Брюсу отрицать и смягчать свои страх смерти.
Впоследствии в период прохождения терапии возникла ситуация, когда он имел возможность переспать с красивой женщиной, женой своего непосредственного начальника. Колеблясь, он обсудил эту возможность с другом, который предостерег его против того, чтобы ею воспользоваться, последствия могли быть разрушительными. Брюс также знал, что плата тревогой и чувством вины будет запредельной. В конце концов ценой невероятного усилия впервые в своей жизни он принял решение отказаться от сексуальной победы. На ближайшей терапевтической сессии я согласился, что он поступил наилучшим образом и в своих интересах.
Его реакция на это решение многое прояснила. Брюс обвинил меня в том, что я лишил его удовольствии жизни. Он чувствовал себя «загубленным», «конченным». На следующий день в то время, когда должно было состояться вожделенное свидание, он читал книгу и принимал солнечную ванну. При этом он думал: «Вот чего хочет Ялом – чтобы я состарился, сидел на солнышке и становился бесцветным, как собачье дерьмо». Он чувствовал себя подавленным и безжизненным. В тот вечер ему приснился сон, иллюстрирующий символизм сновидении лучше, чем любой другой из известных мне.
«У меня были прекрасные лук и стрела, я объявлял их великими произведениями искусства, обладающим магическими свойствами. Вы и Х. (друг) не соглашались, указывая, что это самые обыкновенные лук и стрела. Я сказал: „Нет, они магические, посмотрите вот на то и это!“ (указывая на два выступа). Вы сказали: „Нет, они совершенно обычные“. И вы стали показывать мне, как примитивно устроен лук, как обычны прутья и просты крепления, определяющие его форму».
Сновидение Брюса великолепно иллюстрирует не что иное, как еще один путь, на котором секс одерживает победу над смертью. Смерть ассоциирована с банальностью и заурядностью. Магия дает возможность подняться над законами природы, над заурядным, позволяет отрицать свою тварность – тварность, которая обрекает на биологическую смерть. Его фаллос – это заколдованные лук и стрела, это волшебная палочка, возвышающая его над законом материи. Каждая любовная связь составляла мини‑жизнь, хотя для него это всякий раз было путешествие по лабиринту, завершавшемуся тупиком, все они вместе взятые создавали для него иллюзию постоянно удлиняющейся линии жизни.
По мере того, как мы прорабатывали материал, появившийся в терапии благодаря этим двум позициям – проведению времени в одиночестве и отказу принять предложение полового контакта, – у Брюса происходили мощные инсайты, позволяющие понять не только его сексуальную патологию, но и многие другие аспекты его жизни. Например, его отношения с другими людьми всегда носили сильно суженный, сексуальный характер. Когда его сексуальная компульсивность ослабилась, он впервые в жизни задался вопросом: «Для чего мне другие люди?», положившим начало важной встрече с проблемой экзистенциальной изоляции. Эту фазу терапии Брюса я буду обсуждать в главе 9. Ход его терапии действительно иллюстрирует взаимосвязь, переплетенность всех конечных факторов. Принятое им решение и последующее его сопротивление тому, чтобы это решение выполнять отказаться от приглашения к сексуальному контакту, – было лишь верхушкой айсберга еще одной необычайно важной экзистенциальной проблемы – свободы, а особенно проблемы принятия на себя ответственности (тема главы 6). Наконец, возможный отказ Брюса от сексуальной компульсии, ставил его лицом к лицу с еще одной конечной проблемой – бессмысленностью. С устранением основного оправдания своего существования Брюс начал конфронтировать с проблемой цели в жизни (тема главы 9).
Тревога смерти в долгосрочной терапии
Хотя краткие терапевтические курсы часто полностью обходят любое эксплицитное рассмотрение тревоги смерти, всякая долгосрочная интенсивная терапия была бы неполной без работы над осознанием и страхом смерти. До тех пор, пока пациент продолжает свои попытки отразить смерть через детскую убежденность в том, что терапевт избавит от нее, он не уйдет от терапевта. «Пока я с вами, я не умру», – вот невысказанный рефрен, так часто возникающий в конце терапии.
У Мэя Стерна (May Stern) есть важная статья, где он описывает шестерых пациентов, увязших в болоте бесконечного анализа. В каждом случае проработка тревоги смерти приводила анализ к успешному завершению. Один репрезентативный пациент – тридцативосьмилетний мужчина обсессивно‑компульсивного склада страдал бессонницей, ночными кошмарами, ипохондрией и возникающей во время полового контакта навязчивой фантазией, что на нем сидят и в него дышат. Значительная аналитическая работа была посвящена эдипову и преэдипову уровню. Было исследовано и не дало терапевтического эффекта значение его симптомов в терминах кастрационной тревоги, инцестуозного женского сомосознания, прегенитальной регрессии, орального поглощения и т.д. Только когда аналитик перешел на более глубокий уровень – значения симптомов в контексте страха смерти – клиническая картина изменилась.
«Наконец трансферентный материал, связанный с желанием получить от аналитика магическую формулу, позволил дать интерпретацию, в которой речь шла о том, что пациент воспринимал анализ как защиту от страха смерти и что в действительности никто не в силах защитить его от неизбежной смерти. Эта интерпретация вызвала поразительную, почти драматическую перемену. Благодаря ей предметом анализа стал постоянный страх умирания, являвшийся причиной ипохондрических жалоб пациента, его отчаянной борьбы со страхом пустоты, знаменовавшей начало его латентного периода и его желания вечно оставаться в процессе анализа».
Другой пациент со многими аутодеструктивными симптомами – азартной игрой, пьянством, постоянными ссорами и мазохистическими сексуальными тенденциями – также мало преуспел в длительном анализе.
«Ни один технический аналитический прием не заставил его прекратить проигрывать фантазию о том, что его перверсная активность возбудит гнев аналитика и тот его побьет. Любая интерпретация аналитика использовалась пациентом для удовлетворения своего желания быть обруганным и побитым: молчание воспринималось как зловещая реакция разгневанного отца. Казалось, его анализ зашел в тупик… В конце концов аналитик дал интерпретацию, что через слияние с аналитиком (отцом) пациент хочет получить защиту от смерти. После этой интерпретации открылся богатый материал, до того недоступный анализу. „Смерть находится и всегда находилась вокруг меня“. Пациент вспомнил, что в детстве много думал о смерти. „Я расправился со своим страхом смерти через подчинение… Быть изнасилованным в задницу – это защита от смерти“. Пациент негодовал на то, что ему не было указано на это раньше».
В данном случае, как и в первом, проработка переноса явилась via regia* к глубинным уровням тревоги смерти. Историческая точка зрения на перенос (то есть рассмотрение его как перенос аффекта от некоего предшествующего катексиса на нынешний) в актуальности терапевтического процесса имеет лишь ограниченное значение. Важна непосредственная, осуществляемая «здесь‑и‑сейчас» функция искажения реальности у пациента. Пациент Стерна осознал, что использовал терапевта в качестве заслона от актуального осознания и страха смерти. Постепенно он вступил в конфронтацию со смертью и начал понимать, что не только его перенос, но и его симптомы символизировали инфантильные магические пути отведения смерти (например, пьянство воплощало «символическое экстатическое слияние с матерью как защиту против смерти»).
* Королевской дорогой (лат) – Прим. переводчика.
У каждого из этих пациентов произошло выраженное улучшение, но автор был достаточно осторожен, чтобы отметить: «Решающий поворот в терапевтической картине этих пациентов, возможно, обусловлен тем фактом, что интерпретация на тему страха смерти была дана после целых лет кропотливой аналитической проработки, уже тогда, когда не за горами стало завершение анализа». У каждого невротического индивида существует подпочва в виде тревоги смерти, доступная проработке в экстенсивной терапии процессе, стимулируемом терапевтом путем интерпретации и симптомов пациента, и его переноса как попытки справиться со смертью.
В широком самоисследовании тема смерти не может игнорироваться, поскольку фундаментальная задача зрелого взрослого человека – прийти к согласию с реальностью упадка и ослабления. «Божественная комедия», написанная Данте, когда его возраст приближался к сорока годам, может пониматься на многих аллегорических уровнях, но она несомненно отражает беспокойство автора о его личной смерти. В открывающих поэму строках описывается боязливая встреча с собственной смертностью, часто наступающая в середине жизни.
Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутился в сумрачном лесу,
Утратив правый путь во тьме долины.
Каков он был, о, как произнесу,
Тот дикий лес, дремучий и грозящий,
Чей давний ужас в памяти несу!
(Перевод М. Лозинского)
Те, кто пережили значительный эмоциональный срыв и чьи невротические защиты вылились в самоограничение, могут испытать жесточайшие трудности в середине жизни – в период, когда приходится признать реальность старения и надвигающейся смерти. При терапии пациента в возрасте «середины жизни» следует напоминать себе о том, что немалая часть психопатологии вызывается тревогой смерти. В своем эссе, посвященном кризису середины жизни, Жак ясно заявляет об этом:
"Человек, достигший середины жизни и не утвердивший себя успешно в профессиональном и семейном плане, либо утвердивший, но лишь благодаря маниакальной активности и действию отрицания с результирующим эмоциональным обеднением, оказывается плохо подготовлен к требованиям, предъявляемым средним возрастом, и к тому, чтобы получать удовольствие от своей зрелости. В таких случаях кризис середины жизни и встреча с взрослым представлением о жизни как проживаемой в условиях приближения личной смерти с большой вероятностью будут ощущаться как период психологического расстройства и нервного срыва. Иногда срыв может быть предотвращен путем укрепления маниакальных защит, с изгнанием депрессии, мыслей о старении и смерти, но сопровождается накоплением страхов преследования, ожидающих часа, когда уже нельзя будет не осознать неизбежность старения и смерти.
Компульсивные попытки многих мужчин и женщин среднего возраста оставаться молодыми, ипохондрическая озабоченность здоровьем и внешностью, беспорядочные половые связи с целью доказательства своей молодости и потенции, пустота жизни и недостаток подлинного наслаждения ею, нередкие тревоги религиозного характера – все это хорошо знакомые картины. Они представляют собой попытки состязаться со временем".
Тревога смерти как базовый симптом: случай из практики
Нередко встречаются пациенты, у которых тревога смерти играет настолько центральную и явную роль, что доступ к ней не требует никаких промежуточных шагов. Эти пациенты зачастую представляют собой испытание для терапевта: осознав, что тему смерти здесь никак не обойти, он затем делает неприятное открытие, что не располагает концептуальными ориентирами в своей работе.
Такой пациенткой была Сильвия, уже упоминавшаяся в этой главе как член терапевтической группы, в которой участвовал Чарльз, пациент, больной раком на неизлечимой стадии. Сильвия, тридцати шести лет, архитектор, была разведена и проходила терапию с перерывами в течение десяти лет. Она страдала алкоголизмом, хронической подавленностью, тревогой, избыточным весом, одиночеством и предъявляла разнообразные (физиологические жалобы, включая головные боли, крапивницу, боль в спине, проблемы со слухом и астму. Она находилась в тяжелом конфликте со своей тринадцатилетней дочерью и двумя старшими детьми последние из‑за ее алкоголизма и непредсказуемого поведения решили жить со своим отцом. Предыдущая терапия (индивидуальная, групповая и семейная) не привела к значительным улучшениям. Полтора года терапии в специализированной алкогольной группе помогли Сильвии обрести некоторый контроль над своим пьянством. В остальных же отношениях она в основном оставалась на стрессовом плато; терапия являлась лишь «сдерживающим мероприятием».
Появление Чарльза в терапевтической группе (которую она к тому времени посещала в течение нескольких месяцев) радикально изменяло ход ее терапии. Сильвия была насильственно конфронтирована с идеей смерти, в результате чего ее терапевтическая ситуация обогатилась некоторыми важными темами.
Первая реакция Сильвии на то, что Чарльз сообщил группе о своем инкурабельном раке, была иррациональной. Выше я описывал ее сильный гнев за его пассивное принятие рака, за то, что он не ищет иных путей помощи, отличных от конвенциальных медицинских. Примерно через две недели после сообщения Чарльза у нее возникла паника. Она купила новую кожаную софу для своего дома, но ее запах странным образом действовал ей на нервы. Кроме того, у Сильвии в доме некоторое время жил гость – художник, и в результате она пришла к убеждению, что испарения масляных красок токсичны. В гот вечер у нее появилась слабая сыпь на лице, и ночью она проснувшись в состоянии тяжелой паники, убежденная, что ее ожидает смерть в результате нарушений дыхания, вызванных аллергической реакцией на софу и испарения красок. Страх все более и более овладевал ею, и в конце концов среди ночи она вызвала скорую помощь. Сильвия вновь начала пить, и через три недели после появления Чарльза была задержана полицией за вождение машины в нетрезвом состоянии. Она утверждала, что это вождение было для нее попыткой самоубийства; ей казалось, что самоубийство – способ достижения некоторой власти над смертью: оно позволяет активно управлять своей судьбой, вместо того чтобы ждать, когда «что‑то ужасное поглотит тебя». На протяжении нескольких недель уровень ее тревоги оставался высоким, она чувствовала столь сильный дискомфорт, что подняла вопрос об уходе из терапевтической группы. Одновременно Сильвия пришла к убеждению, что «ее дела в группе плохи» и я пытаюсь от нее избавиться. Из‑за постоянных головных болей я направил ее к терапевту для соматического обследования, и она впала в острое депрессивное состояние, интерпретировав мою рекомендацию как сообщение, что отныне я отказываюсь о ней заботиться и отсылаю к другому. Когда в группе появлялись новые участники, она считала, что их привели на замену ей.
Когда исходная тревога несколько смягчилась, Сильвия перестала избегать Чарльза и начала устанавливать с ним контакт, сначала осторожно и неуверенно, затем значительно более открыто. На некоторых групповых встречах Чарльз был подавлен или встревожен, и из всех участников именно Сильвия находила в себе мужество вслух поинтересоваться, не обеспокоен ли Чарльз своим раком или тем, что время уходит. Постепенно она начала больше думать и говорить о своих центральных заботах, старении, страхе заболеть раком, ужасе перед одиночеством. Воспоминания о событиях, связанных со смертью матери, все больше поглощали ее: они всплывали во множестве подробностей и более эмоционально, чем когда‑либо за последние пятнадцать лет. Эти темы присутствовали всегда, но до сих пор ни разу явно не прорабатывались в терапии.
Случай Сильвии является великолепным примером того, как взгляд терапевта влияет на содержание материала, предоставляемого пациентом. В частности, Сильвия в течение пятнадцати лет страдала тяжелой бессонницей, по поводу чего ее лечило множество врачей самыми различными путями и с применением огромного количества седативных препаратов. Спустя несколько недель после вступления Чарльза в группу Сильвия вновь описала свою неотступную бессонницу, но поскольку терапевт был настроен на иную волну, на этот раз она рассказала нечто новое: оказывается, уже несколько лет она просыпалась почти каждую ночь между 2 и 4 часами утра в поту, со словами: «Я не хочу умереть, я не хочу умереть». За десять лет терапии (включая два года со мной) она ни разу не сказала этого терапевту!
Когда я пробудил страх смерти, служащий центральным организующим принципом, многие отдельные симптомы и события объединились в целостную картину. Атакам паники, часто служившим причиной для пьяных оргий и обжорства, почти всегда предшествовал факт некоего нападения на ее тело появление признака физического заболевания или разрушения. Наибольшей силы страх смерти неизменно достигал тогда, когда Сильвия была в одиночестве. Скрытое сообщение, адресованное ее тринадцатилетней дочери, состояло в следующем: «Не вырастай, не оставляй меня. Я не могу выносить одиночество. Я нуждаюсь в тебе юной, как сейчас, и находящейся рядом со мной. Если ты не вырастешь, я не состарюсь». Это сообщение серьезно влияло на дочь, обнаруживавшую тяжелое делинквентное поведение.
Главным механизмом защиты Сильвии от тревоги была ее вера в существование конечного спасителя – вера, лежащая в основе ее всепроникающей оральности (отчасти проявившейся в ее алкоголизме и обжорстве) и особенно проявляющаяся в ее отношении к терапии и своим терапевтам. Она постоянно была с ними почтительно подобострастна. Ничто не страшило ее так, как перспектива быть отвергнутой и оставленной ими. Чтобы предотвратить это, она преувеличивала бедственность своего состояния, скрывала все свои позитивные достижения и имела обыкновение предъявлять себя как преувеличенно неуверенную и беспомощную. Казалось, что ее задача в терапии, решаемая с помощью ряда стратегий, – показывать себя настолько лишенной сил, чтобы терапевт был вынужден устремляться ей на помощь.
Чем дольше Сильвия имела дело с этими проблемами, тем более возрастала ее тревога. Вскоре ею овладело такое беспокойство, что ей понадобились более частые встречи, чем раз в неделю на групповой сессии. Я провел с ней несколько индивидуальных сессий, во время которых мы специально анализировали ее озабоченность смертью.
Смерть матери была самым болезненным событием в жизни Сильвии, она не могла думать о нем без ужаса. Когда обнаружилось, что у матери рак шейки матки, двадцатипятилетняя Сильвия оставила собственную семью ради того, чтобы быть у постели матери, и ухаживала за ней в течение последнего месяца ее жизни. Мать весь этот период находилась без сознания либо в крайне спутанном состоянии сознания, когда она галлюцинировала и была очень паранояльна. Не будучи в состоянии контролировать деятельность мочевого пузыря и кишечника, она нуждалась в постоянном уходе Сильвии. Наконец мать умерла – окутанная испарениями экскрементов, в атмосфере тошнотворной вони, с булькающими звуками в гортани, с кровью и слизью, выливающимися изо рта. Сильвия помнила свое ощущение того момента – словно ее голова отделена от тела, распухает и вот‑вот расколется (сходные ощущения были у нее при головных болях, возникших после прихода Чарльза в группу).
У Сильвии сохранилось много пугающих детских воспоминаний о смерти. Ее дедушка умер, когда ей было семь лет, бабушка – шесть месяцев спустя. Она помнила свою бабушку в гробу и свое тогдашнее убеждение в том, что ей разрезали горло. (Сейчас, в ретроспективе, она предполагала, что бабушке делали операцию на щитовидной железе.) Когда ей было двенадцать, утонул ее школьный товарищ, и она ходила на похороны. Это также было очень страшное переживание.
Сама Сильвия была болезненным ребенком, и ее мать множество раз говорила ей (а также, по воспоминанию Сильвии, друзьям и родственникам) о том, как близка она была к смерти в нежном возрасте. В течение первых пяти лет жизни она несколько раз болела пневмонией. В шесть сломанная рука и хронический остеомиелит. Тогда пришлось делать операцию, и она с величайшим ужасом вспоминала ощущение удушья от эфирного наркоза. С тех самых пор анестезия вызывала у нес тяжелую тревогу. Анестезия, применявшаяся во время родов каждого из ее детей, пробуждала такой страх смерти, что он приводил к кратким психотическим эпизодам.
Самое первое воспоминание о том, как она «была мертвой», относится к очень раннему возрасту: ее тетя массирует ей ноги, возможно, чтобы вернуть ее к жизни. Она предполагала, что была в коме, вспоминала, что тетя плакала. Сильвия вспоминала также, что при каждом прикосновении к ее телу она ощущала интенсивную боль, но не могла ни сказать, ни дать понять тете каким‑либо иным способом, чтобы та прекратила массаж. Второе раннее воспоминание было о том, что она мертва и покинула свое тело и отчаянно, но тщетно пытается вернуться в него.
Кроме этого раннего сенсибилизирующего опыта, где она встретилась со смертью «слишком рано и слишком близко», в жизни Сильвии имелось несколько других важных причин для того, чтобы она не смогла выстроить обычные защиты от ужаса смерти. У нее не было доверия ни к матери, ни к отцу. Отец ушел из семьи, когда она была маленькой, а мать в ее воспоминаниях отличалась ненадежностью и безответственностью. Всякая болезнь или физическая травма повергала мать Сильвии в состояние паники; когда кто‑нибудь заболевал и был необходим уход, она призывала для этого другого члена семьи. Мать не была доступна Сильвии ни эмоционально, ни физически. Когда Сильвия была в предподростковом возрасте, мать на целые дни уходила из дома, вероятно, к мужчине, оставляя семью целиком на попечение Сильвии. К перспективе собственной смерти мать относилась с неослабевающим ужасом, обеспечив тем самым Сильвию моделью, сделавшей ее еще более чувствительной к страху смерти. (Многие пациенты говорят о том, что стиль отношения к смерти их родителей сыграл крайне важную роль в формировании их собственного отношения к смерти. В этом наблюдении содержится очевидная значимость для работы с умирающими пациентами: один из способов наполнить жизнь смыслом до самых последних дней задуматься о том, каким образцом ты являешься для других.)
Тревога смерти у Сильвии была явно сверхдетерминированной. У нее не только был слишком большой и слишком ранний опыт переживания угрозы жизни, не только частые напоминания матери о ее столкновении со смертью она также оказалась неспособной развить традиционные защиты от страха смерти, основанные на отрицании. Она не могла ожидать защиты или спасения от своих родителей: отец для нее был мертв, а мать сама была задавлена жизнью. Сильвия не могла ни изгнать смерть в отдаленные области, ни проникнуться верой в собственную неуязвимость. Смерть неизбежно постоянно присутствовала рядом с ней, не один раз почти загнав ее в западню, и она рассматривала себя как очень уязвимую и очень хрупкую.
Сильвия вспоминала, как пыталась найти утешение в религиозной доктрине и умоляла бабушку доказать ей, что Бог существует: если Он есть, то Он не даст ей умереть или позаботится о ней, когда она умрет. Она была воспитана в традиции южного баптизма со всеми его религиозными атрибутами адского пламени и серы. Несколько раз в детстве, когда болела, она вступала в сделку с Богом: «Если Ты сохранишь мне жизнь, я стану монахиней и посвящу всю свою жизнь Тебе». Даже теперь, по прошествии десятилетий, Сильвия продолжает размышлять о том, что не выполнила этот контракт.
Наши индивидуальные сессии, посвященные «анамнезу смерти», были продуктивны. Сильвия стала в гораздо большей мере сознавать степень своего страха смерти и роль, которую он играл в ее жизни. Продолжая участвовать в терапевтической группе, она отдала себе отчет в своем ужасе перед старением и в своей чрезвычайно дезадаптивной защите, представлявшей собой маневр типа «замри и замаскируйся». Иными словами, она приостанавливала жизнь и рост в магической надежде, что смерть просто не заметит ее. Она не заботилась о своей внешности, вечерами и уик‑эндами вела растительное существование. Сильно растолстела вследствие магической веры в то, что если, в отличие от матери, не будет худой и истощенной, то сможет избежать смерти. (Сходные динамики описывает Хэтти Розенберг (Hattic Rosenberg) у одной из своих пациенток.) Приостановку жизни она осознала на групповой встрече, когда один из мужчин принес ей цветы по случаю дня ее рождения. Она была потрясена, поняв, как сильно хочет иметь любовника и как много упустила за последние несколько лет, застряв на полпути между жизнью и не‑жизнью.
Сильвия также осознала тот факт, что обращалась с собой как с умирающей и предъявляла определенные требования к окружающим, ожидая и от них соответствующего обращения. Однажды, когда ее ипохондрические раздумья вызвали критику в группе, у нее сорвалось: «Как вы можете так обращаться со мной, когда я умираю!» Она осознала абсурдность этого заявления, но также и то, что бормотала эту фразу sotto росе* многие годы.
* Вполголоса (лат.) – Прим. переводчика.
Значительная часть работы Сильвии в группе определялась ее отношениями с Чарльзом и со мной. Ее отношения с Чарльзом стали намного более реальными: она перестала отрицать его болезнь, побуждать его искать помощи целителя и соперничать с ним за титул самого близкого к смерти члена группы. От недели к неделе она мало‑помалу отказывалась от веры в мое всемогущество. Все еще пытаясь удерживать идеализированное представление обо мне, она начала испытывать раздражение из‑за моей способности совершать ошибки и впадать в заблуждения. Я, соответственно, следил за тем, чтобы не принимать позу всемогущества, а быть настолько открытым и ясным, насколько возможно. Состояние Сильвии улучшилось заметно и прочно. Она начала рассматривать смерть, вместо того чтобы быть парализованной ею. Сильвия поняла, что прежде, пытаясь избежать страха смерти, стремилась слиться с терапевтом или друзьями. Даже телевизор служил этой цели, и когда она очень боялась смерти, то подолгу смотрела телевизор, так как «просто слыша голос, я понимаю, что еще жива». Она перестала страшиться одиночества и начала ощущать, что способна жить удовлетворяющей ее жизнью даже без успокоительно зависимых отношений с ребенком или мужчиной. (Существует старая поговорка: «Тому, кто идет со своим светом, можно не бояться тьмы».)
Она начала следить за собой, сбавлять вес и выстраивать социальную жизнь вне группы. В течение двух лет группа составляла весь ее социальный мир, и теперь мы поняли, что она приближается к завершению терапии. Однажды на групповой встрече она вдруг заявила, что должна уйти на тридцать минут раньше, потому что приглашена на обед. Самым поразительным событием, однако, было ее сообщение на группе, что она ежедневно размышляет о смерти матери. Это были не навязчивые мысли, как нередко в прошлом, а осознанные размышления об ужасных сторонах смерти матери, направленные на то, чтобы обрести контроль над этими воспоминаниями путем подробного знакомства. Такое решение имело особую важность, потому что это был ее собственный план, а не план, предложенный терапевтом. Годами Сильвию преследовала мысль, что она умрет в том же возрасте, что и мать. Группа отметила, что она перестала упоминать эту навязчивость, и Сильвия сказала в ответ: «Я не думала об этом уже долгое время. Это просто больше не входит в мои переживания. Я теперь на пути к жизни».
Она приняла твердое решение завершить свое участие в группе, после чего, как и следовало ожидать, наступил рецидив многих ее симптомов. Появились и кошмары, и приступы панического страха смерти глухой ночью, и мимолетные желания молить об облегчении какого‑нибудь представителя высших сил. Обострение симптоматики было, однако, кратковременным, отчасти, может быть, благодаря тому, что было предсказано терапевтом как реакция на боль завершения. На свою последнюю групповую сессию она принесла следующий сон:
«Я находилась в большой пещере, и там был гид, который, как я думала, собирался показать мне потрясающую выставку. Однако в пещере не было ничего: ни картин, ни вообще каких‑либо произведений искусства. Затем он привел меня в другую комнату – это была прямоугольная комната, может быть, размером с нашу комнату для групповой терапии – и в ней тоже не было никаких картин и ничего похожего на выставку. Единственное, что я в конце концов могла увидеть, – пару окон с видом на тусклые, серые небеса и несколько дубов. Потом на пути к выходу гид внезапно изменился: у него теперь были рыжие волосы и невероятный магнетизм, мне казалось, что он весь электрический. Между ним и мной происходило что‑то очень мощное. Совсем короткое время спустя я увидела его снова, и похоже было, что он потерял весь свой магнетизм и снова стал нормальным мужчиной в синих джинсах».
Этот сон – великолепное и яркое изображение отказа от магии; он описывает Сильвию, примиряющуюся с иллюзорностью своей веры в конечного спасителя. В сновидении я не могу показать ей потрясающую выставку; вместо чарующих картин я предлагаю ей только окна с видом на тусклую реальность мира. К концу сна Сильвия делает последнюю попытку облачить меня в образ мага: внезапно я становлюсь существом со сверхчеловеческими качествами. Но старые чары самообмана потеряли свою устойчивость, и вскоре я вновь обращаюсь в то, что я есть на самом деле – в гида, не более и не менее.
Предыдущие курсы терапии Сильвия неизменно завершала рывком. Она так страшилась сепарации, так боялась прощания и вместе с тем осознания того факта, что возможности терапевта ограничены, что избегала завершающих сессий, резко обрывая контакт. Теперь же она встретилась с процессом сепарации (и глубинно связанным с ним напоминанием о смерти) так же, как встретилась со своим страхом смерти; вместо того, чтобы быть захлестнутой этим переживанием, она приняла его в себя и через тревогу пришла к проживанию большей полноты жизни, чем знала прежде.
ПРОБЛЕМЫ ПСИХОТЕРАПИИ
Отрицание со стороны пациента и терапевта
Несмотря на вездесущность смерти и мириады богатых возможностей ее исследования, большинство терапевтов находит задачу увеличения сознавания смерти пациентом и проработки его тревоги смерти чрезвычайно трудной. На каждом этапе в этот процесс разрушительно вмешивается отрицание. Страх смерти присутствует на каждом уровне сознавания – от самого осознанного, поверхностного, интеллектуализированного уровня до сферы глубочайшего бессознательного. Нередко оказывается, что существующая на поверхностных уровнях восприимчивость пациента к интерпретациям терапевта служит отрицанию в более глубоких пластах. Так, пациент откликается на предложение терапевта исследовать свои чувства по поводу конечности собственного существования, однако постепенно сессия становится непродуктивной, поток материала иссякает, разговор превращается в интеллектуальную дискуссию. В такие моменты для терапевта важно избежать ошибочного заключения, что он бурит скважину в сухом месте. Блокировка, отсутствие ассоциаций, отщепление аффекта – все это признаки сопротивления, и относиться к ним следует соответственно. Одно из первых открытий Фрейда в сфере практики динамической терапии состояло в том, что терапевт вновь и вновь сталкивается с психологической силой в пациенте, противодействующей терапевтической работе. («В своей психологической работе я должен был противостоять психологической силе в пациенте, препятствующей тому, чтобы патогенная идея стала осознанной».)
Терапевт должен упорствовать. Он должен продолжать собирать данные, работать со сновидениями, делать свои наблюдения, говорить снова и снова одни и те же вещи, пусть с различными акцентами. Комментарии, касающиеся существования смерти, могут казаться настолько банальными, настолько очевидными, что терапевт сочтет глупостью повторять их. Однако для преодоления отрицания простота и настойчивость необходимы. Одна пациентка, депрессивная, мазохистичная и суицидальная, во время отчетной сессии через несколько месяцев после завершения терапии назвала мне мой самый важный комментарий за весь период нашей терапии. Она часто описывала мне свою жажду смерти, а в другие моменты – различные вещи, которыми хотела бы заниматься в жизни. Я не раз давал до неприличия простой комментарий: для этих событий есть лишь одна возможная последовательность – сначала опыт жизни, потом смерть.
Разумеется, отрицание исходит не только от пациента. Зачастую отрицание терапевта безмолвно заключает союз с отрицанием пациента. Терапевт не в меньшей степени, чем пациент, должен вступить в конфронтацию со смертью и испытать тревогу перед лицом смерти. От терапевта требуется серьезная подготовка, чтобы в своей повседневной работе он мог удерживать сознавание смерти. Мы с моим ко‑терапевтом остро отдавали себе отчет в этой необходимости, когда вели группу для пациентов с метастатическим раком. В течение первых месяцев групповая дискуссия оставалась поверхностной, много разговоров о врачах, лекарствах, режимах лечения, боли, утомлении, физических ограничениях и т.д. Мы рассматривали эту поверхностность как защитную по своей природе – свидетельствующую о глубине страха и отчаяния пациентов. Соответственно, мы с уважением отнеслись к этой защите и вели группу в очень осторожной манере
Только много позже нам стало понятно, что мы сами активно способствовали тому, чтобы групповые встречи оставались поверхностными. Когда мы смогли выносить свою тревогу и следовать примеру пациентов, для группы не осталось тем, настолько пугающих, чтобы с ними нельзя было работать открыто и конструктивно. Часто дискуссия бывала чрезвычайно болезненной для терапевтов. Эту группу наблюдали через одностороннее зеркало студенты, будущие профессионалы в сфере психического здоровья, и было несколько случаев, когда кто‑то из них должен был покинуть комнату наблюдения, чтобы восстановить равновесие. Опыт работы с умирающими пациентами побудил многих терапевтов вновь искать личной терапии – часто с очень большой пользой для себя, поскольку многие из них в своей первой, традиционной терапии, не соприкоснулись со своим беспокойством по поводу смерти.
Чтобы терапевт мог помогать пациентам конфронтировать смерть и включить ее в жизнь, он должен сам личностно проработать эти проблемы. Интересная параллель прослеживается в обрядах инициации целителей в примитивных культурах, многие из которых имеют традицию, требующую, чтобы шаман прошел через экстатический опыт, сопряженный со страданием, смертью и воскресением. Иногда инициация представляет собой подлинную болезнь: на роль шамана избирается человек, долгое время находившийся на границе между жизнью и смертью. Обычно связанное с посвящением переживание представляет собой мистическое видение. Пример, отнюдь не редкий: тунгусский (сибирское племя) шаман описывал свою инициацию как встречу с предшествующими шаманами, которые окружили его, пронзали стрелами, отрезали куски от его тела, вырывали его кости, пили его кровь и затем вновь собрали его в единое целое. В нескольких культурах требуется, чтобы новоявленный шаман проспал ночь на могиле или несколько ночей провел связанный на кладбище.
Зачем тревожить осиное гнездо?
Многие терапевты избегают обсуждать смерть со своими пациентами не из‑за отрицания, а вследствие сознательного решения, основанного на убежденности в том, что мысли о смерти приведут к ухудшению состояния пациента. Затем тревожить осиное гнездо? Зачем погружать пациента в то, что лишь усилит его тревогу, но с чем никто ничего не может сделать? Каждый должен встретиться со смертью. Не хватает ли у невротического пациента проблем и без того, чтобы обременять его еще и напоминанием о горькой чаше, ожидающей всякого человека?
Терапевты, о которых идет речь, считают: одно дело выявлять и исследовать невротические проблемы (по крайней мере, здесь они могут быть сколько‑нибудь полезны) и совсем другое – раскапывать «реальную реальность», горькие и непреложные жизненные факты: это не только глупо, но и антитерапевтично. Например, пациент, имеющий дело с неразрешенными эдиповыми конфликтами, мучается призрачной мукой – неким сочетанием внутренних и внешних событий, имевших место давным‑давно, но удерживаемых во вневременном по своей природе бессознательном и преследующих пациента. Пациент реагирует на текущие ситуации искаженно – на настоящее как на прошлое. Задача терапевта ясна: просветить пациента, вытащить на свет Божий и рассеять демонов прошлого, помочь пациенту изменить взгляд на события, сами по себе ничем не угрожающие, но иррационально переживаемые как пагубные.
Но смерть? Смерть – не призрак из прошлого. И она не кротка и не безмятежна по сути. Что с ней можно сделать?
Повышенная тревога в терапии. Во‑первых, верно, что мысль о нашей смертности окружена силовым полем тревоги. Войти в ее поле означает усилить тревогу. Описываемый мною здесь терапевтический подход – динамический и раскрывающий; он не ориентирован ни на поддержку, ни на вытеснение. Экзистенциальная терапия действительно усиливает дискомфорт пациента. Невозможно достать до корней тревоги без того, чтобы какое‑то время не испытывать повышенную тревожность и подавленность.
Случай Сильвии служит ярким тому примером. После того, как Чарльз сказал группе о своем раке, она испытала мощный взрыв тревоги с последующим рецидивом многих примитивных защит от нее. Выше я упоминал двух пациентов из сообщения Стерна, проходивших долгосрочный индивидуальный анализ, они смогли успешно завершить терапию только после открытой и исчерпывающей проработки состояний предельного ужаса, в основе которых лежал страх смерти. Каждый из этих двух пациентов, как только его терапия проникла в сферу тревоги смерти, испытал возврат дисфории во всем расцвете. Когда один из них в результате проработки его фантазии об аналитике, защищающем его от смерти, осознал, что никакого спасителя нет, он впал в глубокую депрессию. «Его гиперактивность в работе и в хобби уступила место ощущениям крайней беспомощности, существования в тумане, растворения чувства личной самобытности. Это вызвало регрессию к амбивалентным симбиотическим желаниям – желаниям орального поглощения собственной жены, аналитика, а также громадный гнев по отношению к обоим». Другой пациент также осознал, что невротические защиты не уберегут его от смерти, после чего его анализ принял сходное направление. «Он стал подавленным, постоянно чувствовал себя словно в тумане и переживал рецидив многих инфантильных стереотипов, которые должны были явиться последним бастионом против смерти». В каждом из четырех остальных случаев, описанных Стерном, у пациентов также возникали преходящие дисфория и депрессия, когда они лицом к лицу встречались с травмой своей будущей смерти.
Бьюдженталь в своем великолепном обсуждении этой темы называет данную фазу терапии «экзистенциальным кризисом»: по его мнению, это неизбежный кризис, наступающий после слома защит, служащих предупреждению экзистенциальной тревоги, когда человек получает возможность по‑настоящему осознать свою базисную жизненную ситуацию.
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЖИЗНЬЮ И ТРЕВОГА СМЕРТИ: В ЧЕМ ОПОРА ДЛЯ ТЕРАПЕВТА?
В концептуальном отношении желательно, чтобы терапевт не забывал: тревога, окружающая смерть, одновременно невротична и нормальна. Все человеческие существа испытывают тревогу смерти, но у некоторых она достигает такой чрезмерной степени, что выплескивается во многие сферы их жизни, приводя к повышенной дисфории и/или проявлению серии защит от тревоги, ограничивающих рост и зачастую порождающих вторичную тревогу. Я уже рассматривал вопрос о том, почему некоторые индивиды оказываются сломлены ситуациями, общими для всех: вследствие ряда необычных жизненных переживаний они, с одной стороны, чрезмерно травматизированы тревогой смерти, с другой – не смогли выстроить «нормальные» защиты от экзистенциальной тревоги. Терапевт имеет дело не с чем иным, как с гомеостатической регуляцией тревоги смерти.
Один из доступных терапевту подходов состоит в том, чтобы сосредоточиться на текущей динамике пациента, которая может изменить эту регуляцию. На мой взгляд, для клинициста особенно полезно следующее уравнение: тревога смерти обратно пропорциональна удовлетворению жизнью.
Джон Хинтон (John Hintoii) сообщает о некоторых интересных и релевантных исследовательских данных. Он изучал шестьдесят пациентов с терминальным раком и оценивал корреляцию их мировосприятия (включая «ощущение удовлетворения, или самореализации в жизни») с их чувствами и реакциями в процессе смертельного заболевания. Ощущение удовлетворения жизнью оценивалось на основе интервью с пациентом и его супругом. Чувства и реакции в процессе смертельного заболевания оценивались на основе интервью с пациентами и измерения по шкале, выполнявшегося средним медицинским персоналом и супругами пациентов. Данные показали, что в значительной степени «когда жизнь воспринималась как удовлетворительная, умирать было не столь неприятно… Меньшая удовлетворенность прошедшей частью жизни сопровождалась более тяжелым взглядом на болезнь и ее исход. Чем ниже была удовлетворенность жизнью, тем выше, депрессия, тревога, агрессия, общее беспокойство по поводу болезни и качества медицинского обслуживания».
При поверхностном взгляде может показаться, что следовало ожидать противоположного: неудовлетворенным и разочарованным естественно было приветствовать убежище, даруемое смертью. На самом деле все наоборот: если есть чувство реализованное, ощущение, что жизнь прожита хорошо, то смерть представляется не такой ужасной. Ницше в своем характерном гиперболическом стиле заявил: «То, что стало совершенным, все, что созрело, – хочет умереть. Все, что незрело, хочет жить. Все, что страдает, хочет жить, чтобы стать зрелым, полным радости и жажды – жажды того, что дальше, выше, ярче».
Несомненно, эта идея дает терапевту опору! Если он сможет помочь пациенту испытать большую удовлетворенность жизнью, значит, он сумеет ослабить чрезмерную тревогу. Конечно, здесь присутствует некий замкнутый круг: именно вследствие чрезмерной тревоги смерти индивид живет ограниченной жизнью – жизнью, посвященной в большей мере безопасности, выживанию и облегчению страдания, чем росту и самореализации. Сэрлз формулирует ту же дилемму: «Пациент не может смотреть в лицо смерти, пока не является целостной личностью, однако лишь глядя в лицо смерти он может стать по‑настоящему целостной личностью». Проблема (особенно критическая, по мнению Сэрлза, для шизофренических пациентов) заключается в том, что «тревога, связанная с конечностью жизни, слишком велика, чтобы прямо иметь с ней дело, не имея поддержки в виде знания себя как целостной личности… Личность не может вынести конфронтацию с неизбежностью смерти, если не имеет опыта полноты жизни, а шизофреник никогда не жил полно».
Однако опора существует. Терапевт не должен испытывать благоговейный страх перед прошлым. Совершенно не обязательно прожить сорок лет полной, интегрированной жизнью, чтобы компенсировать предыдущие сорок лет призрачного существования. Ивана Ильича из рассказа Толстого конфронтация со смертью привела к экзистенциальному кризису, и за несколько дней, которые ему оставалось жить, он пережил трансформацию, позволившую ему ретроспективно наполнить смыслом всю свою жизнь.
Чем меньше удовлетворенность жизнью, тем выше тревога смерти. Этот принцип ярко иллюстрируется случаем одного из моих пациентов, Филиппа, пятидесятитрехлетнего весьма успешного менеджера. Филипп всегда был закоренелым трудоголиком; он работал от шестидесяти до семидесяти часов в неделю, вдобавок каждый вечер приходил домой с портфелем, доверху набитым материалом для работы; недавно в течение двух лет он работал на восточном побережье, на уик‑энды уезжая домой на западное побережье. Его удовлетворенность жизнью был невелика: работа давала ему стабильность, но не доставляла удовольствия. Он работал не потому, что хотел, а потому что должен был работать, чтобы ослабить тревогу. Он почти не знал свою жену и детей. Много лет тому назад у его жены была внебрачная связь, и он так и не простил ей – не столько из‑за самой любовной связи, сколько из‑за того, что ее роман и его страдание по этому поводу были серьезной причиной, отвлекающей его от работы. Его жена и дети тяжело переносили отчуждение, но он никогда не пытался воспользоваться этим резервуаром любви, жизненной удовлетворенности и смысла.
Потом наступила катастрофа, лишившая Филиппа всех его защит. Его компания из‑за серьезного спада в аэрокосмической индустрии обанкротилась и была поглощена другой корпорацией. Филипп внезапно оказался безработным и, в силу своего возраста и высокого служебного статуса, – без шансов найти работу. У него развилась тяжелая тревога, и на этой стадии он обратился за психотерапевтической помощью. Сначала тревога была полностью сконцентрирована на теме его работы. Филипп был полностью поглощен мыслями о работе. Регулярно просыпаясь в 4 часа утра, он часами лежал без сна, думая о работе: как сообщить, новость своим подчиненным, в каком порядке лучше постепенно сокращать свой отдел, как выразить свой гнев по поводу обращения с собой.
Филипп не мог найти новую работу, и по мере приближения последнего рабочего дня его охватывало неистовство. Постепенно в процессе терапии мы отсоединили его тревогу от беспокойства о работе, за которое она цеплялась, как рак‑отшельник за свою актинию. Стало понятно, что Филипп испытывает значительную тревогу смерти. Ночами его преследовал сон, в котором он ходил кругами по самому краю «черной дыры». В другом пугающем повторяющемся сновидении он шел по узкому гребню обрывистой дюны на морском побережье и терял равновесие. Неоднократно он просыпался от этого сна, бормоча: «Я не удержусь здесь». (Его отец был моряком и утонул до рождения Филиппа.)
У Филиппа не было острых финансовых проблем: ему полагалось щедрое выходное пособие, к тому же недавно полученное большое наследство обеспечивало материальную стабильность. Но время! Как использовать время? Ничто не имело для Филиппа большого значения, и он погрузился в отчаяние. Затем однажды вечером произошел серьезный инцидент. Он не мог уснуть и примерно в 3 часа ночи спустился вниз почитать и выпить чашку чая. Услышав шум из окна, подошел к нему и оказался лицом к лицу с огромным мужчиной в маске‑чулке. Уже после того, как его испуг и смятение утихли, полиция уехала и поиски прекратились, Филиппа охватила подлинная паника. Ему в голову пришла мысль, которая ошеломила его и заставила содрогнуться: «С Мэри и детьми могло что‑то случиться». Когда во время нашего терапевтического часа он описал этот инцидент, свою реакцию и свою мысль, я, вместо того чтобы успокоить, напомнил ему, что что‑то обязательно случится с Мэри и с детьми, так же как с ним самим.
Какое‑то время Филипп чувствовал неустойчивость и ошеломление. Его обычные системы отрицания вышли из строя: его работа, его исключительность, его претензия на триумф, его ощущение неуязвимости. Так же, как он смотрел в скрытое маской лицо грабителя, теперь он смотрел, вначале неуверенно, а затем все более твердо, в лицо некоторым фундаментальным жизненным фактам: пустоте, неумолимому ходу времени и неизбежности смерти. Эта конфронтация дала Филиппу ощущение безотлагательности, и он напряженно работал в терапии над тем, чтобы вернуть себе некоторое удовлетворение и смысл в жизни. Мы особо сосредоточились на теме близости – важного источника жизненного удовлетворения, остававшегося неведомым ему.
Филипп так полагался на веру в свою исключительность, что его безумно страшила перспектива увидеть (и показать другим) свою беспомощность. Я убеждал его говорить правду всем интересующимся: он остался без работы и испытывает трудности в том, чтобы найти новую, – и отслеживать при этом свои чувства. Вначале он в ужасе шарахался от этой задачи, но постепенно понял, что, открывая свою уязвимость, он обретает путь к близости. На одной сессии я предложил ему послать свое резюме моему другу, президенту компании в родственной области, у которого могло бы быть для него место. Филипп поблагодарил меня, вежливо и официально, но сев в свою машину, «заплакал как младенец» впервые за тридцать пять лет. Мы много говорили об этих слезах – что они значили, какие чувства были связаны с ними и почему он не мог плакать передо мной. В то время как он учился принимать свою уязвимость, его ощущение общности, вначале со мной и затем с его семьей, углублялось. Он достиг близости с другими, какой никогда не знал прежде. Его отношение ко времени разительно изменилось: он уже не видел во времени врага, которого надо не замечать или убивать. Теперь, когда свободное время шло день за днем, Филипп начал смаковать его и наслаждаться им. Он также познакомился с иными, давно пребывавшими в спячке частями собственной личности и впервые за многие десятилетия позволил некоторым своим творческим импульсам выразиться в живописи и литературе. Проведя восемь месяцев без работы, Филипп получил новую и непростую должность в другом городе. На нашей последней сессии он сказал: «За последние несколько месяцев я побывал в преисподней. Но знаете, что я вам скажу: как бы это ни было ужасно, я рад, что не нашел работу сразу же. Я благодарен, что вынужден был пройти через все это». Филипп осознал: жизнь, посвященная сокрытию реальности, отрицанию смерти, ограничивает себя и в конечном счете омертвляет сама себя.
ДЕСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ* К СМЕРТИ
Еще одна концепция, на которую терапевт может опереться, имея дело с тревогой смерти, – концепция «десенсибилизации». «Десенсибилизация к смерти» вульгарное выражение с уничижительным оттенком, поскольку в нем глубочайшее человеческое беспокойство бок о бок соседствует с механистической техникой. Однако при обсуждении терапевтических методов работы с тревогой смерти подобных выражений трудно избежать. Имеется в виду, что при неоднократном контакте человек может привыкнуть к чему угодно, даже к умиранию. Терапевт может помочь пациенту справляться с тревогой смерти методами, сходными с теми, которые он использует для преодоления любой другой формы страха. Он снова и снова помещает пациента в ситуации, когда тот испытывает свой страх в уменьшенных дозах. Он помогает пациенту манипулировать объектом страха и пристально изучать его со всех сторон.
* Десенсибилизация – уменьшение чувствительности к чему‑либо путем его повторного применения.
Монтень отдавал себе отчет в этом методе, когда писал:
«Мне представляется, однако, что существует путь, позволяющий нам познакомиться со смертью и до некоторой степени ее испытать. Мы можем получить собственный опыт смерти, если не полный и совершенный, то по крайней мере не бесполезный, и это сделает нас более защищенными и уверенными. Нам не добраться до самой крепости смерти, но мы можем приблизиться к ней, разведать местность; если сам ее форт нам недоступен, то мы в состоянии хотя бы увидеть и освоить подступы к нему».
За годы работы с группами раковых пациентов я множество раз видел десенсибилизацию. Пациент снова и снова приближается к своему страху, пока постепенно тот не ослабевает просто потому, что становится знакомым. Многим пациентам помогает обезвредить смерть модель, установленная другими пациентами и терапевтами, – будь то твердость, напряженное стоическое принятие или невозмутимость.
Базовый принцип бихевиорального способа уменьшения тревоги заключается в том, что индивид подвергается воздействию стимула, вызывающего страх (в тщательно калиброванных объемах), пребывая в психологическом состоянии и условиях, специально направленных на замедление развития тревоги. Эта стратегия использовалась в групповой терапии. Групповая сессия часто начиналась (и заканчивалась) каким‑либо снижающим тревогу медитативным или мышечно релаксирующим упражнением; каждый пациент находился среди других, страдающих той же самой болезнью; участники группы доверяли друг другу и чувствовали, что их полностью понимают. Градуировка подверженности стимулу выражалась в одном из рабочих правил группы, согласно которому каждый член группы мог продвигаться с собственной скоростью, и никого не понуждали к более интенсивной конфронтации, чем он хотел.
Другой полезный принцип контроля тревоги – ее расчленение и анализ. Чувство животного катастрофического ужаса обычно состоит из многих компонентов страха, доступных рациональному анализу. Может оказаться полезным побудить пациента (как обычного психотерапевтического клиента, так и умирающего) исследовать свой страх и вычленить все его отдельные компоненты. Многие люди перед лицом смерти испытывают подавляющее чувство беспомощности, и группы умирающих, с которыми я работал, действительно посвящали значительное время нейтрализации этого источника мощного страха. Главная стратегия состоит в том, чтобы разделить дополнительные чувства беспомощности и подлинную беспомощность, обусловленную встречей с неизменимой экзистенциальной ситуацией. Я был свидетелем тому, как умирающие возвращали себе ощущение власти и контроля, взяв в свои руки управление теми аспектами своей жизни, которыми можно было управлять. Например, пациент в силах изменить свой стиль взаимодействия с врачом: он может настоять на том, чтобы его полностью информировали о его болезни или допускали к участию в принятии важных решений, касающихся лечения. Он может сменить врача, если не удовлетворен теперешним. Некоторые пациенты становятся социально активными. Другие используют свою возможность выбора, с восторгом обнаруживая, что могут решить не делать то, чего они не хотят делать. Третьи, убежденные, что новые пути управления психологическим стрессом окажут воздействие на ход их заболевания, серьезно включаются в психотерапию. Наконец, когда все остальное кажется вышедшим из сферы личного контроля, у нас еще остается власть контролировать свою позицию по отношению к собственной судьбе реконструировать то, что невозможно отрицать.
Другие компоненты страха – это страх перед болью умирания, страх посмертного существования, страх неизвестности, беспокойство за семью, страх за свое тело, чувство одиночества, регрессия. В западной культуре, ориентированной на успех, смерть любопытным образом приравнивается к неудаче. Каждый из этих составляющих страхов, исследованный рационально и отдельно, является менее пугающим, чем все вместе. Каждый связан с очевидно труднопереносимым аспектом умирания; однако ни по отдельности, ни в сочетании они не должны с неизбежностью вызывать катастрофическую реакцию. Следует заметить, однако, что многие пациенты, которым я предлагал проанализировать их сильные страхи, связанные со смертью, обнаруживали, что дело не в чем‑либо из вышеназванного, а в чем‑то примитивном и не укладывающемся в слова. В бессознательном взрослого живет иррациональный ужас маленького ребенка: смерть переживается как злая, жестокая, увечащая сила. Вспомним кошмарные детские фантазии о смерти, описанные в главе 3, в которых выражены более устрашающие представления о смерти, чем у зрелого взрослого человека. Эти фантазии не в меньшей степени, чем эдиповы или кастрационные страхи, являются атавистическими довесками, разрушающими взрослую способность распознавания реальности и ответного реагирования. Терапевт работает с этими страхами так же, как с другими искажениями реальности: он стремится выявить их, прояснить и рассеять эти призраки прошлого.
Десенсибилизация к смерти: эмпирические данные
В нескольких публикациях (все они являются докторскими диссертациями по психологии) описываются мастерские по сознаванию смерти, где применялись многие из вышеописанных методов десенсибилизации к смерти и оценивались количественные изменения тревоги смерти. Об одном восьмичасовом марафоне – состоявшем из обсуждения темы смерти, просмотра кинофильма о смерти, направленного фантазирования (в состоянии глубокой мышечной релаксации) каждого члена группы о своем смертельном заболевании, смерти и похоронах – сообщается, что восемь участников этого эксперимента (по сравнению с внегрупповой контрольной выборкой) «реорганизовали свои представления о смерти», меньше прибегали к отрицанию в конфронтации с собственной смертью и, согласно проведенному через восемь недель проверочному тестированию, имели более низкие показатели тревоги смерти. В послегрупповых интервью некоторые испытуемые спонтанно заявили, что мастерская послужила для них катализатором жизненных изменений в других областях жизни. Например, один из них, алкоголик, рассказал, что группа оказала на него огромное воздействие: он решил, что не желает умирать унизительной смертью алкоголика и стал полностью воздерживаться от спиртного.
Другая сходная программа десенсибилизации к смерти, SYATD («формирование ваших позиций по отношению к смерти») привела к снижению страхов смерти (измерявшихся с помощью двух шкал манифестной тревоги смерти). Мастерская «смерти и самораскрытия» вызвала повышение тревоги смерти, но также усиление чувства смысла жизни. Результаты других программ проявились в снижении тревоги непосредственно после мастерской с возвратом по прошествии четырех недель к уровню, который был перед проведением мастерской. Наконец, шестинедельный образовательный курс на тему смерти для медицинских сестер не изменил тревогу смерти сразу же, но дал о себе знать достоверным ее снижением четыре недели спустя.
Смерть – лишь один компонент человеческой экзистенциальной ситуации, и работа над сознаванием смерти составляет лишь одну грань экзистенциальной терапии. Чтобы прийти к полностью сбалансированному терапевтическому подходу, мы должны исследовать значение в терапии каждого из остальных конечных факторов. Смерть помогает нам понять тревогу, дает динамическую структуру, из которой мы можем исходить в своих интерпретациях, и служит источником пограничного опыта, способствующего грандиозному сдвигу точки восприятия. Каждый из прочих конечных факторов, к которым я сейчас обращаюсь, составляет отдельный аспект всеобъемлющей психотерапевтической системы: свобода помогает нам понять принятие ответственности, преданность изменению, решению и действию; изоляция проясняет роль отношений; что же касается бессмысленности, то она обращает наше внимание на принцип обязательства.
Часть Вторая СВОБОДА
В разделе, посвященном концепции смерти в психотерапии, я высказывал мысль о том, что клиницисту данный текст покажется чем‑то чуждым, но странно знакомым, «чуждым» потому, что экзистенциальный подход нарушает традиционные классификации и группирует клинические наблюдения по‑своему, «знакомым» – потому, что опытный клиницист интуитивно понимает важность и вездесущность концепции смерти. «Чуждое, но странно знакомое» – этот эпитет не меньше подходит и к содержанию настоящего раздела. Хотя в психотерапевтическом словаре понятие свободы отсутствует, в теории и практике всех традиционных и новаторских видов терапии оно совершенно незаменимо. В порядке иллюстрации приведу некоторые терапевтические фрагменты, встретившиеся мне на протяжении последних нескольких лет.
Терапевт спрашивает пациентку, заявляющую, что ее поведение контролируется ее бессознательным: «Чье это бессознательное?»
У ведущего группы есть «не‑могущий» колокольчик, в который он звонит всякий раз, когда член группы говорит «Я не могу». Пациенту предлагается отказаться от сказанного и затем вновь сказать свою фразу, употребив «Я бы не хотел» вместо «Я не могу».
Пациентка, запутавшаяся в весьма саморазрушительных отношениях, заявляет. «Я не могу решить, что мне делать. Я не в состоянии заставить себя прекратить отношения, но мечтаю застать его в постели с другой женщиной, чтобы я наконец‑то смогла уйти от него».
Мой первый супервизор, ортодоксальный фрейдистский аналитик, твердо верящий в фрейдовскую детерминистскую модель поведения, сказал мне двадцать лет назад во время первой встречи «Цель психотерапии – привести пациента к той точке, где он сможет сделать свободный выбор». Тем не менее, я не припоминаю, чтобы в течение более чем пятидесяти супервизорских сессий он сказал еще хоть одно слово о «выборе», который сам же объявил целью терапии.
Многие терапевты вновь и вновь предлагают пациентам менять фигуры речи и «присваивать» то, что с ними случается. Вместо «он пристает ко мне» «я позволяю ему ко мне приставать», вместо «мои перескакивает с темы на тему» – «когда я чувствую себя травмированным и мне хочется плакать, я защищаю себя спутанностью мыслей».
Терапевт попросил сорокапятилетнюю пациентку провести диалог со своей покойной матерью и в процессе его несколько раз повторить следующее предложение «Я не изменюсь, пока не изменится твое обращение со мной в то время, когда мне было десять лет»
Об Отто Уилле, легендарном терапевте, сообщается, что он периодически прерывал бесконечные размышления сильно скованного пациента с навязчивостями, высказывая предложения типа. «Послушайте, почему бы вам не сменить имя и не переехать в Калифорнию?»
В 5 часов вечера сексуально компульсивный мужчина прилетел в город, где на следующее утро должен был выполнять профессиональные обязанности. Прямо из аэропорта он начал торопливо обзванивать знакомых женщин, чтобы назначить на этот вечер интимное свидание. Увы! Все уже кому‑то что‑то пообещали. (Разумеется, он с легкостью мог бы позвонить им за несколько дней или даже недель.) Его реакцией было облегчение. «Слава Богу, теперь я смогу сегодня ночью почитать и выспаться, чего я на самом деле и хотел».
Эти виньетки могут произвести впечатление попурри из бездумных высказываний пациентов и хитроумных уловок самоуверенных терапевтов. Однако, как я позже продемонстрирую, все они объединены тем, что связаны с концепцией свободы. Более того, хотя эти истории с виду весьма легкомысленны, они отражают отнюдь не легковесные заботы. В каждой из них при надлежащем рассмотрении обнаруживается смысл, уводящий в сферу экзистенциального. Каждая высвечивает определенный взгляд на тему свободы, каждая может служить исходной точкой для обсуждения какого‑либо терапевтически релевантного аспекта свободы.
Для философа слово «свобода» имеет широкие личностные, социальные, моральные и политические импликации, соответственно включая в себя обширное пространство. Более того, это понятие вызывает интенсивные споры: философские дебаты на тему свободы и причинности не прекращаются две тысячи лет. На протяжении веков концепция абсолютной свободы неизменно вызывала ожесточенный протест, поскольку вступала в конфликт с господствующим мировоззрением: вначале – с верой в божественное провидение, впоследствии с научными законами причинности; еще позже – с гегельянским взглядом на историю как на осмысленное продвижение, с марксистскими и фрейдистскими детерминистскими теориями. Однако в этом разделе, так же как везде на страницах настоящей книги, я буду рассматривать лишь аспекты свободы, имеющие важное значение для повседневной клинической практики, а именно: в главе 6 – свободу индивида в творении собственного жизненного пути, в главе 7 – свободу индивида желать, выбирать, действовать и – самое важное с точки зрения целей психотерапии – меняться.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Слово «ответственность» имеет много оттенков значения. Надежного, заслуживающего доверия человека мы называем «ответственным». «Ответственность» подразумевает также подотчетность – юридическую, финансовую или моральную. В сфере психического здоровья под «ответственностью» имеют в виду способность пациента к рациональному поведению, а также моральные обязательства терапевта перед пациентом. Хотя каждый их этих смыслов имеет то или иное отношение к нашей теме, здесь я употребляю слово «ответственность» в одном специфическом смысле – в том же самом смысле, что и Жан‑Поль Сартр, когда он писал, что быть ответственным значит быть «неоспоримым автором события или вещи».
Ответственность означает авторство. Осознавать ответственность – значит осознавать творение самим собой своего "я", своей судьбы, своих жизненных неприятностей, своих чувств и также своих страданий, если они имеют место. Никакая реальная терапия невозможна для пациента, не принимающего такой ответственности и упорно обвиняющего других – людей или силы – в своей дисфории.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Каким образом ответственность оказывается экзистенциальным фактором? Экзистенциальная природа смерти самоочевидна, смертность и конечность являются несомненными свойствами существования. Но экзистенциальный аспект ответственности и воли, о которой речь пойдет в следующей главе, не столь ясен.
На самом глубоком уровне ответственность объясняет существование. Я понял это много лет назад благодаря одному незатейливому переживанию, однако столь мощному, что оно по сей день остается живым и ярким для меня. Я в одиночестве плавал с аквалангом в теплой, пронизанной солнцем, чистой воде тропической лагуны и испытывал, как часто испытываю, находясь в воде, ощущение глубокого удовольствия и уюта. Я чувствовал себя как дома. Тепло воды. красота кораллового дна, сверкающие серебристые гольяны, неоново‑яркие коралловые рыбы, величественные морские ангелы,* мясистые анемоны, эстетическое наслаждение от плавного скольжения и прорезания воды – все это вместе создавало ощущение подводного рая. А потом, по причинам, так и оставшимся мне непонятными, у меня произошло радикальное смещение точки отсчета. Я внезапно осознал, что ни одно из существ, окружающих меня в воде, не разделяет мое ощущение уюта. Морские ангелы не знают, что они прекрасны, гольяны не знают о своем сверкании, коралловые рыбы – о своей яркости. Если уж на то пошло, черные игольчатые морские ежи и лежащий на дне мусор (который я старался не замечать) понятия не имеют о своем безобразии. Домашность, уют, время радости, красота, приветливость, комфорт – всего этого на самом деле не существовало. Все переживание сотворил я сам! Я мог бы скользить по воде, покрытой пятнами нефти, с качающимися на ней пластиковыми бутылками, и с равным успехом решить, считать это прекрасным или отвратительным. На самом глубоком уровне выбор и сотворение переживания оставались за мной. Изъясняясь в понятиях Гуссерля, произошел взрыв поста (смысла), и я осознал свою конституирующую функцию. Это было, как если бы я сквозь прореху в завесе повседневной реальности увидел более фундаментальную и глубоко тревожащую реальность.
* Название рыбы – Прим. переводчика.
Сартр в своем романе «Тошнота», в одном из великих пассажей современной литературы, описывает момент просветления – открытия ответственности.
"Корни каштана уходили в землю прямо под моей скамейкой. Я уже не мог помнить, что это корень. Слова исчезли и вместе с ними значение вещей, методы их использования и те слабые ориентиры, которые люди отметили на их поверхности. Я сидел нагнувшись вперед и склонив голову, один перед этой черной узловатой массой, совершенно жутко‑животного вида, которая пугала меня. Потом у меня было это видение.
Оно лишило меня дыхания. Никогда, до этих последних нескольких дней, я не понимал значения «существования». Я был таким же, как другие, прогуливавшиеся вдоль морского побережья, разодетые в свои весенние наряды. Я говорил так же, как они. «Океан – зеленый, то белое пятнышко – чайка», но я не чувствовал, что океан существует или что чайка – «существующая чайка».
…И вдруг оно было здесь, ясное, как день: существование внезапно сбросило свои покровы. Оно утратило безобидный облик абстрактной категории, это был сам мозг вещей, корень был замешан в глину существования. Нет – корень, дорога, парковые ворота, скамейка, скудная трава – все это исчезло: разнообразие вещей, их индивидуальность были лишь кажимостью, видимостью. Эта видимость расплавилась, оставив мягкие безобразные массы в полном хаосе – обнаженные, в ужасающей, непристойной обнаженности… С другой стороны, этот корень существовал таким образом, что я не мог объяснить этого. Узловатый, инертный, безымянный, он околдовывал меня, наполнял мои глаза, непрестанно возвращал меня к своему собственному существованию. Тщетно было повторять: «Это корень» – это больше не работало!
Герой Сартра встречается с первозданными «безобразными массами», с самим «мозгом вещей» – веществом, не имеющим ни формы, ни значения до тех пор, пока он сам его не внесет. На него обрушивается знание этой «подлинной ситуации», когда он открывает свою ответственность за мир. Мир приобретал значение, только будучи конституирован человеческим существом – в терминах Сартра, «самостью». В мире нет никакого значения вне или независимо от самости.
Как западные, так и восточные философы размышляли над проблемой человеческой ответственности за природу реальности. Самое главное в революции, произведенной в философии Кантом, – его точка зрения, что именно человеческое сознание, природа психических конструктов человеческого существа, является источником внешней формы реальности. Согласно Канту, пространство само по себе «не объективно и реально, а напротив, субъективно и идеально; иначе говоря, это схема постоянным закономерным образом обусловливаемая природой психики, требующей координации данных всех внешних чувств».
Что привносит этот взгляд на мир в индивидуальную психологию? Хайдеггер, а вслед за ним Сартр исследовали значение ответственности для индивидуального существа. Хайдеггер обозначал индивида как dasein (не "я", не «некто», не Эго" и не «человеческое существо») по конкретной причине: он всегда стремился подчеркнуть двойственную природу человеческого существования. Индивид – это «здесь» (da), но он или она также конституирует, что есть здесь. Эго – это два‑в‑одном: это эмпирическое Эго (объективное: нечто, находящееся «здесь», объект в мире) и трансцендентное, то есть запредельное всякой эмпирии Эго, которое конституирует («в ответе за») себя и мир. С этой точки зрения ответственность неразрывно связана со свободой. Если индивид не свободен конституировать мир любым из множества способов, то концепция ответственности не имеет смысла. Вселенная условна: все, что есть, могло быть создано иным. Взгляд Сартра на свободу чреват серьезными последствиями: человеческое существо не только свободно, но и обречено на свободу. Более того, свобода простирается дальше ответственности за мир (то есть насыщения мира значением): мы полностью ответственны за свою жизнь, не только за свои действия, но и за свою неспособность действовать.
В то время, когда я пишу эти строки, в другой части мира свирепствует голод. Сартр утверждал бы, что я несу ответственность за этот голод. Я, разумеется, протестовал бы: я мало что знаю о происходящем там и считаю, что мало чем могу содействовать изменению этой трагической ситуации. Но Сартр указал бы, что я сам предпочитаю оставаться неосведомленным, и в данный момент принимаю решение писать эти слова, вместо того чтобы включиться в трагическую ситуацию голода. В конце концов, я мог бы организовать митинг для сбора средств или, воспользовавшись своими контактами в издательской среде, информировать общественность о событиях в другой части мира. Но я предпочитаю оставаться в неведении. Я несу ответственность за то, что я делаю, и за то, что я предпочитаю игнорировать. Точка зрения Сартра здесь не касается морали: он говорит не то, что я должен делать нечто иное, а что я отвечаю за то, что делаю. Оба эти уровня ответственности установление значимости и ответственность за жизненное поведение – имеют, как мы увидим, огромное значение для психотерапии.
Осознание и того, и другого – и факта собственного конституирования себя и мира, и собственной ответственности – серьезно пугает. Рассмотрим следствия. Ничто в мире не имеет иного значения, кроме порожденного нами. Нет ни правил, ни этических систем, ни ценностей, никакого внешнего референта, никакого грандиозного вселенского плана. Согласно Сартру, индивид – единственный творец (именно об этом его фраза «человек – это существо с перспективой быть богом»).
Голова кружится, если ощутить существование таким образом. Ничто не воспринимается как раньше. Словно разверзлась сама почва под ногами. Действительно, в описаниях субъективного опыта сознавания ответственности часто используется понятие пустота, или беспочвенность, или отсутствие почвы (groundlessness). Многие экзистенциальные философы описали тревогу отсутствия почвы как «пра‑тревогу» – самую фундаментальную из всех, проникающую еще более глубоко, чем тревога, ассоциированная со смертью. По сути, многие рассматривают тревогу смерти как символ тревоги отсутствия почвы. Философы нередко проводят различие между «моей смертью» и просто смертью – смертью другого. В «моей смерти» по‑настоящему ужасно то, что она подразумевает распад моего мира. С «моей смертью» умирает и воистину встречается с пустотой даритель значений, зритель мира.
Проблемы «пустоты» и самопорождения имеют еще один глубокий и неприятный аспект: одиночество, экзистенциальное одиночество, которое, как я буду обсуждать в главе 8, распространяется много дальше, чем обыкновенное социальное одиночество. Это одиночество, связанное с отделенностью не только от людей, но также и от мира, такого, каким мы обычно его воспринимаем. «Ответственность 'самости' (то есть индивидуального сознания) подавляюще огромна, поскольку именно благодаря самости случилось так, что мир есть».
Мы реагируем на тревогу отсутствия почвы так же, как вообще на тревогу – ищем облегчения. Есть много способов заслониться. Во‑первых, тревога отсутствия почвы, в отличие от тревоги смерти, не очевидна в повседневном опыте. Ее нелегко постичь интуицией взрослого и, возможно, она вовсе не испытывается ребенком. У некоторых индивидов, подобно сартровскому Рокентину из «Тошноты», несколько раз в жизни бывают вспышки сознания их конституирующей активности, но обычно это остается далеко от осознания. Мы избегаем ситуаций (например, принятия решений, изоляции, автономного действия), которые, по глубоком размышлении, могли бы привести нас к сознанию этого фундаментального отсутствия почвы. Мы ищем структуру, авторитет, грандиозные проекты, магию – нечто большее, чем мы сами. Как напоминает нам Фромм в «Бегстве от свободы», даже тиран лучше, чем полное отсутствие лидера. Поэтому дети плохо переносят свободу и требуют установления границ, и такую же потребность в структуре и границах испытывают находящиеся в состоянии паники психотические пациенты. Та же динамика лежит в основе развития переноса в ходе терапии. Среди других защит от тревоги отсутствия почвы – общие с теми, что используются против полного осознания «моей смерти», потому что отрицание смерти является союзником отрицания пустоты.
Однако самая мощная защита – это, вероятно, переживание реальности как таковой, то есть видимости вещей. Видеть себя первичным конституирующим агентом значит бросить вызов реальности, как мы обычно ее воспринимаем. Наши сенсорные данные говорят нам, что мир находится «здесь», а мы входим в него и покидаем его. Но, как полагают Хайдеггер и Сартр, видимости поступают на службу к отрицанию: мы конституируем мир таким образом, что он видится нам независимым от нас. Конституировать мир как эмпирический мир значит конституировать его как нечто независимое от себя.
Когда нами овладевает один из психологических механизмов, позволяющих бежать от нашей свободы, мы живем «неподлинно» (Хайдеггер), или в «нечестности» (bad faith) (Сартр). Сартр считал своей задачей освободить людей от нечестности и помочь им принять ответственность. Это совпадает с задачей психотерапевта; значительная часть данной главы будет посвящена клиническим проявлениям избегания ответственности и техникам, с помощью которых терапевт может способствовать процессу принятия ответственности.
ИЗБЕГАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Даже самый поверхностный исторический обзор в области психотерапии показывает радикальные изменения в методах помощи терапевтов своим пациентам. Бурный рост количества новых конкурирующих между собой терапевтических подходов не позволяет увидеть в них какую‑либо целостную картину и временами подрывает доверие широкой публики к предмету как таковому. Но внимательный взгляд на эти новые формы терапии так же, как на новое развитие традиционных форм терапии обнаруживает, что у них есть одна общая выдающаяся характеристика: акцент на принятии персональной ответственности.
То, что в современных подходах большое значение придается ответственности, отнюдь не случайно. Терапии являются отражением патологии, которую они должны лечить, и формируются ею. Вена конца века, инкубатор и колыбель фрейдовской психологии, обладала всеми характеристиками поздневикторианской культуры: вытеснение инстинктов (особенно половых), жестко структурированные и четко определенные правила поведения и манер, отдельные сферы активности для мужчин и женщин, акцент на моральной силе и силе воли и заразительный оптимизм, порожденный научным позитивизмом, сулившим объяснить все аспекты естественного порядка, в том числе человеческое поведение. Фрейд понимал и был совершенно прав, что такое жесткое подавление естественных наклонностей наносит ущерб психике; либидинозная энергия, которой запрещен открытый выход вовне, порождает ограничительные защиты и находит косвенные пути выражения. Защиты и непрямой путь либидинозной экспрессии в совокупности составили клиническую картину классического психоневроза.
Но на чем бы поставил акцент Фрейд, исследуя современную американскую культуру, – особенно в Калифорнии, где зародились столь многие новейшие терапевтические подходы? Естественным инстинктивным устремлениям дано значительное свободное выражение; сексуальная терпимость, начиная с раннеподросткового возраста, по свидетельствам многих отчетов, стала реальностью. Поколение молодых взрослых вскормлено и воспитано в соответствии с системой компульсивной терпимости. Структура, ритуал, границы любого рода – все это безжалостно ликвидировано. В религиозных орденах католические сестры открыто не повинуются Папе, священники отказываются соблюдать целибат,* женщины и гомосексуальные мужчины вызывают разногласия в англиканской церкви, требуя права быть рукоположенными; во многих синагогах службу ведут женщины‑раввины. Студенты называют профессоров по именам. Где былые запреты на непристойные слова, где профессиональные звания, учебники хороших манер, нормы, связанные с одеждой? Мой друг, художественный критик, охарактеризовал новую калифорнийскую культуру описанием инцидента, произошедшего во время его первого визита в Южную Калифорнию. Он заехал в кафе для автомобилистов, где вместе с гамбургером получил маленький пластиковый контейнер с кетчупом. Повсюду эти контейнеры имеют пунктирную линию с пометкой «разрывать здесь»; на калифорнийском контейнере не было никаких пунктиров, только незамысловатое предписание «разрывать где угодно».
* Безбрачие. – Прим. ред.
Соответственно изменилась картина психопатологии. Классические психоневротические симптомы стали раритетом. Уже десятилетие назад индивид с истинной психоневротической клинической картиной был призом, за который рьяно бились и молодые стажеры, и старший персонал. У сегодняшнего пациента больше проблем со свободой, чем с подавленными влечениями. Больше не преследуемый изнутри представлениями о том, что ему «следует» делать, и не понуждаемый извне «обязанностями» или «долженствованиями», пациент имеет дело с задачей выбора того, что он хочет делать. Все чаще клиенты обращаются за терапевтической помощью, предъявляя смутные, плохо определенные жалобы. Честно говоря, я нередко заканчиваю первую консультативную сессию, не имея ясной картины проблем пациента. Тот факт, что пациент не может определить проблему, я рассматриваю как проблему. Пациент жалуется, что в его жизни «чего‑то недостает», что он изолирован от чувств, сетует на пустоту, бесцветность жизни; на то, что он плывет по течению. Ход терапии таких пациентов отличается соответственной диффузностью. Слово «излечение» изгнано из лексикона психотерапии, теперь терапевт говорит о «росте» или «прогрессе». Поскольку цели неопределенны, окончание терапии столь же туманно и терапевтический процесс зачастую бесцельно тянется год за годом.
Атрофия структурирующих социальных (и психологических) институтов привела нас к конфронтации с нашей свободой. Если нет правил, нет грандиозного проекта, ничего, что мы должны делать, – мы свободны делать то, что предпочитаем. Наша базовая природа не изменилась, можно сказать, что сегодня, с ликвидацией маскировавших свободу атрибутов, с упразднением налагаемых извне структур, мы стали ближе, чем когда‑либо, к переживанию экзистенциальных фактов жизни. Но мы не подготовлены; нагрузка оказывается слишком велика, тревога мощно требует разрядки, и мы, индивидуально и социально, вовлекаемся в неистовый поиск защиты от свободы.
Позвольте мне теперь обратиться к исследованию конкретных психических защит, ограждающих индивида от сознавания ответственности. В течение рабочего дня любой терапевт встречает несколько примеров защит, направленных на избегание ответственности. Я собираюсь обсудить некоторые из наиболее распространенных, компульсивность, перенос ответственности на другого, отрицание ответственности («невинная жертва», «потеря контроля»), избегание автономного поведения и патология принятия решений.
Компульсивность
Одна из наиболее распространенных динамических защит от сознавания ответственности – создание психического мира, в котором нет переживания свободы, а есть существование под властью некой не преодолимой, чуждой для Эго («не я») силы. Мы называем эту защиту «компульсивностью».
Клинической иллюстрацией может служить случай Бернарда, двадцатипятилетнего коммивояжера, основные проблемы которого концентрировались вокруг вины и «одержимости». Он был одержим в своем половом поведении, в работе и даже в проведении свободного времени. Это тот самый мужчина, о котором шла речь в приме ре, приведенном во введении к части II. когда ему не удалось организовать интимную встречу (он намеренно позвонил слишком поздно), он вздохнул с облегчением: «Теперь я смогу сегодня ночью почитать и выспаться – чего я на самом деле и хотел». Эта примечательная фраза – «чего я на самом деле и хотел» заключает в себе загадку проблем Бернарда. Возникает очевидный вопрос. «Бернард, если именно этого ты на самом деле хочешь, почему бы тебе не делать это прямо?»
Бернард отвечал на этот вопрос по‑разному. «Я не знал, что по‑настоящему хотел именно этого, пока не почувствовал волну облегчения, прошедшую по моему телу, когда последняя женщина мне отказала». В другой раз его ответ сводился к тому, что он не сознавал наличие выбора. «Снять женщину вот и все, о чем шла речь» Влечение было столь властным, что он и подумать не мог о том, чтобы не лечь в постель с доступной женщиной, хотя было совершенно ясно: краткое сексуальное возбуждение не стоит связанных с ним неприятных переживаний – опережающей тревоги, чувств неудовлетворенности собой (постоянные размышления на сексуальные темы снижали его потенцию), чувства вины и страха, что жена узнает о его половой распущенности, презрения к себе, обусловленного сознанием, что он поступал нечестно, используя женщин как неодушевленные предметы.
Бернард, таким образом, избегал проблемы ответственности и выбора с помощью компульсивности, устранявшей выбор, в его субъективном переживании это было так, как если бы он, борясь за свою жизнь, пытался удержаться верхом на обезумевшем, неуправляемом диком коне. Он обратился за терапевтической помощью, ища облегчения от дисфории, но не желал видеть того, что на определенном уровне он несет ответственность за возникновение своей дисфории, своей компульсивности – короче говоря, за создание каждого аспекта своей затруднительной жизненной ситуации.
Перенос ответственности
Многие люди избегают личной ответственности, перенося ее на другого. Особенно распространен этот маневр в психотерапевтической ситуации. Одной из основных тем моей работы с Бернардом было его стремление переложить ответственность с себя на меня. Между сессиями он не думал о своей проблеме, вместо этого он просто собирал материал и «вываливал» его мне на колени. (Он хитроумно парировал мой комментарий по этому поводу, заявил, что если бы «обрабатывал» материал заранее, на сессиях не было бы спонтанности.) Он редко приносил сны, потому что не мог заставить себя записать их во время кратких ночных пробуждений, а к утру забывал. В тех редких случаях, когда Бернард записывал сон, он ни разу не просматривал запись между временем написания и сессией и зачастую в конце концов не в состоянии был разобрать собственный почерк.
В течение летнего перерыва, когда я уехал в отпуск, он «считал часы» до моего возвращения, и в ночь перед нашей условленной встречей ему приснился сон, что он играет в футбол и видит себя усевшимся мне на плечи и принимающим мяч за линией поля противника. На первой сессии он символически отыгрывал этот сон: завалил меня детальными отчетами о своих летних тревогах, чувстве вины, половом поведении и самоуничижении. В течение четырех недель он уступал своей компульсивности и тревоге, ожидая моего возвращения, чтобы я показал ему, как им противостоять. Часто используя в своей работе технику мозгового штурма, он тем не менее, казалось, был растерян, когда я предложил ему выполнять простое упражнение (поразмышлять о себе в течение двадцати минут и затем записать свои наблюдения). После нескольких (плодотворных) попыток он «не смог найти время» для упражнения. После сессии, на которой я настойчиво продолжал показывать ему, как он перекладывает на меня свои проблемы, ему приснился сон:
«Мужчина Х (индивид, напоминавший Бернарда, очевидно, двойник) позвонил мне, желая со мной встретиться. Он сказал, что я знал его мать и теперь он хочет увидеться со мной. Я чувствовал, что не хочу с ним встречаться. Потом я решил, что, поскольку он работает в области общественных связей, может быть, мне стоит подумать, что я могу от него получить. Но потом мы не смогли выделить время для встречи: наши планы были несовместимы. Я сказал ему: 'Может быть, нам следует запланировать встречу, чтобы поговорить о вашем плане!' Я проснулся смеясь».
Чтобы встретиться со мной, Бернард проезжал пятьдесят миль, и никогда не ощущал, чтобы его тяготила долгая дорога. Однако, как ясно показывает сон, он не мог и не стремился найти время для сессии с самим собой. Несомненно, для Бернарда, как и для любого другого пациента, не работающего в отсутствие терапевта, это не вопрос времени или удобства. Речь идет о том, чтобы взглянуть в лицо своей личной ответственности за собственную жизнь и процесс изменений. И сознанию ответственности неизменно сопутствует страх отсутствия почвы.
Принятие ответственности – необходимая предпосылка терапевтического изменения. Пока человек верит, что его ситуация и его дисфория порождаются кем‑то другим или некоторой внешней силой, какой смысл стремиться к личностному изменению? Люди обнаруживают неистощимую изобретательность в нахождении путей избегания сознания ответственности. Один пациент, например, жаловался на тяжелые, давние сексуальные проблемы в своем браке. Я убежден, что, прими он ответственность за свою ситуацию, его ожидала бы пугающая конфронтация с собственной свободой, обнаружение того факта, что он заключен в сотворенную им самим тюрьму. Действительно, он был свободен: если секс для него достаточно важен – уйти от своей жены, или найти другую женщину, или подумать об уходе от жены (одной мысли о том, чтобы разойтись с ней, хватало, чтобы вызвать пароксизм тревоги). Он был свободен изменить любой аспект своей сексуальной жизни, и этот факт также был существенным, поскольку означал, что этот человек должен принять ответственность за пожизненное подавление своих сексуальных чувств, так же как и многих других аспектов его аффективной жизни. В результате он упорно избегал встречи с ответственностью и объяснял свои сексуальные проблемы рядом внешних по отношению к себе факторов: отсутствием у жены сексуального интереса и склонности к изменению; скрипучими пружинами кровати (настолько громкими, что дети могли услышать звуки коитуса; по многим абсурдным причинам, кровать нельзя было сменить); своим возрастом (ему было сорок пять) и врожденным либидинозным дефицитом; своими неразрешенными проблемами отношений с матерью (как часто бывает с генетическими объяснениями, это больше служило оправданием избегания ответственности, чем катализатором изменений).
Существуют и другие способы переноса ответственности, часто встречающиеся в терапевтической практике. Параноидные пациенты очевидным образом делегируют ответственность другим индивидам и силам. Они отрекаются от собственных чувств и желаний, неизменно объясняя свою дисфорию и свои неудачи внешними влияниями. Главная и часто неосуществимая терапевтическая задача в работе с параноидными пациентами состоит в том, чтобы помочь им принять собственное авторство спроецированных ими чувств.
Избегание ответственности является также фундаментальным препятствием в психотерапии пациентов с психосоматическими заболеваниями. У таких пациентов ответственность исключена дважды: они переживают соматический дистресс вместо психологического; даже признавая психологический субстрат своего соматического расстройства, они склонны прибегать к защитам путем экстернализации – объяснять свою психологическую дисфорию плохими нервами или неблагоприятными условиями среды.
Отрицание ответственности: невинная жертва
Отдельным типом избегания ответственности является склонность некоторых индивидов (обычно относимых к категории истерических личностей) отрицать ответственность путем ощущения себя невинной жертвой событий, которые они сами (не желая того) инициировали.
Например, Кларисса, сорокалетняя женщина, практикующий психотерапевт, пришла в терапевтическую группу для работы над свои ми давними трудностями развития интимных отношений. У нее были крайне тяжелые проблемы отношений с мужчинами – начиная с грубого, обвиняющего отца, привычно отвергавшего и наказывавшего ее. Во время нашей первой встречи, предшествующей приему в группу, она сказала мне, что несколько месяцев назад прекратила длительную психоаналитическую терапию и сейчас считает, что ее проблемами лучше заниматься в групповой ситуации. После нескольких месяцев посещения группы она сообщила нам, что вскоре после вступления и группу возобновила свой анализ, но не сочла это обстоятельство достаточно важным, чтобы информировать группу. Однако сейчас ее терапевт, резко не одобряющий групповую терапию, интерпретирует ее участие в терапевтической группе как «отреагирование».
Очевидно, что пациент не может работать в терапевтической группе, если его индивидуальный терапевт возражает против этой работы и подрывает ее. По предложению Клариссы я попытался войти в контакт с ее терапевтом, но тот предпочел остаться на психоаналитической позиции полной конфиденциальности и – на мой взгляд, с некоторым высокомерием – отказался даже говорить со мной на эту тему. Я чувствовал, что Кларисса меня «подставила», был раздражен на ее терапевта и ошеломлен поворотом событий. Кларисса все это время сохраняла вид полного простодушия и легкой озадаченности запутанными событиями, происходящими с ней. Члены группы считали, что она «прикидывается дурочкой» и, пытаясь помочь си увидеть собственную роль в этих событиях, стали более категоричными, почти обвиняющими в своих комментариях. Кларисса вновь почувствовала себя преследуемой, особенно мужчинами, и «в силу обстоятельств, находящихся вне ее контроля» была вынуждена покинуть группу.
Этот инцидент воспроизводил в миниатюре центральную проблему Клариссы – избегание ответственности, которого она достигала, играя роль невинной жертвы. Хотя она еще не была готова увидеть это, данная ситуация содержала в себе разгадку ее трудностей в интимных отношениях. Двое значимых в ее жизни мужчин, ее аналитик и ее групповой терапевт, почувствовали, что ими манипулируют, и – если говорить обо мне – рассердились на нее. Другие участники группы также чувствовали себя используемыми. Ее отношения с ними не были искренними; напротив, они ощущали себя лишь марионетками в драме, которую она разыгрывала со своими терапевтами.
Вспомним, что Кларисса обратилась за терапевтической помощью из‑за своих трудностей установления интимных отношений. Ее ответственность за эти трудности была предельно ясна группе. Она никогда не была по‑настоящему с кем‑либо. Находясь рядом с членами группы, она в это время было со мной: находясь рядом со мной, она была со своим терапевтом; и несомненно, находясь рядом с ним, она в действительности была со своим отцом. Ее психическая динамика невинной жертвы была тем очевиднее, что она сама являлась опытным психотерапевтом, вела терапевтические группы и хорошо знала о важности контакта между индивидуальным и групповым терапевтом.
Отрицание ответственности: потеря контроля
Еще один способ сбросить с себя ответственность временно оказаться «не в своем уме». Некоторые пациенты имеют обыкновение временно входить в иррациональное состояние, в котором они как бы получают право действовать безответственно, поскольку не в состоянии отдать отчет в своем поведении даже себе. Именно эту проблему затронул терапевт в одном из примеров, приведенных в начале части II, когда спросил пациентку (сетовавшую, что ее поведение не было преднамеренным): «Чье это бессознательное?» Важно отметить, что, внимательно изучив такого пациента, терапевт обнаружит: «потеря контроля» происходит отнюдь не случайно, она целенаправленна и позволяет пациенту как получать вторичную выгоду («вознаграждения»), так и испытывать самообман избегания ответственности.
Пациентка, подвергавшаяся грубому и жестокому обращению со стороны бесчувственного, садистического любовника и затем отвергнутая им, «потеряла контроль» и, «сойдя с ума», радикально изменила баланс сил в отношениях. Она непрерывно преследовала его в течение нескольких недель; неоднократно вламывалась в его квартиру, производя там бессмысленные разрушения; устраивала сцены с пронзительными воплями и швырянием посуды в ресторанах, когда он обедал там с друзьями. Благодаря своему безумному, непредсказуемому поведению она одержала полную победу. Бывший возлюбленный запаниковал, стал искать защиты в полиции и в конце концов вызвал срочную психиатрическую помощь. В этот момент, достигнув своей цели, она – как ни странно – вновь обрела контроль над собой и стала вести себя совершенно рационально. Более мягкий вариант этой динамики встречается отнюдь не редко. Для многих людей собственная потенциальная иррациональность служит средством тирании по отношению к партнеру.
Потеря контроля несет с собой еще одно распространенное вознаграждение: интимную заботу. Некоторые пациенты так сильно жаждут, чтобы терапевт с ними нянчился, кормил «с ложечки» и вообще заботился о них самым интимным образом, что ради этого «теряют контроль» вплоть до глубокой регрессии, требующей госпитализации.
Избегание автономного поведения
Терапевтов часто приводят в недоумение пациенты, которые очень хорошо знают, что им делать, чтобы помочь самим себе, но необъяснимым образом отказываются совершить нужный шаг. Пол, депрессивный пациент, находившийся в процессе поиска работы, приехал в Нью‑Йорк для интервью с работодателями. Он чувствовал себя ужасно одиноко: интервью заполняли лишь шесть часов из трехдневного периода, а остаток времени проходил в одиноком, лихорадочном ожидании. В прошлом Пол долго жил в Нью‑Йорке, и у него там было много друзей, чье присутствие, несомненно, подбодрило бы его. Он провел два одиноких вечера, глядя на телефон и желая, чтобы они позвонили. что было невозможно, поскольку они никак не могли узнать о его пребывании в городе. Однако он не мог поднять телефонную трубку и позвонить им.
Почему? Мы подробно анализировали эту ситуацию, начиная с объяснений типа «нет энергии», «слишком приниженно себя чувствую, чтобы искать компании», «они бы решили, что я звоню им только тогда, когда они мне нужны». Лишь постепенно мы поняли, что его поведение отражало отсутствие готовности признать, что его благополучие и комфорт находятся в его собственных руках и что помощь не придет, пока он не предпримет действия, приближающие эту помощь. В какой‑то момент я сказал, что его пугает перспектива быть собственным отцом; эта фраза оказала мощное воздействие на Пола, и в процессе дальнейшей терапии он неоднократно к ней возвращался. Парадокс его ситуации (так же, как ситуации Сэма, о котором рассказывалось в четвертой главе и который после ухода жены не решался выйти и отправиться на поиски друзей, боясь пропустить телефонный звонок) заключался в том, что для преодоления своего социального одиночества он должен был испытать свое экзистенциальное одиночество. На этих примерах мы видим слияние референтных структур: принятие ответственности приводит к отказу от веры в существование конечного спасителя – чрезвычайно трудная задача для индивида, построившего свое мировоззрение на фундаменте этой веры. Эти две референтные структуры в совокупности определяют базовые динамики зависимости, а также обеспечивают терапевта цельной и мощной объяснительной системой, позволяющей понять патологически зависимый характер.
Расстройства в сфере желаний и принятия решений
В следующей главе будет подробно обсуждаться отношение между принятием ответственности и волей; здесь я хочу лишь кратко отметить, что тот, кто, полностью сознавая, испытывает желание и принимает решение, неизменно сталкивается с ответственностью. Центральный тезис этой главы состоит в том, что каждый сам творит себя, центральная тема следующей – испытывание желаний и принятие решений есть составляющие элементы творения. Как часто говорил Сартр, жизнь индивида конституируется его выборами. Индивид собственной волей приходит к существованию в виде того, что он есть. Если человек испытывает ужас перед сознанием самоконституирования (и перед сопутствующим сознанием отсутствия почвы), то он может избегать проявления воли например, делая себя нечувствительным к своим желаниям или чувствам, отказываясь от выбора или перекладывая выбор на других людей, институты или внешние события. Эти механизмы избегания ответственности путем отрицания воли будут обсуждаться в главе 7.
ПРИНЯТИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Первый шаг терапевта, направленный на то, чтобы помочь принятию ответственности пациентом, состоит не в применении той или иной техники, а в установлении собственной позиции, на которой будет основан последующий выбор техник. Терапевт всегда должен действовать исходя из тезиса, что пациент сам сотворил собственное неблагополучие. Не по случайности, не из‑за злой судьбы и не из‑за генов пациент одинок и изолирован, страдает бессонницей, с ним постоянно плохо обращаются. Терапевт должен выявить роль данного конкретного пациента в его собственной дилемме и найти способы донести это знание до пациента. Пока человек не осознал, что сам сотворил собственную дисфорию, мотивация к изменениям отсутствует. Пока мы продолжаем верить, что причиной нашего неблагополучия являются другие, или невезение, или не удовлетворяющая работа – короче говоря, нечто вне нас, – зачем нам вкладывать энергию в личностное изменение? При такой убежденности стратегия действий, очевидно, должна быть не терапевтическая, а «активистская» – направленная на изменение собственной среды.
Готовность к принятию ответственности у разных пациентов очень различна. Для некоторых пациентов это чрезвычайно трудно и составляет основной груз терапевтической задачи: после принятия ими ответственности терапевтическое изменение наступает почти автоматически и без дальнейших усилий. Другие признают свою ответственность быстрее, но застревают, и не раз, на других стадиях терапии. Обычно сознание ответственности не растет равномерно единым фронтом: человек может принимать ее в одних вопросах и отрицать в других.
Самоосознание и установка метки
Терапевт прежде всего должен проявить внимание к теме определить ситуации и методы избегания ответственности и донести это знание до пациента. В зависимости от предпочитаемого стиля, терапевты используют огромный спектр техник, фокусирующих внимание пациента на ответственности. Вспомним нескольких примеров из начала части II. Терапевт, отвечающий на оправдание пациенткой своего поведения («Это было не намеренно. Я сделала это бессознательно») вопросом «Чье это бессознательное?», подталкивает ее к сознаванию ответственности. Так же, как терапевт, предлагающий пациенту «присвоить» то, что с ним случается (не «он пристает ко мне», а «я позволяю ему ко мне приставать»). «He‑могущий» колокольчик, призывающий участников группы поменять «не могу» на «не буду», – прием, который должен способствовать пробуждению ответственности. Пока человек верит в «не могу», он не сознает свой активный вклад в собственную ситуацию. Пациентке, получившей инструкцию говорить: «Я не изменюсь, мама, пока не изменится твое обращение со мной в то время, когда мне было десять лет!», по сути, предлагается подумать над своим отказом (а не неспособностью) меняться. Более того, ей предъявляется абсурдность ее ситуации, так же как и ее трагического и бесплодного принесения своей жизни на алтарь злопамятности.
Вера Гач и Морис Темерлин (Vera Gatch amp; Maurice Temerlin) изучали аудиозаписи психотерапевтических сессий и собрали коллекцию конфронтирующих (иногда без достаточной чуткости) интервенций, направленных на рост сознания ответственности:
«Когда один мужчина горько и пассивно жаловался, что его жена отказывается от полового контакта с ним, терапевт прояснил скрытый выбор замечанием: 'Вам должно нравиться в ней это, вы ведь так долго женаты'. Домохозяйка сетовала: 'Я не могу справиться со своим ребенком; все, что он делает – сидит и смотрит целый день телевизор'. Терапевт сделал скрытый выбор явным с помощью следующего замечания: 'А вы слишком малы и беспомощны, чтобы выключить телевизор'. Импульсивный, склонный к навязчивостям мужчина кричал: 'Остановите меня, я боюсь, что покончу с собой!' Терапевт сказал: 'Я должен остановить вас? Если вы действительно хотите покончить с собой по‑настоящему умереть, – никто не может вас остановить, кроме вас самого'. Один терапевт в разговоре с мужчиной пассивного, орально‑зависимого склада, который полагал, что жизнь ему не мила, потому что он страдает от безответной любви женщины старше его, начал петь: 'Бедный маленький ягненок, который заблудился'».
Общий принцип очевиден: в ответ на сетования пациента по поводу его жизненной ситуации терапевт интересуется, каким образом пациент создал эту ситуацию.
Часто бывает полезно, чтобы терапевт держал в голове первоначальные жалобы пациента и в подходящие моменты терапии соотносил их с позициями и поведением последнего в терапии. Пусть, например, пациент обратился за терапией в связи с переживаниями изоляции и одиночества. В процессе терапии он обсуждал свое чувство превосходства, свое презрение и пренебрежение по отношению к другим. Его сопротивление изменению этих позиций было велико – они эго‑синтонны и упрямо отстаиваются. Терапевт помог пациенту понять его ответственность за собственную неприятную ситуацию – всякий раз, когда пациент говорил о своем презрении к другим, комментируя: «И вы одиноки».
Пациенту, который возмущается ограничениями, присутствующими в его жизни, нужно помочь понять, какой вклад в эту ситуацию внес он сам, – например, предпочтя остаться в браке, имея две работы, держа трех собак, обзаведясь английским садом и т.д. Обычно жизнь становится настолько структурированной, что мы начинаем воспринимать это как данность, как некое твердое обиталище, в котором мы должны существовать, а отнюдь не как сплетенную нами самими паутину, которую можно сплести заново многими способами. Я убежден, что именно поэтому Отто Уилл спросил своего скованного, страдающего навязчивостями пациента: «Почему бы вам не сменить имя и не переехать в Калифорнию?» Он энергично конфронтировал пациента с его свободой, с тем фактом, что он реально свободен поменять структуру своей жизни – конституировать ее совершенно по‑иному.
Разумеется, на это есть готовое возражение: «Существует много такого, что изменить невозможно!» Человек должен зарабатывать на жизнь, должен быть отцом или матерью для своих детей, должен выполнять свои моральные обязательства. Должен мириться со своими ограничениями: паралитик не может ходить, малообеспеченный не имеет возможности уйти на пенсию, у стареющей вдовы мало шансов выйти замуж и т.д. Этот аргумент – фундаментальное возражение на тезис о свободе человека – появляется на любых стадиях терапии и столь важен, что я подробно рассмотрю его ниже.
Хотя эти техники установки метки и акцентирования ответственности имеют свое место в терапии, их эффективность ограничена. «Немогущие» колокольчики и лозунги типа «Возьмите на себя ответственность за свою жизнь» или «Присвойте свои чувства» часто останавливают внимание, но большинству пациентов одних призывов недостаточно, и терапевту нужно использовать методы более глубокого действия. Наиболее мощные известные в терапии методы включают анализ текущего («здесь‑и‑сейчас») поведения клиента в терапии с демонстрацией того, что в терапевтических условиях клиент микрокосмически воссоздает ту же ситуацию, с которой имеет дело в жизни. Как я покажу далее, психотерапевтический процесс действительно может быть специальным образом организован с целью фокусировки на сознании ответственности у клиента.
Ответственность и «здесь‑и‑сейчас»
Попытки терапевта анализировать рассказ пациента, демонстрируя его ответственность за жизненную ситуацию, нередко «теряются в песках». Например, пациентка вполголоса скажет: «Все это замечательно. Ему хорошо сидеть здесь в комфортабельном кабинете и говорить мне, что я сама себя в это загнала. Но он по‑настоящему не знает, какая садистская скотина мой муж» (или «какой у меня ужасный шеф», или «насколько действительно непреодолима моя компульсивность», или «что такое на самом деле мир бизнеса», или еще какая‑нибудь из неограниченного количества непреодолимых проблем). Этому сопротивлению нет пределов, поскольку, как знает каждый опытный психотерапевт, пациент отнюдь не является объективным наблюдателем своих жизненных перипетии. Пациент может использовать экстернализующие механизмы защиты или массу иных способов искажать факты так, чтобы они соответствовали его ожиданиям. Поэтому лишь в редких случаях терапевт может успешно стимулировать принятие ответственности, имея дело с пересказываемой информацией.
Эффективность терапевта значительно возрастает, когда он работает с материалом, манифестируемым в «здесь‑и‑сейчас» терапевтической ситуации. Сосредоточиваясь на возникших в процессе терапии переживаниях, к которым он сам причастен, терапевт может помочь пациенту в исследовании ответственности за проявляющееся «на глазах» поведение – еще до того, как оно в результате действия защитных механизмов потеряло отчетливость и доступность непосредственному наблюдению. Терапевтическое воздействие намного усиливается, когда терапевт фокусируется на инциденте или аспекте поведения, обнаруживающем очевидную близость с проблемой, приведшей пациента на терапию.
Случай пациентки Дорис может послужить клинической иллюстрацией. Она обратилась за терапевтической помощью из‑за тяжелой тревоги, сосредоточенной в основном вокруг отношений с мужчинами. Основная проблема пациентки, согласно ее описанию, состояла в том, что она вовлекается в отношения с мужчинами, которые плохо с ней обращаются,* и потом не может из этих отношений выпутаться. Она подвергалась абъюзу со стороны отца, первого мужа, теперешнего мужа и длинной вереницы начальников. Рассказ Дорис о своей проблеме был убедителен, и я был склонен сочувствовать ей в том, что злая судьба вновь и вновь бросала ее в лапы тиранических подонков. Она в течение нескольких месяцев посещала терапевтическую группу, когда у нее случился тяжелый приступ тревоги. Не в состоянии ждать до следующей групповой сессии, она позвонила мне однажды утром с просьбой как можно скорее провести индивидуальную встречу. С немалыми трудностями я перестроил свой день и согласился принять ее в три часа дня сегодня же. Без двадцати три она позвонила и оставила сообщение об отмене встречи. Несколько дней спустя, на групповой встрече, я спросил, что произошло. Она ответила, что тогда к середине дня ей стало немного лучше, а поскольку мои правила были таковы, что я мог индивидуально встретиться с участником группы лишь один раз в течение всего курса терапии, она решила сберечь свой час до того времени, когда он понадобится ей еще больше.
* В смысле «abuse», «абъюз» – Прим. переводчика.
Между тем я никогда не заявлял такого правила! Никогда бы я не отказался встретиться с пациентом в чрезвычайной ситуации. Ни один из участников группы не слышал, чтобы я делал подобное заявление. Но Дорис была убеждена, что я сказал ей это. Она сделала свой выбор: стала вспоминать другие инциденты наших с ней отношений, причем очень избирательно. Например, с удивительной четкостью она вспомнила единственное адресованное ей раздраженное замечание, сделанное мною за предшествующие месяцы (о ее монополистических тенденциях), и часто повторяла его в группе. Однако она забыла многие мои позитивные поддерживающие замечания, которые я делал в последующее время.
Взаимодействие Дорис со мной в микрокосме «здесь‑и‑сейчас» репрезентировало ее отношения с мужчинами и проясняло ее собственную роль (то есть ее ответственность) в порождении ее жизненной ситуации. Она искаженно воспринимала меня, так же как и других мужчин: всех нас она видела авторитарными и безразличными. Но из этого инцидента можно было узнать еще кое‑что. Я был сердит на Дорис за отмену встречи в последний момент, после того как я приложил такие усилия и освободил для нее время. Меня также раздражало ее упорное настаивание – несмотря на несогласие остальных семи членов группы – на том, что я ввел «правило» единственной индивидуальной сессии. С некоторым трудом я умерил свое раздражение и удержался на позиции терапевтической объективности, но теперь я легко мог вообразить, как трудно иметь дело с Дорис во внетерапевтической реальной жизненной ситуации.
Суть происшедшего заключалась в следующем: у Дорис были определенные представления о мужчинах, ожидания их определенного поведения по отношению к ней. Эти ожидания искажали ее восприятие, и перцептивные искажения заставляли ее вести себя так, что она вызывала то самое поведение, которого страшилась. Этот маневр, «самоактуализирующееся пророчество», является распространенным: индивид ожидает, что произойдет определенное событие, в результате ведет себя таким образом, чтобы это ожидание исполнилось, и, наконец, передает осведомленность о своем поведении бессознательному.
Для терапии Дорис этот эпизод был решающим, потому что он глубоко высветил ее базовую проблему. Если бы она поняла и приняла свою ответственность за то, как взаимодействовала со мной, ей нужно было бы сделать еще лишь небольшой шаг, требующий минимального обобщения, чтобы осознать свою ответственность за стиль отношений с мужчинами в своей жизни. Я полагаю, что терапевту следует «ухватиться» за такой эпизод и крепко за него держаться. Я открыто установил соответствующую метку и подчеркнул его важность: «Дорис, я думаю, что произошедшее между вами и мной имеет исключительное значение, потому что дает важный ключ к некоторым проблемам, существующим между вами и мужчинами в вашей жизни». Если пациент еще не готов принять интерпретацию, повторите ее позже, когда появятся дополнительные подтверждающие свидетельства или отношения между терапевтом и пациентом станут более прочными.
Сознавание собственных чувств – важнейшее средство терапевта для определения вклада пациента в его жизненные трудности. Примером может послужить случай одной сорокавосьмилетней женщины, горько жаловавшейся на то, как с ней обращаются ее дети. Они отвергали ее мнения, вели себя с ней бесцеремонно и в серьезных ситуациях адресовали свои замечания отцу. Настроившись на свои чувства к ней, я отметил ноющие нотки ее голоса, побуждавшие меня не принимать ее всерьез и обращаться с ней как с ребенком. Я поделился своим ощущением с пациенткой, и это оказалось крайне полезным для нее, поскольку помогло ей осознать свое инфантильное поведение во многих других ситуациях. Анализ наблюдаемого «здесь‑и‑сейчас» (ее нытья) был крайне важен для разрешения загадки обращения с нею ее детей. В конце концов, они лишь следовали ее собственной инструкции, обращаясь с ней именно так, как она просила (невербально посредством нытья, ссылок на свою слабость и своей депрессивной беспомощности).
Избегание ответственности пациентом воспроизвелось не только в отношениях пациент‑терапевт, но также в общей позиции пациента по отношению к терапии. Пациент – порой с молчаливого согласия терапевта – может удобно, пассивно и прочно угнездиться в терапии, не ожидая, чтобы что‑нибудь произошло, а если и ожидая – то чего‑то, исходящего от терапевта.
Если у терапевта есть ощущение, что пациент возложил на него тяжелое бремя, и уверенность, что без его собственных усилий ничего полезного в течение сессии не произойдет, значит, он позволил пациенту переложить ношу ответственности с собственных плеч на плечи терапевта. В терапии с этим можно работать различными способами. Большинство терапевтов предпочитают рефлексию. Они могут высказать в порядке комментария: возникает впечатление, что пациент стремится все «выгрузить» на терапевта, или что терапевт не ощущает активного сотрудничества пациента в терапии. Или терапевт может поделиться своим ощущением, что несет весь груз терапии. Или, наконец, терапевт может счесть, что нет более сильного способа пробудить вялого пациента к действию, чем просто спросить его: «Почему вы пришли?»
На подобные терапевтические интервенции пациенты нередко отвечают одной из типичных реакций сопротивления, центрирующихся на сюжете: «Я не знаю, что делать», или «Если бы я знал(а), что мне делать, мне бы не понадобилось приходить сюда», или «Скажите мне, что мне нужно делать». Пациент принимает облик беспомощности. В действительности, в процессе настаивания на том, что он не знает, что ему делать, пациент уже получил много явных и скрытых направляющих указаний от терапевта. Но при этом он не раскрывает свои чувства; не может вспомнить свои сны (или слишком устает, чтобы их записывать, или забывает положить бумагу и карандаш рядом с кроватью); предпочитает обсуждать интеллектуальные проблемы или вовлекать терапевта в бесконечные дискуссии о том, как работает терапия. Любому опытному психотерапевту известно, что проблема – не в незнании пациента, что ему делать. Все эти гамбиты отражают одно: отказ пациента принимать ответственность за изменение точно так же, как вне терапии он отказывается принимать ответственность за жизненные неприятности.
Иллюстрацией к вышесказанному может служить случай с Рут, пациенткой терапевтической группы. Она избегала ответственности во всех сферах жизни. Она была отчаянно одинока: не имела близких подруг, а все ее отношения с мужчинами разрушались, потому что ее потребность в зависимости оказывалась слишком велика для ее партнеров. Более трех лет индивидуальной терапии не дали эффекта. Индивидуальный терапевт Рут говорил об ощущении «свинцовой тяжести» от нее в терапии: она не давала никакого материала, кроме цикличных раздумий о своих проблемах с мужчинами, никаких фантазий, никаких данных по переносу и за три года – ни единого сна. В отчаянии индивидуальный терапевт рекомендовал ей терапевтическую группу. Но и в группе Рут воспроизвела свою позицию беспомощности и пассивности. В течение шести месяцев она не работала в группе и никак не продвинулась.
На одной встрече, имевшей для нее решающее значение, она принялась оплакивать тот факт, что группа ей не помогает, и заявила, что у нее есть сомнения: правильная ли это группа и правильная ли терапия для нее?
Терапевт: Рут, ты делаешь здесь то же самое, что вне группы. Ты ждешь, чтобы что‑то произошло. Как группа может быть полезна тебе, если ты ее не используешь?
Рут: Я не знаю, что делать. Я прихожу сюда каждую неделю, и ничего не происходит. Я ничего не получаю от терапии.
Терапевт: Конечно, ты ничего от нее не получаешь. Как может произойти что‑то, когда ты ничего для этого не делаешь?
Рут: Я сейчас чувствую себя как будто «выключенной». Я не могу собрать мысли, чтобы что‑то сказать.
Терапевт: Такое ощущение, что тебе важно никогда не знать, что сказать или сделать.
Рут (плача): Скажи мне, что ты хочешь, чтобы я делала. Я не хочу быть такой всю жизнь. Я ездила за город в этот уик‑энд: все остальные были на седьмом небе от счастья, все цвело, а я от начала до конца была совершенно несчастна.
Терапевт: Ты хочешь, чтобы я сказал тебе, что делать, хотя и сама неплохо представляешь, как могла бы лучше работать в группе.
Рут: Если б я знала, я бы так и делала.
Терапевт: Наоборот! Ты очень боишься, когда можешь что‑то сама для себя сделать.
Рут (рыдая): И вот я опять в том дерьме. В голове у меня сплошная каша. Ты раздражен на меня. Я в этой группе чувствую себя хуже, а не лучше. Я не знаю, что делать.
На этом месте подключилась вся группа. Один из участников высказался в резонанс с Рут, заявив, что находится в такой же ситуации. Двое других выразили свое раздражение по поводу ее вечной беспомощности. Еще один правильно отметил, что в группе идет бесконечная дискуссия о том, как участвовать в ней более эффективно (собственно говоря, этому вопросу была посвящена немалая часть предыдущей сессии). Кто‑то сказал: у нее бесчисленное множество возможностей. Она может говорить о своих слезах, своей печали, своей травмированное. Или о том, какая жестокая скотина терапевт. Или о своих чувствах по отношению к любому из членов группы. Она знала, и все знали, что она знает об этих возможностях. «Почему, – задалась вопросом группа, ей нужно сохранять позицию беспомощности и псевдослабоумия?»
Стимулированная таким образом. Рут сказала, что уже три недели, как она решила обсудить в группе свои чувства по отношению к другим участникам, но всякий раз отказывалась от этого. Она заявила, что сегодня хочет поговорить о том, почему ни разу не осталась пить кофе после групповой сессии. Она хотела бы остаться на кофе, но не делала этого, опасаясь сближения с Синтией (другой участницей), чтобы та – по ее мнению, находящаяся в исключительно ном состоянии не начала звонить ей среди ночи с призывом о помощи. Последовало интенсивное взаимодействие с Синтией, вслед за чем Рут открыто выразила свои чувства по поводу еще двух членов группы, к концу сессии проделав больше работы, чем за все предшествующие шесть месяцев. В этой иллюстрации важно то, что стенания Рут «Скажите мне, что делать» являлись утверждением ухода от ответственности. Когда она получала достаточную стимуляцию, то очень хорошо знала, что делать в терапии. Но она не хотела знать, что делать! Она хотела, чтобы помощь и изменение пришли извне. Ей было страшно помочь себе, быть своей собственной матерью: это подводило слишком близко к пугающему знанию о том, что она свободна, ответственна и фундаментально одинока.
Принятие ответственности в групповой терапии
Концепция терапии как социального микрокосма – условий, и которых пациент не только описывает, но и воспроизводит свою психопатологию «здесь‑и‑сейчас» – релевантна всем видам терапии (индивидуальной, супружеской, семейной, групповой). Особенно она уместна по отношению к групповой ситуации. Во‑первых, большое число людей – от восьми до десяти, включая терапевта или терапевтов – создают условия для активизации большинства конфликтных тем пациента. В индивидуальной терапии взаимодействие с терапевтом нередко позволяет пациенту пережить свои конфликты, связанные с фигурами власти, авторитетом, с родительскими фигурами или их заместителями. Но в условиях группы взаимодействие пациента со многими людьми активизирует столько межличностных тем (сиблинговое соперничество, гетеросексуальность, гомосексуальность, соперничество с равными, интимность, самораскрытие, щедрость, отдавание и получение и т.д.), что у нас есть все основания рассматривать групповую терапию как миниатюрную социальную вселенную для каждого из участников группы.
«Здесь‑и‑сейчас» малой группы общения обеспечивает оптимальные условия для терапевтической работы, посвященной сознаванию ответственности. Один из самых привлекательных аспектов групповой терапии состоит в том, что все участники «рождаются» одновременно, вес начинают в группе на равных. Каждый, видимым для остальных членов группы и – если терапевт делает свое дело – для себя образом, постепенно углубляет и отделывает свою нишу, формирует свое жизненное пространство в группе. Каждый ответственен за позицию в межличностных отношениях, которую вырабатывает для себя в группе (и, аналогично, в жизни), и за череду случающихся с ним событий. Группа имеет много глаз. Каждому ее участнику не обязательно принимать в качестве реальности рассказы других участников о том, как они являются жертвой внешних событий и людей. Если группа функционирует на уровне «здесь‑и‑сейчас» (то есть сконцентрирована прежде всего на проживании и анализе межличностных отношений), ее члены могут наблюдать, как каждый сам творит свою позицию жертвы, – и в конце концов возвращать эти наблюдения тем, кого они касались.
Хотя мы, терапевты, нечасто думаем о групповом процессе с этой точки зрения, я полагаю, что главная групповая активность, особенно на начальных стадиях терапии, направлена на осознание каждым членом группы персональной ответственности. Почему мы побуждаем участников быть прямыми и честными в группе (то есть быть самими собой)? Почему мы поощряем обратную связь? Почему подталкиваем участников делиться своими впечатлениями и чувствами, связанными с другими членами группы?
Я полагаю, что групповой терапевт – зачастую сам того не сознавая стремится провести каждого пациента через следующие этапы:
Пациент узнает, как его поведение видят другие. С помощью обратной связи, а позднее – самонаблюдения пациент научается смотреть на себя глазами других.
Пациент узнает, какие чувства у других вызывает его поведение.
Пациент узнает, как его поведение формирует мнения других людей о нем. Участники группы узнают, что на основе их поведения другие ценят их, недолюбливают, находят неприятными, уважают, избегают, используют, боятся и т.д.
Пациент узнает, как его поведение влияет на его собственное мнение о себе. Исходя из информации, собранной на трех первых этапах, пациенты формируют самооценку: они выносят суждения относительно своей самоценности и привлекательности и приходят к пониманию того, как эти суждения обусловливаются их поведением.
Каждый этап основан на собственном поведении пациента и направлен на демонстрацию последствий этого поведения. Конечным результатом всей последовательности является понимание членом группы своей ответственности за то, как его видят, как с ним обращаются и как к нему относятся. Более того, человек ответственен и за то, каким образом он сам относится к себе. То, что групповой опыт для каждого есть микрокосм жизненного опыта – факт очевидный и не опровержимый; моя практика свидетельствует о том, что пациенты не испытывают трудностей при распространении картины своих индивидуальных реакций с внутригрупповых условий на жизненные. Пациент, достигший этой точки, встал на путь изменении, и теперь терапевт берет курс на активизацию волевого процесса, который я буду обсуждать в следующей главе.
Терапевтическая группа общения повышает сознавание ответственности, не только позволяя участникам осознать собственный вклад в свою неудовлетворительную жизненную ситуацию, но также и акцентируя роль каждого члена группы в групповой ситуации. Основополагающий принцип состоит в следующем: когда участники принимают ответственность за функционирование группы, они приходят также к осознанию своей способности (и обязанности) принятия ответственности во всех сферах жизни.
Эффективная групповая терапия – это такая терапия, когда члены группы сами являются главными агентами помощи. Вспоминая успешный опыт групповой терапии, пациенты редко связывают улучшение своего состояния исключительно с терапевтом – с его конкретными комментариями или в целом с отношениями с ним. Обычно они приводят также тот или иной аспект отношений с другими членами группы: поддержку; конфликт и его разрешение; принятие наконец – это происходит часто – опыт полезности другим. Группа, ориентированная на лидера, не может стимулировать подобные события, и зачастую вся надежда и вся помощь рассматриваются ею как исключительная инициатива лидера. (По моему мнению, такие лидер‑центрированные подходы, как гештальттерапевтические группы и трансакционный анализ, не позволяют полностью использовать терапевтический потенциал групповой работы).
В связи с этим важно, чтобы лидер группы сознавал свою задача создания социальной системы – системы, в которой группа и ее участники сами являются агентами изменения. Лидер должен остро чувствовать, где помещается групповая ответственность. Если он с унынием ожидает групповых встреч, а в конце их чувствует себя усталым и измотанным, ясно, что в терапевтической культуре этой группы что‑то серьезно не так. Если у лидера есть ощущение, что все зависит от него: если он не будет работать, то ничего не произойдет, а члены группы напоминают любителей кино, зашедших посмотреть, какой фильм идет на этой неделе, значит, участники терапевтической группы благополучно переложили тяжесть ответственности на плечи терапевта.
Как может групповой терапевт способствовать формированию группы, принимающей ответственность за собственное функционирование? Во‑первых, лидер должен отдавать себе отчет в том, что он, как правило, является единственным человеком в группе, который на основе прошлого опыта довольно четко представляет себе, как должна выглядеть хорошая, рабочая групповая встреча, в отличие от «нерабочей». Лидер должен помочь участникам выработать такое определение и затем стимулировать их к соответствующим действиям. Здесь применим ряд техник. Лидер может использовать проверки процесса – время от времени вторгаться в ход встречи, предлагая участникам оценить, как для них проходила встреча в течение последних примерно тридцати минут. Если сессия тянется мучительно и тяжело, лидер может предложить всем сравнить ее с предыдущей, динамичной сессией, чтобы участники постепенно научались различать рабочие и нерабочие встречи. Если все согласны, что сессия получилась плодотворная и эффективная, лидер предлагает участникам зафиксировать ее для себя как стандарт, с которым можно сопоставлять последующие встречи.
Если в ответ на предложение лидера об оценке встречи участник отвечает, что он был вовлечен в нее только первые пятнадцать минут, а затем, после того как Джо или Мэри начали говорить, «отключился» на следующие тридцать минут, – лидер может разными способами поставить вопрос, почему этот участник дал сессии продолжаться бесполезным лично для него образом. Как мог бы этот человек придать ей иное направление? Если лидер, например, проведет голосование и обнаружит общее согласие по вопросу о бесполезности сессии, он может затем спросить: «Похоже, что все вы так думали. Почему вы не остановили работу и не перенаправили ее? Почему мне предоставлено делать то, что здесь способен сделать каждый?» Разумеется, возможно множество вариаций этой техники, в зависимости от стилистических предпочтений терапевта. Важна базовая стратегия, состоящая в том, чтобы поощрять пациентов через принятие ответственности за свою терапию принять ответственность за свою жизнь.
Терапия в больших группах. Тот же принцип действует в больших терапевтических группах. Задача помощи пациенту в принятии персональной ответственности явилась главным стимулом создания терапевтической общины. Помещение в психиатрическую больницу всегда было связано с переживанием утраты автономии: пациент лишен власти распоряжаться собой и принимать решения, лишен свободы, достоинства. Максвелл Джонс (Maxwell Jones) разработал устройство терапевтической общины как больницы, которая скорее повышает, чем снижает опыт автономии пациента. Режим больничной палаты был реорганизован таким образом, что пациенты несли широкую ответственность за свое лечение и свою среду Орган управления пациентов имеет право утверждать или отменять, больничные правила поведения, отпуска, решения низшего медицинского персонала, даже выписку и режим приема препаратов.
Синоним принятия ответственности – «управление жизнью». Во многих терапевтических подходах акцентируется обучение навыкам управления жизнью. Объединения пациентов в терапевтической общине совместно осуществляют управление жизнью – это «контрактные» группы, в которых рассматривается «контракт» каждого пациента (соглашение, посвященное взятию на себя управления своей жизнью) и обсуждаются различные вопросы контракта. Затем группа может систематически фокусироваться на обсуждении того, что каждый из участников может сделать для управления такими конкретными сферами, как личные финансы, физическое здоровье или социальная среда.
Принятие ответственности и терапевтический стиль
Активность и пассивность. Стремясь содействовать принятию ответственности, терапевт нередко оказывается перед дилеммой. Слишком активный терапевт подавляет активность пациента; слишком пассивный внушает ему ощущение бессилия. Эта проблема особенно ярко выражена в случае использования психоаналитической техники, где скупость поведенческих проявлений и относительная бездеятельность аналитика порой питает продолжительную зависимость пациента. Милтон Мазер (Milton Mazer) – аналитик, обеспокоенный такой ситуацией, – указывает, что чрезмерная пассивность терапевта может воспрепятствовать принятию ответственности пациентом:
«…Пассивность аналитика в то время, когда пациент выражает свою беспомощность, подтверждает в глазах пациента то, во что он предпочитает верить, а именно, что он не отвечает за свои действия и потому может просто следовать своим импульсам. Не получая ни единого слова предупреждения или определения возможных последствий, не имеет ли он определенных оснований заключить, что не в силах сам себе помочь, – тем более, что это заключение оказывается на руку его влечениям?»
Мазер также предупреждает, что альтернатива – чрезмерная активность, проявляемая в форме руководства или установления границ, – тоже может помешать принятию ответственности: «Мы далеки от мысли советовать аналитику запрещать пациенту тот или иной поступок, поскольку это также означало бы, что пациент воспринимается не отвечающим за себя и сдерживаемым лишь внешней силой – авторитетом аналитика».
Как удерживать средний курс? Какую позицию содействия может занять терапевт? Мазер предлагает терапевту пытаться помочь пациенту осознать процесс выбора:
«…Это функция аналитика – указать пациенту на то, что тот находится в процессе решения, предпринимать ли конкретное действие; тем самым он ясно очерчивает ответственность пациента за свое будущее. Таким образом, пациент получает шанс сделать выбор между невротической вынужденностью и ответственной свободой. Если он способен выбрать ответственную свободу, то сумеет пробить первую брешь в своей невротической структуре».
Иными словами, терапевт концентрируется на усилении сознавания пациентом того факта, что (нравится ему это или нет) он стоит перед выбором и не может избежать этой свободы.
Другие терапевты искали более активные пути стимулировать принятие ответственности. Например, приверженцы трансакционного анализа делают большую ставку на терапевтический «контракт». Первичные сессии они посвящают не установлению диагноза (что лишь подчеркивает определение отношений пациента и терапевта как отношений целителя и исцеляемого), а формированию контракта. Контракт должен исходить от самого индивида, а не ожиданий других людей (заключенных в эго‑состоянии «родителя»), интернализованных в виде «должен» и «следует». Кроме того, контракт должен быть ориентирован на действие: не «понять себя лучше», а «я хочу сбросить тридцать фунтов» или «я хочу быть способным иметь эрекцию со своей женой по крайней мере раз в неделю». Ставя конкретные достижимые цели – цели, определенные самим пациентом, – и постоянно обращая внимание пациента на взаимосвязь между работой в терапии и этими целями, трансакционные терапевты стремятся повысить ощущение ответственности пациента за его индивидуальное изменение.
Активные указания со стороны терапевта, при надлежащем применении, могут быть использованы для повышения осознания. Я не имею здесь в виду ситуацию, когда терапевт работает вместо пациента, принимая решения и вообще говоря ему, как жить. Однако бывают обстоятельства, когда терапевт может предложить что‑то, являющееся очевидным поведенческим выбором, но никогда не рассматривавшееся пациентом вследствие ограниченности его поля зрения. В подобных случаях вопрос «Почему бы нет?» бывает порой полезней, чем вопрос «Почему?» Последует ли пациент совету – не столь важно; главное в этой процедуре – привлечь внимание пациента к тому факту, что он не взвешивал очевидные возможности. Далее в терапии можно остановиться на возможности выбора, на мифе об отсутствии выбора и на чувствах, вызываемых конфронтацией со свободой. Иллюстрацией служит следующая клиническая виньетка.
Джордж – успешный тридцатилетний стоматолог, основная проблема которого обусловливалась избеганием ответственности. Прежде он был женат, но брак развалился, по сути – из‑за его зависимой позиции по отношению к жене, а конкретно – потому что он «оказался» в связи с другой женщиной. С тех пор усилия Джорджа принять решение относительно второго брака были для него сущей пыткой. Он должен был выбрать одну из нескольких женщин, которые все были в нем заинтересованы, и всячески старался подвигнуть других – своих друзей, своего терапевта и самих женщин принять решение за него.
Эпизод, прояснивший для него трудность принятия ответственности, был связан с визитом к родителям, которых он навещал примерно раз в год. Его отец всегда считался семейным злодеем, и у Джорджа с ним неизменно были весьма конфликтные и неудовлетворительные для обоих отношения. На протяжении более чем десяти лет темой их борьбы были автомобили. Когда Джордж приезжал домой, он хотел использовать один из автомобилей семьи, и его отец, автомеханик, всякий раз возражал, заявляя, что ему самому нужна эта машина или что она неисправна. Свою мать Джордж описывал как сильную женщину, контролирующую все аспекты жизни семьи, за исключением автомобилей единственной области, где она позволяла своему мужу доминировать.
Джордж ожидал предстоящего визита к родителям со значительным беспокойством. Он заранее знал, что произойдет: он захочет пользоваться машиной; отец станет возражать под тем предлогом, что тормоза или покрышки находятся в плохом состоянии; затем начнет оскорблять его и спрашивать, почему сын не может быть мужчиной и арендовать автомобиль. «Что это за семья? – вопрошал Джордж. – Я вижусь с ними раз в год, а они даже не удосуживаются заехать за мной в аэропорт».
«Почему не арендовать автомобиль? – спросил я его. – Такая ли это странная мысль? Почему вы никогда не думали об этом? В конце концов, вы зарабатываете в четыре раза больше своего отца, не женаты и не имеете особых расходов. Что для вас несколько лишних долларов в день?» Джордж, казалось, был ошеломлен моим вопросом. При всей очевидности этой идеи, было ясно, что прежде она никогда не приходила ему в голову. Теперь он подумал об этом и на следующий день позвонил семье, чтобы сообщить о своем скором приезде. Джордж сказал матери, что он мог бы арендовать машину, и в ответ она мгновенно заверила его, что автомобиль теперь в порядке, отец заедет за ним в аэропорт, они очень ждут встречи с ним и нечего думать о каких‑то еще автомобилях и прочих транспортных средствах.
Неизбежная сцена в аэропорту состоялась. Отец приветствовал его словами: «Почему ты не арендовал автомобиль? Посмотри‑ка на ту стойку. Там ты мог бы арендовать машину за восемь девяносто пять». Между ними произошла шумная неприятная ссора. В конце концов Джордж ринулся к стойке оформления аренды и взял напрокат машину, с гневом и чувством собственной правоты надменно отказавшись от предложения отца заплатить за нее. Домой они с отцом ехали на разных машинах. Отец сразу ушел в спальню, а рано утром отбыл на работу. Поскольку Джордж приехал всего на день, он больше не увиделся с отцом.
В терапии мы обсуждали этот инцидент очень подробно. Джордж считал его типичным примером семейного взаимодействия и оправданием своего нынешнего психического состояния. «Если даже сейчас это вывело меня из равновесия, представьте, каково было расти в такой семье». Джордж считал, что это особенно хорошо объясняло причину его сомнений по поводу собственной мужественности: стоит только подумать о модели, которую являл собой отец, и о том, насколько невозможно с ним разговаривать.
Я предложил совершенно иную точку зрения. Насколько серьезно он пытался поговорить с отцом? Можно понять позицию отца: мать предложила сыну его услуги, не посоветовавшись с ним самим, словно он был семейной прислугой. Отец Джорджа ощущал свое подчиненное положение, злился и пытался самоутвердиться в единственной области, где имел впасть – в области использования автомобиля. Но делал Джордж для того, чтобы поговорить со своим отцом? Разве он не мог поговорить с ним по телефону, так же, как с матерью? помешало ему просто позвонить отцу и сказать: «Папа, я арендую автомобиль в аэропорту, потому что он будет мне нужен на следующий день. До десяти меня не будет, но дождись меня, пожалуйста, чтобы мы могли поговорить». Джордж имел вид совершенно ошеломленный. «Это невозможно!» – воскликнул он. «Почему?» – «Я не могу говорить с отцом по телефону. Вы просто не знаете мою семью, вот что».
Но у Джорджа сохранялось смутное чувство вины по отношению к отцу – этому седовласому, упрямому старику, выжившему в концентрационном лагере и в течение тридцати лет каждый день в шесть утра уходившему на работу, чтобы его четверо детей закончили колледж и получили высшее образование. «Напишите ему письмо и расскажите о своих чувствах», – предложил я. Джордж вновь выказал ошеломленность моим советом, так же, как раздражение моей наивностью. «Это невозможно!» «Почему?» – спросил я. «Мы не пишем писем. Я ни разу в жизни не написал отцу письмо». «И вы еще жалуетесь, что отчуждены от него и не в состоянии с ним общаться. Если вы действительно хотите с ним общаться, сделайте это. Напишите ему. Никто вам не помешает. Вам не на кого это свалить».
Этот незамысловатый обмен мнениями в большой мере лишил Джорджа душевного равновесия, и в тот вечер он с дрожью и слезами сел сочинять письмо отцу – письмо, которое должно было начинаться словами «Дорогой папа», а не «Дорогие мама и папа» или «Дорогие родители». Судьба захотела устроить так, что в тот же самый вечер дух свободы и ответственности сделал что‑то с отцом Джорджа: прежде чем сын закончил свое письмо, отец позвонил ему, чтобы извиниться. Ни разу в жизни до этого отец ему не звонил. Джордж рассказал отцу о письме, которое он писал, и был так растроган, что рыдал как ребенок. Достаточно сказать, что отношения между Джорджем и отцом с тех пор уже никогда не были прежними и анализ непосредственных уверений Джорджа в «невозможности» звонка отцу или написания ему письма открыл нам богатые перспективы терапии.
Фриц Перлз, гештальт‑терапия и принятие ответственности. Что касается темы ответственности, то никто из сторонников активного терапевтического стиля не был энергичнее и изобретательнее Фрица Перлза. Базовая идея, лежащая в основании подхода Перлза, состоит в том, что избегание ответственности должно быть признано и лишено привлекательности.
«Пока вы боретесь с симптомом, он усугубляется. Если вы принимаете ответственность за то, что делаете с собой, за то, как порождаете свои симптомы, как порождаете свою болезнь, как порождаете свое существование, – в тот самый момент, когда вы входите в контакт с собой, – начинается рост, начинается интеграция».
Перлз был остро чувствителен к использованию (или избеганию использования) пациентом первого лица и к любым переходам от активного тона к пассивному:
«Мы слышим пациента вначале деперсонализующим себя в неодушевленный предмет, в это,* а затем становящимся пассивным объектом воздействия превратностей своенравного мира. 'Я сделал это' превращается в 'Это случилось'. Я вижу, что вновь и вновь должен прерывать людей, предлагая им вступить во владение самими собой. Мы не можем работать с чем‑то, что происходит где‑то в другом месте и случается с кем угодно. И потому я прошу их найти свой путь от фразы „Это занятой день“ к фразе „Я все время занят“, от „Это получается долгий разговор“ к „Я много говорю“. И так далее».
* В оригинале использовано слово «it», обозначающее неодушевленный предмет или не человеческое (и не очеловеченное) живое существо. – Прим. переводчика.
После того, как Перлз устанавливал присущие данному пациенту способы избегания ответственности, он побуждал его вновь вернуться от беспомощности к нежеланию, а также брать на себя ответственность за каждый жест, каждое чувство, каждую мысль. Иногда Перлз применял структурированное упражнение «Я беру ответственность»:
"Мы предлагаем пациенту к каждому утверждению добавлять: «…и я беру ответственность за это». Например: «Я сознаю, что двигаю своей ногой… и я беру ответственность за это». «Мой голос очень тих… и я беру ответственность за это». «Теперь я не знаю, что сказать… и я беру ответственность за незнание».
Перлз предлагал пациентам принимать ответственность за все их внутренние конфликтующие силы. Если перед пациентом стояла мучительная дилемма и, обсуждая ее, он ощутил ком в животе, Перлз предлагал ему побеседовать с этим комом. «Помести ком на другой стул и поговори с ним. Ты будешь исполнять свою роль и роль кома. Дай ему голос. Что он говорит тебе?» Таким образом он предлагал пациенту взять на себя ответственность за обе стороны конфликта, чтобы тот отдал себе отчет в том, что ничего само собой не «случается» с нами, что мы – авторы всего: всякого жеста, всякого движения, всякой мысли.
Терапевт: Ты сознаешь, что делают твои глаза?
Пациентка: Да, теперь я понимаю, что мои глаза все время смотрят в сторону…
Терапевт: Ты можешь взять на себя ответственность за это?
Пациентка:…что я все время отворачиваюсь от тебя.
Терапевт: Ты можешь быть сейчас твоими глазами? Напиши текст для них.
Пациентка: Я – глаза Мэри. Мне трудно смотреть в одном направлении. Я все время прыгаю и мечусь туда‑сюда.
Перлз считал, что каждый из наших симптомов мы выбираем; «незавершенные» или невыраженные чувства находят свой путь на поверхность, принимая саморазрушительные, неудовлетворяющие формы. (Это источник термина «гештальттерапия». Перлз пытался помочь пациентам завершать их гештальты – их неоконченные дела, их блокированное сознавание, их избегаемую ответственность.)
Подход Перлза к ответственности иллюстрируется описанием терапевтической встречи:
«Две недели назад у меня было чудесное переживание – если не исцеления, то по меньшей мере раскрытия. Человек был заикой, и я попросил его усилить свое заикание. В то время как он заикался, я спросил его, что он чувствует в горле, и он сказал: „Словно я сам себя душу“. Тогда я обнял его и сказал: „Послушай‑ка, души меня“. „Черт возьми, я могу убить тебя!“ – ответил он. Он по‑настоящему соприкоснулся со своей агрессией и говорил громко, без всяких затруднений. Итак, я показал ему, что у него есть экзистенциальный выбор – быть агрессивным человеком или быть заикой. Вы же знаете, как может замучить заика: как он может держать в тягостной неизвестности. Всякая агрессия, которая не выходит наружу, не течет свободно, обернется садизмом, тягой к власти и другими средствами пытки».
Такой подход к симптомам, когда пациенту предлагается воспроизвести или усилить симптом, зачастую открывает эффективный путь стимуляции принятия ответственности: намеренно продуцируя симптом, в данном случае заикание, индивид начинает сознавать, что этот симптом его, что он является его собственным творением. Несколько других терапевтов одновременно пришли к той же технике, правда, не концептуализируя ее в терминах принятия ответственности. Виктор Франкл, например, описывает технику «парадоксальной интенции», согласно которой пациенту предлагается намеренно усиливать симптом, будь то атака тревоги, компульсивная азартная игра, страх сердечного приступа или оргии обжорства. Дон Джексон, Джей Хейли, Милтон Эриксон и Пол Вацлавик писали об этом подходе, называя его «предписанием симптома».
Перлз создал уникальную методику работы со сновидениями, тщательно продуманную таким образом, чтобы способствовать принятию ответственности индивидом за все его психические процессы. На протяжении большей части своей истории люди рассматривали сновидения как феномен, находящийся за пределом персональной ответственности. Эта точка зрения выражена в часто употребляемой идиоме: желая отрицать мыслительный акт, человек говорит: «Мне это и не снилось». До эпохи динамической психологии Фрейда сны в основном рассматривались как божественные посещения извне или случайные события. Например, одна теория утверждала, что когда клетки коры спят и происходит очистка от токсичных метаболитов, накопившихся за прошедший день, группы клеток «пробуждаются» строго случайным образом. Согласно этой теории, сновидение обусловлено разрядами пробуждающихся клеток: абсурдное содержание большинства снов, таким образом, является функцией случайной последовательности клеточных разрядов; вразумительный сон счастливо возникает примерно по тому же механизму, по которому стая обезьян, стучащих на пишущих машинках, вдруг случайно составляет удобопонимаемый абзац.
Фрейд убедительно доказывал, что сны – не игра случая и не результат внешнего посещения, а продукт активности конфликтующих, взаимодействующих компонентов личности: импульсов Ид, дневных подсознательных остатков, цензора сновидений (деятельности бессознательного «машиниста сцены» Эго), сознательного Эго («вторичной ревизии»). Хотя Фрейд пришел к выводу, что единственным автором сновидений является индивид – или, по крайней мере, взаимодействие указанных индивидуальных аспектов, – «секционирование», характеризующее его теорию, по утверждению Перлза (совершенно правильному взгляд), приводило к тому, что персональная где‑то в щелях между отдельными секциями.
Перлз, который называл сон «экзистенциальным курьером», стремился максимализировать индивидуальное сознание собственного авторства сна. Прежде всего, Перлз пытался оживить сон путем изменения его временного модуса: он предлагал пациенту повторить сон, употребляя настоящее время, и затем воспроизвести его драматически, превратив в пьесу, где пациент выступает в качестве директора, бутафоров и актеров. Пациенту предлагается играть роли всех объектов драмы сновидения. Например, я наблюдал работу Перлза с пациентом, которому приснилось, как он вел свою машину, мотор которой начал чихать и в конце концов совсем заглох. Инструктируемый Перлзом пациент играл многие роли водителя, машины, пустого бензобака, плохо работающих свечей зажигания и т.д. С помощью этой стратегии Перлз надеялся достичь того, чтобы пациент начал собирать разрозненные куски своей личности в единое целое (то есть завершать индивидуальный гештальт).
Принятие ответственности для Перлза означает, что пациент должен взять на себя ответственность за все свои чувства, включая неприятные, часто проецируемые на других.
«Мы не готовы принять ответственность за свою критичность, поэтому, проецируем критицизм на других. Мы не хотим принять ответственность за свою пристрастность, поэтому проецируем ее вовне и затем живем со страхом отвержения. Одна из самых важных наших ответственностей – за то, чтобы принять ответственность за свои проекции и стать тем, что мы проецируем».
После того, как мы возвращаем себе все прежде отвергнутые части самих себя, наше проживание жизни становится богаче: внутри себя и внутри своего мира мы чувствуем себя «дома».
«Несомненно, принятие ответственности за свою жизнь тождественно богатству проживания и способностей. И что я надеюсь осуществить это… привести вас к пониманию того, как много вы выиграете, приняв ответственность за каждую эмоцию, за каждое ваше движение – и сбросив с себя ответственность за всякого другого…»
Сбрасывание «ответственности за всякого другого» чрезвычайно важно для психотерапевта. Перлз остро сознавал усилия пациента манипулировать другими, особенно терапевтом, для того чтобы они взяли на себя заботу о нем.
«Перед терапевтом стоят три непосредственные задачи. распознать, как именно пациент пытается получить поддержку от других, вместо того чтобы стоять на собственных ногах, избежать „втягивания“ и заботы о пациенте, понять, что делать с манипулятивным поведением пациента».
Не быть «втянутым» довольно трудно, и терапевт должен привыкнуть к тому, чтобы распознавать многочисленные и разнообразные приемы уговаривания, используемые пациентом, и не поддаваться им:
«Я в этой ситуации не могу справиться, а вы можете. Я 'нуждаюсь' в том, чтобы вы показали, как мне дальше жить свою жизнь. Иногда речь на самом деле идет вовсе не о жизни, а о существовании, включающем ряд предложении, которые пациент делает людям, с радостью готовым управлять другими. Терапевт – лишь последняя попытка. Остается надеяться, что здесь 'фишка остановится'».
Стремясь противодействовать манипулированию собой, Перлз занимал крайнюю позицию в деле «остановки фишки». Свои мастерские он начинал следующим образом:
«Если вы хотите свихнуться, покончить с собой, улучшить свое состояние, „зарядиться“ как следует или получить опыт, который изменит вашу жизнь, – это ваше дело. Я делаю свое, а вы свое. Всякий, кто не желает взять на себя ответственность за это, пожалуйста, не ходите на этот семинар. Вы пришли сюда по вашей собственной свободной воле. Я не знаю, насколько вы взрослые, но главное во взрослом человеке – это способность взять ответственность за себя – свои мысли, чувства и т.д.»
Позиция Перлза чрезвычайно жесткая и, возможно, требует модификации, особенно в случаях с тяжело нарушенными пациентами. Многим пациентам нужны месяцы работы, чтобы они стали способны принять ответственность, и зачастую нереалистично ставить необходимым условием терапии полное принятие ответственности. Однако бывают ситуации, когда терапевту стоит в начале терапии потребовать некоторой степени принятия ответственности. Многие терапевты в работе с высоко суицидальными пациентами настаивают на «противосуицидном» пакте, в котором пациент обязуется не предпринимать суицидальных попыток в течение оговоренного периода времени. При правильном использовании этот подход может значительно уменьшить суицидальный риск.
Хотя слова Перлза не оставляют сомнения в его высокой чуткости к вопросу ответственности, осведомленности о том, что терапевт не должен возлагать на себя ношу ответственности пациента, он так и не смог разрешить (или, по правде говоря, во всей полноте осознать) парадоксальность своего подхода к терапии. Пациенту говорят «принять ответственность». Но каково остальное содержание его опыта? Встреча с невероятно сильным, харизматичным, мудрым старым человеком, невербально сообщающим: «А я скажу тебе совершенно точно, как, когда и почему это делать». Активный личностный стиль Перлза, аура силы и всеведения противоречили его словам. Получить одновременно два противоречивых сообщения, одно явное и одно скрытое, означает попасть в классическую ловушку двойной связи. Разрешите мне описать другой терапевтический подход, в котором делается попытка избежать этой западни.
Хельмут Кайзер (Helmuth Kaiser) и сознавание ответственности. Среди многих терапевтов, пытавшихся разрешить задачу, как увеличить принятие ответственности, в то же время не делая этого вместо пациента, – Хельмут Кайзер выделяется интеллектуальной глубиной и последовательностью своего подхода. Хотя и Кайзер, и Перлз выстраивали свои терапевтические подходы вокруг параметра ответственности, их стили и структуры диаметрально противоположны. Кайзер, умерший в 1961 г., был очень изобретательным терапевтом; он мало писал, поэтому не был широко известен. Книга, включающая все его труды, издана в 1965 г. под заглавием «Эффективная психотерапия». Кайзер считал, что у пациентов имеется универсальный конфликт, «состояние психики, общее для всех невротиков», обусловленный тем фактом, что «зрелое взрослое состояние сопряжено с полном, фундаментальной, вечной и непреодолимой изоляцией».
Кайзер рассказывает историю Вальтера, своего однокашника по медицинскому факультету, который в самом разгаре своей учебы сыграл роль в любительском спектакле, после чего «заболел» театром У него был несомненный талант, и он подумывал о том, чтобы оставить медицину и посвятить жизнь профессии актера. Но насколько он был талантлив? Мог ли стать великим актером? В мучительных поисках решения Вальтер обращался за советом к одному эксперту и другим. Кайзер видел страдания друга; внезапно ему пришло в голову, что Вальтер ожидает невозможного. Он стремился не просто узнать чье‑то мнение. Он хотел много большего – чтобы кто‑то другой взял на себя ответственность за его решение.
"В дальнейшем Г. (то есть Кайзер) мог наблюдать, как Вальтер медленно, шаг за шагом, приближается к открытию того, что ничье мнение, ничей совет ни на шаг не приближают его к решению, которое он должен принять. Он сочувствовал борениям Вальтера и всегда был готов обсуждать с другом бесчисленные «за» и «против», потенциально значимые для предполагаемого жизненного шага. Однако всякий раз после того, как были прослежены возможные последствия, оценены шансы, взвешены факторы, скрупулезно проанализирована информация и недоставало только конечного вывода, они погружались в глубокое, мучительное молчание. Г. чувствовал невысказанный вопрос Вальтера: «И что ты теперь думаешь?»
То, с чем встретился Вальтер и что его пугало, было глубоким человеческим парадоксом: мы жаждем автономии, но отвергаем ее неизбежное последствие – изоляцию. Кайзер называл этот парадокс «врожденной ахиллесовой пятой человечества» и утверждал, что мы невероятно страдали бы от него, если бы не скрывали его от себя с помощью некоего «магического фокуса», приема, направленного на отрицание изоляции. Этот «магический трюк» и есть то, что Кайзер называл «универсальным симптомом», – защитный механизм отрицания изоляции путем растворения границ Эго и слияния с другим. Выше, обсуждая человеческую жажду конечного спасителя, я говорил о слиянии, или единстве, как защите от тревоги смерти. Кайзер напоминает: изоляция и таящаяся за ней пустота (на которую он, правда, не указывает явным образом) представляют для нас мощный побудитель к слиянию с другим.
Какие события сталкивают нас с изоляцией? Согласно Кайзеру, это те события, которые в наибольшей степени заставляют нас отдавать себе отчет в полной ответственности человека за собственную жизнь, в особенности ситуации, связанные с принятием радикально меняющего жизнь решения или с формированием взглядов, не поддерживаемых авторитетом. В такие периоды мы, так же как друг Кайзера Вальтер, стремимся найти кого‑то другого, кто примет на себя нашу ответственность.
Кайзер остро и тонко чувствовал усилия пациентов избежать порождаемой ответственностью изоляции путем переноса исполнительной власти на терапевта. Что может терапевт противопоставить этим усилиям? Кайзер размышлял над этим вопросом и разработал некоторые подходы, но в конце концов пришел к выводу: задача настолько важна, что требует модификации самой структуры терапии. Чтобы воспрепятствовать переносу ответственности, терапия должна быть совершенно неструктурированной, терапевт – абсолютно недирективным, пациент полностью ответственным не только за содержание, но и за процедуру терапии. Кайзер заявил, что «для терапевта не должно быть правил». Иллюстрацией может служить его запись беседы пациента и терапевта.
Пациент: Позвольте спросить, в чем будет состоять терапия? Я хочу сказать, какова процедура?
Терапевт: Процедура…? Не уверен, что вполне понимаю вас, но насколько мне известно, никакой процедуры нет!
Пациент (вежливо улыбаясь): О, конечно, конечно, я имел в виду: что я должен делать?
Терапевт: Я вас понял так, что именно это вы подразумевали под «процедурой».
Пациент: Я не понимаю (20‑секундное молчание). Я имел в виду… разумеется, должно быть нечто, что от меня ожидается. Разве не так?
Терапевт: Вы уверены, что есть нечто, что, как ожидается, вы должны здесь делать.
Пациент: Ну, а разве не так?
Терапевт: Что касается меня, то нет.
Пациент: Хорошо… я… я… я… не понимаю.
Терапевт (улыбаясь): Я думаю, вы понимаете, что я сказал, но не вполне этому верите.
Пациент: Вы правы. На самом деле я не верю, что вы говорите это в буквальном смысле.
Терапевт (после 10‑секундной паузы): Я говорю это в буквальном смысле.
Пациент (после напряженного молчания в течение минуты, с некоторым усилием): Могу ли я сказать кое‑что о моих приступах тревоги?
Терапевт: Вам кажется невозможным, что я имел в виду именно то, что сказал.
Пациент: Простите… Я не имел в виду… Но я и вправду совершенно не уверен, что я действительно… Простите, что вы сказали?
Терапевт: Я сказал: вам кажется невозможным, что я имел в виду именно то, что сказал.
Пациент (слегка покачивая головой, словно в раздражении): Нет, я хочу сказать, могу ли я… (Он поднимает взгляд и, когда его глаза встречаются с глазами терапевта, начинает смеяться.)
Кайзер полагал, что «все, усиливающее чувство ответственности пациента за его собственные слова, должно иметь целительный эффект»; как показывает этот пример, он отказывался взять на себя ответственность даже в том, чтобы инструктировать пациента относительно действий в терапии.
Эта экстремальная техника имеет очевидные ограничения. На мои взгляд, ошибка Перлза состояла в том, что он давал пациенту слишком много структуры и энергии, а ошибка Кайзера – ровно в противоположном. Ни один терапевт не может помочь пациенту, если тот в силу замешательства, или недостатка структурированности, или недостатка уверенности преждевременно уходит из терапии. Из того, что терапевт намеревается в конечном счете помочь пациенту в принятии ответственности, вовсе не следует, что он должен требовать этого от пациента на каждом шаге терапии, включая ее начало. Терапевтическая ситуация обычно подразумевает гибкость; нередко, чтобы удержать пациента в терапии, терапевт на первых сессиях должен быть активным и поддерживающим. Впоследствии, когда терапевтический альянс закреплен, терапевт может позволить себе акцентировать факторы, стимулирующие принятие ответственности.
В своих работах Кайзер подчеркивает важность терапевтических отношений и коммуникативной прямоты; несомненно, в актуальных терапевтических ситуациях он допускал необходимые компромиссы. Он написал интригующую пьесу под названием «Чрезвычайная ситуация» («Emergency»), в которой терапевтическая гибкость иллюстрируется как нельзя лучше. Главный герой пьесы, психиатр доктор Тервин консультирует миссис Порфири, жену психиатра, которая заявляет, что ее муж находится в состоянии тяжелого расстройства, но отказывается обращаться за помощью. Доктор Тервин приходит к доктору Порфири под видом пациента, обратившегося за консультацией. Постепенно, почти незаметно он, продолжая именоваться пациентом, лечит доктора Порфири. Очевидно, доктор Порфири не способен был принять ответственность, даже ответственность обращения за терапией, и терапевт не стал этого требовать от него, сделав то, что должны делать все хорошие терапевты: приспособил терапию к пациенту.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО‑АМЕРИКАНСКИ, ИЛИ КАК ВЗЯТЬСЯ ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ, САМОМУ СОБОЙ УПРАВЛЯТЬ, ПОЗАБОТИТЬСЯ О СОБСТВЕННОЙ ПЕРСОНЕ И ПРЕУСПЕТЬ В УПРАВЛЕНИИ СОБОЙ
Америке концепция сознания ответственности достигла зрелости. То, что некогда было дискурсом – нередко весьма туманным – профессионального философа, а позже bon mot левого авангарда, в нынешнем Новом свете стало пользоваться огромным спросом. Центральной темой многих национальных бестселлеров является принятие ответственности. Чтобы не быть голословным: главы книги "Сферы ваших заблуждений («Your Erroneous Zones») называются «Взятие на себя заботы о собственной персоне», «Выбор – ваша конечная свобода», «Вы не нуждаетесь в их одобрении», «Освобождение от прошлого», «Преодоление барьера условностей», «Заявите о своей независимости». Основное послание этой книги сформулировано как нельзя яснее: «Начните исследовать свою жизнь как возможности, которые вы выбрали или не смогли выбрать. Это возлагает на вас самих всю ответственность за то, что вы есть и что вы чувствуете». Аналогичные книги, такие как «Управляйте собой сами» и «Творение себя», также быстро взмыли в верхние строки списков бестселлеров.
Массовое потребление требует, чтобы продукт был привлекательным, приятно упакованным и, самое главное, готовым к легкому и быстрому употреблению. К сожалению, эти требования обычно несовместимы с усилиями и глубиной, необходимыми для подлинного исследования и изменения собственной жизни и взгляда на мир. Неизбежно происходит «снижение»: нас призывают и увещевают; бестселлеры, подобные «Сферам ваших заблуждений», учат нас, как «положить конец промедлениям»:
«Сядьте и начните делать что‑нибудь, что вы долго откладывали. Начните писать письмо или читать книгу. Просто начните, и это поможет вам избавиться от тревоги обо всем предприятии… Определите для себя небольшой промежуток времени (например, среда с 10.00 до 10.15 утра), который вы будете посвящать исключительно откладывавшейся вами задаче… Бросьте курить. Сейчас! Приступите к диете… с этого момента! Прекратите пить… с этой секунды. Отложите эту книгу и для начала отожмитесь один раз. Теперь вы так решаете проблемы… действием. Действуйте! Примите решение не уставать до того момента, пока вы не легли в постель. Не позволяйте себе использовать утомление или болезнь в качестве предлога для бегства или откладывания каких‑либо дел».
Или «избавьтесь от зависимости»:
«Ставьте себе ближайшие задачи, касающиеся взаимодействия с доминантными людьми в вашей жизни. Попробуйте разок сказать „Нет, я не хочу“ и проследите реакцию другого на эту вашу реакцию… Перестаньте принимать приказы!»
«Ответственность» стала предметом внимания публики; семинары для профессионалов, посвященные теме ответственности, проводятся по всей стране. Например, в 1977‑1978 гг. в нескольких местах проводился большой семинар под названием «Взятие на себя заботы о собственной жизни» (с подзаголовком «Психология заботы о здоровье. Роль индивидуальной ответственности»). В его программе было следующее: вступительное слово Ролло Мэя – экзистенциальная борьба за личностную и духовную свободу; Альберт Эллис (Albert Ellis) – рационально‑эмотивный подход к индивидуальной ответственности за рост и изменение в сферах сексуальности и близости; Арнольд Лазарус (Arnold Lazarus) – мультимодальная терапия, подход к самоисцелению, описанный в его книге «Я могу, если я хочу». Среди других тем семинара – бихевиоральный подход к стрессовой адаптации, направленный на помощь пациентам типа "А" (ориентированным на достижение) в изменении поведенческих стереотипов; стресс и биологическая обратная связь; преодоление застенчивости; восточные (медитативные) пути самоконтроля; изменение «неискоренимых» жизненных стереотипов. Стоит обратить внимание на огромное разнообразие клинических подходов, собранных в одной программе. В прошлом невозможно было вообразить, что могло бы стать для всех них общей темой; ныне они сгруппированы вместе под рубрикой «ответственности».
«Est»*
Массовая популяризация темы принятия ответственности нигде не проявилась так, как в «Est» – самых рекламируемых и коммерчески успешных мастерских личностного роста 1970‑х. «Est» заслуживает более подробного рассмотрения по причине своего успеха и в связи с темой ответственности.
*В английском языке «est» окончание превосходной степени имени прилагательного. Задача мастерских – сделать человека «самым». – Прим. переводчика.
Завлекательно «упакованная», рассчитанная на массового потребителя, невероятно выгодная методика личностных изменений для работы с большими группами, «Est» основана Вернером Эрхардом (Werner Erhard); всего за несколько лет она из дела одного человека превратилась в обширную организацию. К 1978 г. через нее прошли более 170 000 человек, в 1978 г. ее оборот составлял свыше 9 миллионов долларов, а персонал – 300 оплачиваемых сотрудников и 7000 добровольцев; в ее консультативные коллегии входят известные деятели бизнеса, юристы, ректоры университетских колледжей, бывший ректор Медицинской школы университета Калифорнии, видные психиатры, правительственные чиновники и популярные эстрадные певцы.
«Est» осуществляется в больших группах (примерно 250 человек). Люди проводят два уик‑энда, слушая ведущего, который наставляет их, общается с ними, оскорбляет, шокирует их и проводит через ряд структурированных упражнений. Пакет «Est» – это набор техник, заимствованных из технологий личностного роста, таких как саентология, динамика мысли (Mind Dinamics), группы встреч, гештальттерапия и медитация дзэн; однако основная мишень данного подхода – принятие ответственности. Заявления участников и лидеров «Est» не оставляют сомнении в этом:
"Лидер объяснял: 'Каждый из нас отличается от других, потому что каждый делает свои выборы. Именно неспособность выбирать приводит к тому, что мы останавливаемся в своей жизни. Когда вы делаете выбор, ваша жизнь движется вперед. Обычно выбор сводится к простому «да» или «нет». 'Я не знаю' – это тоже выбор, выбор избегания ответственности'.
Одна участница вспоминает мастерскую «Est» следующим образом:
"'Если вы ответственны, – прогремел Стюарт (ведущий), – то вы не окажетесь лежащими на рельсах, когда идет поезд. Ослы те, кто там оказался'.
Тема ответственности пронизывает каждый аспект тренинга. По сути, если суммировать в нескольких словах то, что я получила от тренинга, это будет звучать так: мы сами являемся причиной нашего опыта и ответственны за все, что происходит в нашем опыте"
Тема принятия ответственности входит в катехизис «Est». В приведенной ниже беседе ведущий «Est» настойчиво доказывает, что человек ответственен за то, что его ограбили.
"– Каждый из вас – единственный источник вашего собственного опыта и, таким образом, ЦЕЛИКОМ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ВСЕ, ЧТО ПЕРЕЖИВАЕТ. Когда это дойдет до вас, вы избавитесь от девяноста процентов дерьма, которым завалена ваша жизнь. Не так ли, Хэнк?
– Слушай, – говорит массивный Хэнк, который выглядит весьма раздраженным, – я понимаю, что отвечаю за все, что делаю. Это я вижу. Но если меня ограбили? Я никак не могу принять ответственность за то, что меня ограбили.
Кто является источником твоего опыта, Хэнк?
– В данном случае – грабитель.
– Грабитель забрался в твои мозги?
– В мои мозги и в мой бумажник!
(Смех)
– Ты принимаешь ответственность за то, что встал с постели в то утро?
Естественно.
– За то, что вышел на улицу?
– Да.
– За то, что увидел мужчину с револьвером в руке?
– За то, что увидел его?
– Да, увидел грабителя. – Ответственность за то, что увидел его?
– Да.
– Ну, – говорит Хэнк, – я не мог его не увидеть.
– Если бы в тот момент у тебя не было ни глаз, ни ушей, ни носа, ни кожной чувствительности, ты бы не мог воспринять грабителя, так ведь?
– Ну ладно, это я понял.
И что, ты отвечаешь за то, что был на той улице в тот час с деньгами, которые могли быть украдены?
– Хорошо, это я понял.
– И что ты предпочел не рисковать жизнью и не сопротивляться мужику, что ты предпочел отдать бумажник?
– Когда детина с револьвером в руке говорит, отдай мне свои день – выбора нет.
– Ты выбрал быть в том месте в то время?
Да, но я не выбирал, чтобы мне встретился тот парень.
– Ты видел его, не так ли?
– Точно
– Ты принимаешь ответственность за то, что ты его видел, не так ли?
– За то, что видел, – да.
– Тогда усвой: ВСЕ, ЧТО ТЫ ПЕРЕЖИВАЕШЬ, НЕ СУЩЕСТВУЕТ, ЕСЛИ ТЫ ЭТОГО НЕ ПЕРЕЖИВАЕШЬ. ВСЕ, ПЕРЕЖИВАЕМОЕ ЖИВЫМ СУЩЕСТВОМ, СОТВОРЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИМ САМИМ. ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ СВОЕГО ОПЫТА. ПРОБУДИСЬ, ХЭНК!
Большинство прошедших «Est» при обсуждении своих целей на первое место ставят принятие ответственности. Один выпускник «Est» утверждал, что люди
«…поняли, что они сами породили свои головные боли, мигрени, астму, язву и другие заболевания… Болезнь не просто случается с нами. Интересно было смотреть, как один человек за другим встает и признает, что он один ответственен за свои физические болезни. Как только эти люди честно взглянули на свои жизненные переживания, их болезни прошли».
В нижеследующем взаимодействии ведущий идет еще дальше, утверждая, что мужчина несет ответственность за то, что у его жены рак.
"– Какого дьявола я отвечаю за то, что моя жена больна раком?
– Ты отвечаешь за порождение такого опыта, твоя жена проявляет поведение, которое ты по соглашению с другими выбрал считать болезнью, называемой раком.
– Но я не являюсь причиной рака.
– Послушай, Фред, то, что я говорю, тебе трудно совместить с твоей системой убеждении. Ты напряженно трудился сорок лет, создавая свою систему убеждении, и хотя я вижу, что именно сейчас твой ум максимально открыт, насколько возможно, все же целых сорок лет ты веришь, что вещи случаются где‑то там и давят тебя, пассивного, невинного наблюдателя – автомобили, автобусы, биржевые крахи, невротические друзья и рак. Я вижу это. Каждый человек в этой комнате жил с такой же системой убеждений Я ТУТ – НЕВИННЫЙ, РЕАЛЬНОСТЬ ТАМ – ВИНОВАТА.
НО ЭТА СИСТЕМА УБЕЖДЕНИЙ НЕ РАБОТАЕТ! И ЭТО ОДНА ИЗ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ВАША ЖИЗНЬ НЕ РАБОТАЕТ. Реальность, которая имеет значение, – это ваш опыт, и вы единственные творцы своего опыта".
«Вы – единственные творцы своего опыта». Это утверждение поразительно сходно со многими формулировками Сартра относительно свободы и ответственности. Суть «Est», то, что должно быть усвоено, – это принятие ответственности. Может показаться, что «Est» оперирует некими важными, но туманными концепциями, заворачивая их в яркую фразеологию – доступную, калифорнийскую, своего рода сартровский «поп». Если это оригинальное приложение философской мысли эффективно, то профессиональные терапевты многое могут почерпнуть из методологии «Est».
Но работает ли это? К сожалению, у нас нет определенных ответов на этот вопрос. Никаких контролируемых исследований результатов не проводилось, и хотя отзывов выпускников «Est» – масса, на них нельзя опираться как на свидетельство эффективности. Подобным восторженным хором личных впечатлении встречалась каждая новая технология личностного роста – от Т‑групп, групп встреч, нудистских встреч и марафонов до Эсаленских мастерских сознавания тела, психодрамы, рольфинга. История развития большинства из этих подходов (такой же, вероятно, будет и история «Est») включает период яркой пульсации с дальнейшим постепенным уменьшением силы света и в конце концов – замещение очередной технологией. В каждом случае многие клиенты новой технологии прежде были приверженцами какого‑либо другого подхода. Что за этим стоит? Дал ли тот предшествующий подход подлинно значительный и прочный эффект?
Опросы после прохождения «Est» показали крайне высокий процент лиц, оценивающих свой опыт как чрезвычайно позитивный и конструктивный. Однако мы должны быть осторожными в использовании исследований, проект которых не включал адекватного контроля: значительные эмпирические данные показывают, что никакие оценки исхода не подвержены ошибкам в большей степени, чем оценки в результате простого последующего опроса, представляющие собой, по сути дела, лишь компиляцию свидетельств. Возьмем для примера лишь один проблемный аспект проекта такого исследования – самоотбор. Кто выбирает «Est»? Нельзя ли предположить, что те, кто решили посетить мастерскую «Est» и готовы ради этого расстаться с большой суммой денег, а также вынести изнурительный уик‑энд, – что эти люди собираются измениться (или, точнее, меняются) независимо от содержания программы?
Ответ, несомненно, утвердительный! Исследования плацебо‑реакций, систем ожиданий испытуемых и психологических установок добровольцев убедительно показывают, что индивидуальный исход тренинга в большой мере зависит от факторов, существовавших до мастерской. Разумеется, это очень затрудняет исследование: обычный проект, основанный на рекрутировании добровольцев для проведения процедуры личностного роста (например, группы встреч) и сопоставлении их результатов с результатами того же числа контрольных испытуемых‑недобровольцев, имеет серьезные недостатки. Собственно говоря, группу или мастерскую личностного роста, состоящую из энтузиастов, принявших на себя обязательство пройти этот опыт, стремящихся к личностному росту и имеющих высокие ожидания (порожденные отчасти предгрупповой пропагандой), подавляющее большинство участников всегда будет считать успешной. Отрицание пользы вызвало бы значительный когнитивный диссонанс. Постгрупповая эйфория, восторженные отзывы – явление повсеместное. В таких обстоятельствах лидер должен отличаться выдающимся отсутствием способностей, чтобы потерпеть неудачу.
На что мы можем опереться при отсутствии надежных показателен результативности? Я предполагаю, что при анализе известных нам внутренних характеристик мастерских «Est» мы обнаружим серьезную и настораживающую непоследовательность. Заявляя своей целью принятие ответственности, в то же время «Est» – чрезвычайно структурированное мероприятие. На уик‑энде «Est» действуют многочисленные, жестко проводимые в жизнь базовые правила, не допускается алкоголь, наркотики, транквилизаторы, а также часы. Никому не позволяется выходить в уборную и ванную, кроме как во время специальных перерывов раз в четыре часа. Именные ярлычки нужно носить постоянно. Стулья двигать нельзя. На пунктуальности ставится особый акцент, опоздавших наказывают, не впуская их вовсе или подвергая публичному унижению. Участникам не позволяется принимать пищу помимо редких специальных перерывов, и от них требуется выворачивать карманы, выкладывая припрятанные там «кусочки».
Многие выпускники «Est» вызываются быть бесплатными помощниками, судя по их описаниям своих переживаний, они бывают чрезвычайно возбуждены актом отказа от собственной автономии и купанием в жарких лучах авторитета. Обратимся к нижеследующим заметкам, принадлежащим добровольцу «Est», клиническому психологу:
"Моей следующей задачей было расположить именные бирки. Их должно было быть по десять в каждом вертикальном ряду, и идеально параллельные колонки не должны были касаться друг друга. Теперь я отдавал себе отчет в тщательном внимании «Est» к деталям. Для каждого поручения давались подробные инструкции, продуманные с точностью, какой можно ожидать от лучших справочников. От меня ожидалось выполнение задачи с такой же точностью.
От именных бирок я переключился на скатерти… Каждая скатерть должна была быть пригнана по квадратным углам и почти, но не совсем, касаться пола… Я поднял глаза на человека, наблюдающего за ассистентами, стоявшего рядом со мной. «Она касается пола»…
Я переложил скатерть на столе со всем вниманием. Мои квадратные углы были совершенны, и скатерть свисала точно на нужную длину. Я завершил работу, что в терминах «Est» означало, я закончил ее так, что ничто не осталось вне.
«Идеально параллельные колонки» «Тщательное внимание к деталям». «Точность, какую можно ожидать от лучших справочников». Скатерти свисали со столов «точно на нужную длину». Где среди этой конформности и структурированности может найтись место для свободы и ответственности? Я еще более обеспокоился, когда на мастерской увидел когорту ассистентов «Est», которые все были одеты, как Вернер Эрхард (синяя спортивная куртка, белая рубашка с отложным воротничком, серые широкие брюки) и были так же пострижены, как Вернер Эрхард. Подобно Вернеру Эрхарду, они начинали свои предложения с "и", об «Est» говорили в приглушенных тонах, почти со священным трепетом. Вот еще некоторые отчеты добровольцев (которые я без особого отбора заимствовал из книг, опубликованных под авторством Вернера Эрхарда и высланный мне «Est» в качестве информации об организации).
«Молодая женщина, вызвавшаяся сделать уборку в квартире в Сан‑Франциско, где Вернер держит свой офис, рассказала мне, что ее подробно инструктировали, как делать работу. Я должна была убрать под каждым предметом на кофейном столике, ставя их всякий раз точно на то же место, откуда я их взяла, а не на полдюйма в сторону».
«Человек, назначенный вымыть туалеты в штаб‑квартире, сообщил, что существует один и только один Est‑способ выполнять работу. Он рассказал о том, как был изумлен, увидев, сколько работы мысли и усилий может быть затрачено на мытье туалета, если это делать Est‑способом, то есть завершенно».
"Нас инструктировали улыбаться в роли 'приветствующего'… [В других случаях] мы должны были оставаться с каменными лицами. Когда я прокомментировала это своему супервизору, он ограничился простым ответом. «Цель помощи – помогать. Делай то, что ты сейчас делаешь. А свой юмор пускай в ход во время, предназначенное для юмора».
Практикующий психолог так описывает свою волонтерскую работу.
«Пиковый момент уик‑энда настал, когда мужчина, отвечавший за логистику, сказал мне после того, как я описала кратчайший и самый эффективный путь к ванным комнатам: 'Спасибо тебе, Аделаида. Составив эти инструкции, ты сделала великолепную работу'. О‑о‑о! Целые часы я была на вершине блаженства!».
Делать вещи «правильным» образом. Мыть уборные Est‑способом. Точно возвращать предметы на кофейный столик, не отклонившись и на полдюйма. Допускать юмор во «время для юмора». Пребывать «часами на вершине блаженства» после получения похвалы за описание самого эффективного маршрута к ванным комнатам. Все это отражает очевидное удовлетворение от потери собственной свободы, радость отказа от автономии и надевания на себя шор вьючного животного.
Многие высказывания прошедших «Est» отражают не ощущение личной силы, а самоотдачу высшему существу. Люди жертвуют правом иметь собственные суждения и принимать решения; нет ничего более важного, чем заслужить улыбку божественного провидения. Доброволец «Est» откровенно рассказывает:
«Вернер может ужасно кричать, когда работа не завершена. Я трясусь, но знаю, что он меня любит. Это звучит совсем безумно? Так оно есть, и ты стремишься делать свою работу так, как Вернер хочет, чтобы она была сделана».
Эрхард становится фигурой больше самого себя, его недостатки «завершены», его слабые стороны обращены в достоинства, таланты – в сверхчеловеческие качества. Вот впечатления клинического психолога от ее первой встречи с Вернером Эрхардом:
«Раньше я не видела Вернера. Подруга рассказала мне, что 'он заставляет почувствовать, будто ты – целый мир, как если бы ничего другого не существовало'. В 8.00 лампы быстро были притушены, и появился Вернер… выглядевший много моложе своих сорока лет, кожа и глаза неправдоподобно чистые, одетый в безупречно сидящую бежевую куртку, белую рубашку с отложным воротничком и темные широкие брюки. Присутствующие встали и зааплодировали. Вернер пришел к ним».
«Присутствующие уселись, и всеобщее интенсивное внимание сосредоточилось на этом магнетически привлекательном (но не вполне красивом) мужчине с телом теннисиста и глазами пророка.»
«Неправдоподобно чистые глаза». «Глаза пророка». «Вернер пришел к ним!» Подобные высказывания, воплощающие конец личностного суждения и свободы, побудили другого выпускника «Est», также клинического психолога, написать: «Чем дольше я взираю на эту отмеряющую гусиный шаг армию в центре организации „Est“, тем выше ценю анархию». Таким образом, главная критика, которая может быть адресована «Est», связана не с упрощением (в нем может быть свой смысл), не с ориентацией на массового потребителя (каждая великая система мышления требует своего популяризатора), а с фундаментальной непоследовательностью. Авторитаризм не вскармливает персональную автономию, а напротив, неизменно душит свободу. Утверждать, как это вроде бы делает «Est», что продуктом авторитарной процедуры может быть персональная ответственность, – софистика. Что, в конце концов, есть продукт и что есть процедура? Как учил Фромм, стремление бежать от свободы имеет глубокие корни. Мы пойдем на что угодно, лишь бы избегнуть ответственности и обрести авторитет: если необходимо, мы готовы даже изобразить принятие ответственности. Может быть, авторитарная процедура и есть продукт? Может быть. продукт присутствовал с самого начала – кто знает?
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПСИХОТЕРАПИЯ: ДАННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЙ
Связь между ответственностью и психотерапией основывается на двух родственных тезисах: избегание ответственности не способствует психическому здоровью: принятие ответственности в психотерапии ведет к терапевтическому успеху. Сейчас я хотел бы обратиться к данным исследований, чтобы выявить эмпирические факты, подтверждающие эти тезисы.
Во‑первых, важно признать, что они чрезмерно упрощают вопрос. Достаточно вспомнить о защитных механизмах, часть из которых ведут к избеганию ответственности (таких, как «невинная жертва», экстернализация или потеря контроля) и являются дезадаптивными, в то время как другие (имеющие значительное социальное подкрепление, как вера в благодать или божественное провидение) могут служить полезную службу. С другой стороны, некоторые индивиды могут брать на себя ответственность сверх меры, слишком открыто и без достаточных внутренних ресурсов для преодоления сопутствующей тревоги. Проживание своей экзистенциальной ситуации и присущей ей тревоги требует определенного уровня силы Эго.
Вредит ли избегание ответственности психическому здоровью?
Ни «ответственность», ни «свобода», ни «воля» отдельно не изучались, поэтому не так просто найти в научных исследованиях свидетельства того, что избегание ответственности вредит психическому здоровью. Компьютерный поиск не обнаружил вообще никаких эмпирических исследований, имеющих отношение к этой теме. Термин «ответственность» отсутствует в формальных нозологических категориях, так же, как концепции избегания или принятия ответственности – в исследованиях психотерапевтического процесса. Поэтому я стал искать косвенные литературные данные и задался вопросом о существовании исследований, имеющих хотя бы потенциальное отношение к теме ответственности. Самый релевантный конструкт, обсуждавшийся в главе 4, – это локус контроля.* Внешний локус контроля может рассматриваться как дефицит принятия ответственности. Если избегание ответственности «плохо» для психического здоровья, тогда следует ожидать, что внешний локус контроля положительно коррелирует с аномальным психическим функционированием. Я нашел исследования, демонстрирующие, что у экстерналов по сравнению с интерналами имеется большее чувство неадекватности, больше расстройств настроения; больше напряженности, тревожности, враждебности и замешательства; они меньшего достигают, менее политически активны и более внушаемы; они обладают менее развитым воображением, более фрустрированы и испытывают больше опасений". Шизофренические пациенты со значительно большей вероятностью оказываются экстерналами, чем интерналами. Среди психиатрических пациентов с тяжелыми расстройствами относительно чаще встречаются экстерналы, чем среди умеренно нарушенных".
* Вспомним, что на поверхностном уровне локус контроля оценивает, принимает ли индивид персональную ответственность за свое поведение и жизненные переживания или же верит, что происходящее с ним не связано с его собственным поведением и потому находится вне его личного контроля. Индивиды, принимающие ответственность, рассматриваются как имеющие «внутренний» локус контроля, отвергающие ее – «внешний» локус контроля.
Особенно часто концепция локуса контроля использовалась при исследовании депрессии, поскольку даже неопытному наблюдателю очевидная беспомощность и фатализм депрессивных пациентов внушают мысль, что эти пациенты потеряли веру в свою способность действовать в собственных интересах и влиять на мир своих переживаний. Многими авторами показано, что депрессивные индивиды имеют внешний локус контроля, и когда происходит крах их представлений о связи между поведением и его результатом, у них формируется острое ощущение беспомощности и безнадежности.
Основная теория депрессии связана с моделью «наученной беспомощности», разработанной Мартином Зелигманом, в которой постулируется, что различные компоненты депрессии (аффективный, когнитивный и поведенческий) являются последствиями рано усвоенного представления, что результаты (то есть награды и наказания) находятся вне собственного контроля. Человек, пришедший к выводу об отсутствии причинно‑следственной связи между поведением и его результатами, не только перестает эффективно действовать, но также начинает проявлять признаки депрессии. Изложенная в экзистенциальных понятиях, данная модель означает простую вещь: люди, убежденные в отсутствии своей ответственности за происходящее с ними, могут жестоко расплачиваться за это. Избегая платы в виде переживания экзистенциальной тревоги, сопутствующей сознаванию ответственности, они, как утверждает Зелигман, могут развить в себе фатализм и депрессию.
Модель депрессии как наученной беспомощности родилась в лаборатории и основана на наблюдении, что экспериментальные животные, подвергнутые неотвратимому стрессу, потом становятся менее адаптивными в условиях стресса, которого можно избежать. Например, собаки, получившие удар электрическим током, которого никак нельзя было избежать, впоследствии менее способны избегать вполне отвратимого электрического удара, чем собаки, прежде получавшие удар, которого можно было избежать, или вовсе не получавшие удара током". Множество раз ученые пытались провести аналогичное лабораторное исследование на людях. Например, испытуемые подвергались воздействию неотвратимого шума, и при последующем тестировании, будучи помещены в человеческий аналог ящика «шатл» для экспериментов на животных, они совершали больше неудачных попыток уклониться от вполне отвратимого шума: либо они демонстрировали ухудшенные результаты в определенных тестах на решение проблем*".
Подобные результаты показывают, что после того, как индивиды «научены» в лаборатории тому, что их поведение не может вывести их из ситуации, дальнейшее адаптивное поведение этих людей оказывается повреждено. Кроме того, Дэвид Клайн и Мартин Зелигман обнаружили, что депрессивные индивиды (не подвергавшиеся предварительному воздействию неотвратимого шума) справлялись с тестами примерно так же, как это делали недепрессивные испытуемые после получения дозы неотвратимого шума. Уильям Миллер и Мартин Зелигман получили аналогичные результаты, применяя тесты на решение проблем. В других экспериментах было обнаружено, что депрессивные испытуемые (в отличие от недепрессивных) имели низкие ожидания успеха в решении лабораторных задач, причем позитивное подкрепление не приводило к повышению этих ожиданий.*
* Интересный концептуальный парадокс существует между двумя моделями депрессии – моделью наученной беспомощности и когнитивной моделью, описанной Аароном Беком (Aaron Beck). Согласно последней, депрессивный пациент характеризуется негативными ожиданиями и выраженной тенденцией брать на себя персональную ответственность за исход событий. Депрессивные пациенты обвиняют себя за события, несомненно находившиеся вне их контроля (например, психотические депрессивные больные могут винить себя в войне или естественной катастрофе). В превосходном обзоре Линн Абрамсон и Гаролд Закайм (Linn Abramson amp; Harold Sackeim) обсуждают этот пока не разрешенный парадокс.
Суммируем: исследования локуса контроля, широко применяемого психологического фактора, концептуально соотносимого с понятиями принятия и отвержения ответственности, свидетельствуют о том, что избегание ответственности (внешний локус контроля) ассоциировано с некоторыми формами психопатологии, особенно с депрессией. Лабораторная парадигма депрессии как наученной беспомощности дополнительно подтверждает это.
Что говорят нам исследования об источнике индивидуальной позиции по отношению к контролю ответственности? Имеются некоторые данные, указывающие на то, что характер локуса контроля обусловлен ранним семейным окружением: последовательное, теплое, внимательное и чуткое окружение создает предпосылки для развития внутреннего локуса контроля, в то время как непоследовательная, непредсказуемая и относительно неблагоприятная среда (более характерная для низших социоэкономических классов) порождает ощущение личной беспомощности и способствует формированию внешнего локуса контроля. Порядок рождения также значим: первенцы более склонны становиться интерналами (возможно, потому, что они гораздо чаще оказываются в позициях ответственности за домашние дела и собственное поведение, и им чаще поручают присматривать за младшими детьми).
Повышает ли психотерапия сознавание ответственности? Помогает ли это?
В нескольких исследовательских программах изучалась связь между эффектом терапии и смещением локуса контроля. Джон Джиллис и Ричард Джессо (John Gillis amp; Richard Jessor) показали, что у госпитализированных пациентов, состояние которых улучшилось, локус контроля сместился в интернальную сторону. П.С. Дуа (P.S. Dua) сообщает, что программа бихевиоральной терапии в популяции делинквентных подростков привела к смещению локуса контроля извне вовнутрь. Стефан Новик и Джарвис Бернес (Stefan Novick amp; Jarvis Bernes) показали возрастание интернальности локуса контроля у депривированных городских подростков в результате проведенного с ними в летнем лагере тренинга эффективности. В нескольких исследованиях, проведенных с участниками инкаунтер‑групп, обнаружено, что групповой опыт способствовал увеличению интернальности локуса контроля. К сожалению, все эти исследования были недостаточно строго спланированы, в них либо вовсе не использовались контрольные группы, либо использовался «внетерапевтический» контроль, не позволяющий учесть эффекты Готорна. Кроме того, результаты носят характер корреляции, и остается неизвестным, то ли состояние пациента улучшилось благодаря смещению локуса контроля, то ли локус контроля сместился благодаря улучшению состояния.
Другой исследовательский подход был основан на изучении субъективных отчетов пациентов после завершения терапии. В ответ на вопрос о том, какие аспекты терапии они нашли наиболее полезными для себя, пациенты часто называли обнаружение и принятие персональной ответственности. В исследовании двадцати пациентов, успешно завершивших групповую терапию, мы с коллегами использовали состоящий из 60 пунктов тест Q‑сортировки,* оценивающий «механизмы изменения» в терапии. Эти шестьдесят описаний были составлены исходя из двенадцати категорий «лечебных факторов» (каждая описывалась пятью утверждениями): 1) катарсис; 2) понимание себя: 3) отождествление – имеется в виду с другими участниками группы, кроме терапевта; 4) реорганизация семейного статуса; 5) постепенное внушение надежды; 6) универсальность, то есть обнаружение того, что у других есть сходные проблемы; 7) групповая сплоченность принятие другими; 8) альтруизм – полезность для других; 9) предложения и советы; 10) межличностное научение на «входе» – узнавание индивидом того, как его воспринимают другие; 11) межличностное научение «на выходе» – совершенствование навыков межличностных отношений; 12) экзистенциальные факторы.
* Пациентам предъявлялись шестьдесят формулировок того, что может происходить в результате терапии (каждая – на отдельной карточке), и предлагалось рассортировать их все по семи категориям (от «чрезвычайно полезно» до «минимально полезно»).
«Экзистенциальная» категория состояла из следующих пяти утверждений:
Осознание того, что жизнь иногда устроена нечестно и несправедливо.
Осознание того, что в конечном счете не избежать какой‑то части жизненных страданий и смерти.
Осознание того, что какова бы ни была близость с другими людьми, все равно я должен справляться с жизнью в одиночку.
Встреча с базовыми вопросами моей жизни и смерти, благодаря которой я могу теперь проживать свою жизнь более честно и меньше вовлекаться в тривиальности.
Осознание того, что я несу конечную ответственность за то, как проживаю свою жизнь, независимо от того, сколько поддержки и руководства получаю от других.
В этом исследовании терапевты не были экзистенциально ориентированными, а вели традиционные группы общения; категория «экзистенциальных факторов» была внесена почти в последний момент. Но когда результаты были проанализированы, мы с изумлением обнаружили, что многие пациенты сочли для себя весьма важными эти «вбрасывания», не входящие в традиционную терапевтическую программу. Категория экзистенциальных факторов в целом оказалась на шестом месте по значимости среди двенадцати категорий (это ранжирование было основано на среднем значении ранга составляющих категорию пунктов). Особенно высокую значимость имел пункт 5: «Осознание того, что я несу конечную ответственность за то, как проживаю свою жизнь, независимо от того, сколько поддержки и руководства получаю от других». Среди всех шестидесяти пунктов теста он оказался на пятом месте по значимости.
Д. Йорк и К. Айсман (D. York amp; С. Eisman) повторили этот эксперимент с восемнадцатью наркотически и алкогольно зависимыми. в течение шести месяцев проходившими интенсивную (шесть дней в неделю) психотерапию (со значительным перевесом групповых методов), и с четырнадцатью родителями наркоманов, также участвовавшими в программе интенсивной терапии. Эти исследователи также обнаружили, что пункт «ответственности» имел высокий рейтинг (в одной группе он получил первое место, в другой – второе).
Дж. Дрейер (J. Dreyer) давал тест «лечебных факторов» пациентам психиатрической больницы при поступлении и повторно спустя восемь дней. Он обнаружил, что большинство пациентов, поступавших в психиатрическую больницу для острых случаев, ожидали главного источника помощи в форме конкретных советов и предложении от других людей, которые помогли бы им справиться с их главными жизненными проблемами. К восьмому дню лечения большинство изменило свои ожидания: вместо того чтобы верить в приход помощи извне, они теперь, по собственному утверждению, знали, что должны принять большую личную ответственность.
В обширном исследовании, посвященном эффекту от участия в женской группе роста сознания, Мортон Либерман (Morton Lieberman) с соавторами сообщают, что «интервью с членами группы неоднократно выявляли значимую тему: 'Я одна ответственна за свое счастье'».
Леонард Горовиц (Leonard Horovitz) изучал видеозаписи трех интервью с каждым из сорока пациентов. (Первое интервью проводилось перед началом терапии, второе – после восьми месяцев терапии, третье – после двенадцати месяцев терапии.) Он подсчитывал количество заявлений, начинающихся со слов «Я не могу», или «Я должен» или с их близких синонимов («Я не способен», «Я обязан», «Мне необходимо» и т.д.), и по мере хода терапии обнаружил достоверное его уменьшение, вместе с отступлением чувства бессилия и постепенным принятием персональной ответственности.
Все эти данные указывают, что в процессе успешной психотерапии пациент начинает больше сознавать свою личную ответственность за собственную жизнь. Представляется, что в результате эффективной терапии пациент не только узнает о близости и интимности, то есть о том, что дают нам отношения с другими людьми; он также обнаруживает пределы близости – открывает то, что мы не можем получить от других как в терапии, так и в жизни.
Терапевтический стиль: данные исследований. Пациенты, в особенности ищущие ухода от ответственности, предпочитают активных и директивных терапевтов, структурирующих терапевтические сессии (именно подобных вещей, в конечном счете, ожидают от хорошего наставника). Свидетельства этого предпочтения дают три исследовательские программы, использующие параметр локуса контроля.
Дж.К.Хелвег (G.С.Helweg) предлагал психиатрическим пациентам и студентам колледжа посмотреть видеозаписи проведения интервью двумя терапевтами – Карлом Роджерсом, недирективным интервьюером, и Альбертом Эллисом, чрезвычайно активным директивным интервьюером – и затем выбрать терапевта, которого они предпочтут. Испытуемые, имевшие внешний локус контроля (то есть избегавшие сознания ответственности), оказывали значительное предпочтение активному директивному терапевту.
Р.А.Якобсон (R.A.Jacobsen) предложил терапевтам бихевиоральной и аналитической ориентации составить краткие описания своих терапевтических подходов. Затем он предлагал испытуемым на основании этих описаний выбрать предпочитаемого терапевта и обнаружил, что индивиды с внешним локусом контроля предпочитают директивных, бихевиоральных терапевтов, пациенты с внутренним локусом контроля – недирективных, аналитических терапевтов. К.Дж.Уилсон (К.G.Wilson), используя аналогичные техники, пришел к выводу, что критической переменной является установка терапевта (как она воспринимается пациентом) по отношению к контролю и участию. Интерналы выбирают таких терапевтов, которые, как им представляется, допустят полноту их участия и контроля в терапевтическом процессе.
Проблема пациентов с избеганием ответственности (то есть с внешним локусом контроля) состоит в том, что их выбор активно‑директивного терапевта идет им во вред: контроль, которого они желают, вовсе не благоприятен для них. Чем активнее и сильнее проявляет себя терапевт (даже якобы ради помощи пациенту в принятии ответственности), тем больше пациент инфантилизируется.
Программа исследования результатов терапии, выполненная моими коллегами и мной, демонстрирует эту закономерность. Мы изучали восемнадцать групп встреч, работавших под руководством ведущих, принадлежащих к различным идеологическим школам. Каждая группа провела вместе тридцать часов на протяжении десяти недель. Наблюдатели ранжировали все аспекты поведения ведущего: общий уровень активности, содержание комментариев, степень властной функции (установление ограничений, правил, норм, целей; контроль времени; темп, остановки, вмешательства) и количество структурированных упражнений (то есть конкретных задач или техник, которые терапевт предлагает группе выполнить, таких как упражнения на обратную связь, горячий стул или психодрама). Все ведущие использовали структурированные упражнения; некоторые включали их во множестве в каждую сессию, другие – очень мало. В процессе анализа взаимосвязей между поведением ведущего и результатом терапии (выраженным в таких параметрах, как самооценка, адаптивные механизмы, межличностный стиль, оценки по отношению к равным, жизненные ценности и т.д.) обнаружились некоторые интересные корреляции:
Между уровнем властной функции и результатом терапии существует криволинейное отношение. Иными словами, действует в основном правило золотой середины: слишком много или слишком мало коррелирует со слабым эффектом терапии. Избыток властной функции делает группу высоко структурированной и авторитарной, у участников такой группы не развивается чувство автономии. Недостаток властной функции – попустительский стиль – порождает сбитую с толку и неуверенно блуждающую группу.
Чем больше структурированных упражнений применяет ведущий, тем более компетентным он воспринимается участниками группы непосредственно после завершения групповых занятий, но тем ниже для них эффект групповой терапии (оцениваемый шесть месяцев спустя).
Вывод из последних результатов очевиден: если вы хотите, чтобы пациенты думали о вас как о человеке, знающем, что он делает, – будьте активным, энергичным, структурирующим наставником. Однако имейте в виду, что эта стратегия встанет на пути роста пациента и, вероятно, не позволит ему принять ответственность.
ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Концепция ответственности имеет решающее значение в психотерапии, это прагматическая правда, которая «работает»: ее принятие позволяет индивиду достичь автономии и полностью реализовать свой потенциал.
Но как далеко распространяется эта правда? Многие терапевты как профессионалы декларируют важность ответственности, но втайне, положа руку на сердце, свято убеждены в детерминированности среды. Многие годы я занимался терапией психотерапевтов, как индивидуальной, так и в специальной терапевтической группе, и видел, как часто психотерапевты (не исключая меня самого) придерживаются двойного стандарта: пациенты конституируют свои миры и ответственны за них, в то время как сами терапевты никаких глупостей! – живут в объективном, структурированном мире, по мере своих возможностей приспосабливаясь к тому, что «реально» существует.
И терапевты, и пациенты расплачиваются за непоследовательность своих взглядов. Терапевты выступают за принятие ответственности, но их тайное сомнение просачивается наружу; они не могут убедить пациентов в том, во что не верят сами. Бессознательно сочувствуя сопротивлению пациента, они, естественно, быстро оказываются в его сетях. Например, работая с пациенткой – разведенной депрессивной женщиной, отчаянно ищущей другого партнера, терапевт может колебаться в своих усилиях помочь ей принять ответственность. Ее сопротивление находит отклик у терапевта, и он начинает думать: «Пациентка производит впечатление привлекательной, располагающей к себе женщины; в нашей культуре жизнь одинокой сорокавосьмилетней женщины тяжела, среда одиноких людей действительно во многих отношениях неприятна, приятных одиноких и притом гетеросексуальных мужчин в Сан‑Франциско действительно очень мало. Ее работа, необходимая ей для выживания, не дает возможности для встреч с людьми. Возможно, она права: если бы только появился „господин Подходящий“, девяносто процентов ее проблем исчезли бы без следа. Этой пациентке просто не повезло». Так терапевт заключает тайный союз с сопротивлением пациентки и вскоре, поддавшись искушению, принимается предлагать стратегии знакомства с мужчинами клубы для одиноких, знакомства с помощью компьютера, одинокие родители и т.д. (как будто сама пациентка не в состоянии додуматься до этих возможностей).
Свой настоящий урок терапевт получает тогда, когда «господин Подходящий» появляется, – но почему‑то никакого счастья из этого не выходит. То ли «господин Подходящий» оказался увальнем, то ли он слишком зависим, то ли слишком независим, то ли слишком богат, то ли слишком беден, а может, чересчур холоден. Или она не хочет терять свою свободу, или, наоборот, так вцепилась в него, что он удрал с перепугу, или впала в такую тревогу, что ее спонтанность оказалась задавлена, и он нашел ее пустой и неинтересной. Короче говоря, со временем терапевт убеждается, что при внутреннем конфликте на тему близости индивид находит бесчисленные способы расстроить отношения.
Понятно, что в терапевтических отношениях, так же как и во всяких прочих, двойной стандарт «не работает». Терапевт должен внимательно исследовать свои взгляды на ответственность и прийти к последовательной позиции. Связь между средой и личностной свободой чрезвычайно сложна. Сами люди прокладывают свою судьбу или, как утверждают сторонники средового детерминизма, подобные Б.Ф.Скиннеру, их полностью обусловливает окружение («Человек не воздействует на мир, мир воздействует на него».)
Противостояние детерминистской и либертарной (основанной на вере в свободу воли) логики и реальности, как правило, разрешается в пользу первой: сторонники второй «мягче» и взывают к аргументам эмоциональным, к которым неприложима точная мера. Психотерапевты оказываются в сложном положении. Чтобы работать эффективно, они должны придерживаться либертарных взглядов; однако многие, имеющие обширную научную подготовку – в экспериментальной или социальной психологии, в биологических или медицинских науках, – хотя и желали бы быть способными на «прыжок веры» в позицию свободного выбора, втайне убеждены в несокрушимости детерминистских аргументов.
Тем не менее существуют весомые доводы в пользу установки на личную ответственность, некоторые из них подтверждаются эмпирическими исследованиями и могут обеспечить терапевтам выход из этой затруднительной ситуации. Прежде всего следует осознать, что безоговорочный средовой детерминизм представляет собой крайнюю позицию, уже не располагающую исключительной поддержкой «точных» эмпирических исследований. Скиннер утверждает, что, поскольку мы детерминированы своим окружением, каждый из нас может манипулировать собственным поведением, манипулируя средой. Это утверждение внутренне противоречиво. В конце концов, кто манипулирует средой? Даже самый фанатичный детерминист не может утверждать, что наше окружение детерминирует нас его изменять: это неминуемо вело бы к бесконечному регрессу. Раз мы манипулируем своей средой, значит, мы не детерминированы ею – напротив, детерминирована среда. Бинсвангер в 1936 г. в эссе, посвященном восьмидесятилетию Фрейда, отмечает этот момент, указывая, что масштаб личности Фрейда и его вклад замечательно иллюстрируют ограничения его детерминистской теории:
«Тот факт, что наша жизнь детерминирована силами жизни, – лишь одна сторона медали; другая состоит в том, что мы детерминируем эти силы в качестве нашей судьбы. Только обе эти стороны вместе могут полностью отразить проблему психического здоровья и безумия. Те, кто, подобно Фрейду, выковали свою судьбу молотом (произведение искусства, которое представляет собой его работа в сфере языка, служит тому достаточным свидетельством), наименее способны это отрицать».
В своем президентском обращении к Американской психологической ассоциации в 1974 г. Альберт Бандура (Albert Bandura) обозначил свою позицию как «реципрокный детерминизм» и провел разграничение между потенциальной и актуальной средой: все индивиды имеют одну и ту же потенциальную среду, но каждый актуально регулирует свое окружение.
«Один исследователь однажды изучал больных шизофренией и нормальных детей в обстановке огромного разнообразия всяких привлекательных устройств, включая телевизоры, фонографы, бильярдные машины, электрические поезда, диапроекторы и электрические органы. Чтобы привести в действие эти игрушки, дети должны были просто опускать в них монетки, но лишь тогда, когда лампочка на устройстве горела; если монетка опускалась в то время, когда лампочка не горела, период бездействия игрушки возрастал. Нормальные дети быстро научились использовать то, что могла предложить им среда, и создали для себя чрезвычайно благоприятные условия. Шизофренические дети, не сумевшие овладеть простым управляющим навыком, переживали ту же потенциально благоприятную среду как депривирующее, неприятное место».
Таким образом, между поведением и средой существует реципрокная связь: поведение может влиять на среду. Бандура отметил: «Всем нам знакомы проблемные индивиды, которые своим неприятным поведением предсказуемо порождают негативный социальный климат всюду, где бы они ни появились. Другие столь же умело активизируют лучшее в тех, с кем они взаимодействуют». Среда, создаваемая каждым из нас, в свою очередь, влияет на наше будущее поведение. Среда и поведение взаимозависимы; среда не является данностью, но, подобно поведению, имеет причины. Бандура писал, что «теоретик социального научения для каждого цыпленка, обнаруженного стоящим на статической позиции средовым детерминистом, в регрессе исходных причин может выявить предшествующее яйцо».
Позиция реципрокного детерминизма поддерживается огромной массой эмпирических исследований. Имеется квалифицированный обзор этого материала, и я не стану дублировать его; отмечу лишь, что эти данные достаточно точны, солидны и относятся к таким областям, как человеческое коммуникативное взаимодействие, система ожиданий, реципрокная связь между личными предпочтениями и содержанием средств массовой информации, познание и восприятие, саморегуляторные функции системы "я" (то есть психокиберентическая модель "я") и биологическая обратная связь.
Многие сторонники либертарной точки зрения довольны неожиданной эмпирической поддержкой, исходящей от теории реципрокного детерминизма, однако есть много таких, кто заявит, что это не заходит достаточно далеко. Они станут утверждать, что социально‑психологические и поведенческие экспериментальные методы имеют фатальный недостаток, заключающийся в том, что зависимой переменной в них является «поведение». Свое обсуждение отношений между свободой и детерминизмом Бандура начал со следующего самоочевидного (с бихевиористской точки зрения) аргумента:
«В большом городе при решении вопроса о том, какой кинофильм посмотреть, индивид мало чем ограничен, поэтому личные предпочтения здесь выступают в качестве преобладающих детерминантов. Напротив, люди, находящиеся в глубоком бассейне с водой, будут примечательно сходны в своем поведении, сколь бы уникально разнообразны ни были они по своему когнитивному и поведенческому складу».
Для сторонника либертарной точки зрения огромные проблемы создает утверждение, что люди, находящиеся в глубоком бассейне с водой, будут «примечательно сходны» в своем поведении. Разумеется, все дело в «поведении». Как получилось, что критерием оценки свободы выбора является поведение? Если исходить из оценки движения конечностей в воде, телесной активности или физиологических параметров, тогда несомненно, что в этой ситуации у человека, как и у всякого другого живого существа, диапазон физических проявлений, или поведенческого выбора, резко сокращен. Но человек, даже когда он погружен в воду по шею, имеет свободу: он выбирает, как ему относиться к этой ситуации и как настроиться – мужественно, стоически, фаталистически, изобретательно или панически. Диапазон психологического выбора безграничен. Почти два тысячелетия назад Эпиктет сказал:
«Я должен умереть. Я приговорен к тюремному заключению. Меня ожидает изгнание. Но должен ли я умереть стеная? Должен ли я ныть и плакаться? Может ли кто‑либо воспрепятствовать мне отправиться в изгнание с улыбкой на устах? Хозяин угрожает заковать меня. Что ты говоришь? Заковать меня? Да, ты прикуешь цепью мою ногу, – но не мою волю: сам Зевс не может победить ее».
Это отнюдь не мелочная софистика. Пусть идея о том, что тонущий человек обладает свободой, кажется нелепой – в принципе, стоящем за ней, заключено огромное значение. Самый центр человеческого бытия – это позиция по отношению к собственной жизненной ситуации; выводы относительно человеческой природы, основанные исключительно на измеримом поведении, есть искажения этой природы. Нельзя отрицать роль в нашей жизни среды, наследственности и случайности. Ограничивающие обстоятельства несомненны: Сартр говорит о «коэффициенте неблагоприятности». Все мы имеем дело с естественными превратностями, влияющими на нашу жизнь. Например, определенные обстоятельства могут воспрепятствовать нам найти работу или спутника жизни – физические ограничения, недостаточное образование, плохое здоровье и т.д., – но это не значит, что мы не обладаем ответственностью (или выбором) в данных обстоятельствах. Мы остаемся ответственными за то, что делаем с нашими ограничениями, за наши чувства по отношению к ним – горечь, гнев или депрессию, заодно с исходным «коэффициентом неблагоприятности» способствующие тому, чтобы наше ограничение сокрушило нас. Например, несмотря на высокую рыночную ценность физической привлекательности, стиль и очарование многих людей заставляют забыть об их физически непривлекательных чертах. (Таким был, я уверен, Авраам Линкольн, который сказал, что после сорока каждый ответственен за свое лицо.) Когда все тщетно и коэффициент неблагоприятности превосходит все мыслимые пределы, мы тем не менее ответственны за свою позицию по отношению к неблагоприятным обстоятельствам – за то, будем мы жить, испытывая горькие сожаления, или найдем способ подняться над своими ограничениями и, несмотря на них, сделаем свою жизнь осмысленной.
Моя пациентка, шансы которой найти желаемого партнера были значительно снижены серьезным физическим недостатком, терзала себя, «выбрав» убежденность в том, что жизнь без любовно‑сексуальных отношений с мужчиной не имеет никакой ценности. Она закрывала для себя многие возможности, включая глубокое наслаждение близкой дружбой с другой женщиной или несексуальной дружбой с мужчиной. Основная терапевтическая работа с этой пациенткой заключалась в том, чтобы расшатать ее базовую идею, согласно которой человек либо имеет пару, либо он ничто (установка, всегда имевшая сильное социальное подкрепление, особенно для женщин). В конечном итоге пациентка пришла к пониманию того, что, хотя она не отвечает за свой недостаток, тем не менее, несет полную ответственность за свою позицию по отношению к нему и за свое решение придерживаться убеждений, ведущих к тяжелому самообесцениванию.
Осознание и принятие внешней «данности» (коэффициента неблагоприятности) не означает пассивности по отношению к внешней ситуации. Именно в этом неомарксисты и приверженцы радикальной психиатрии обвиняли движение за психическое здоровье, то есть в пренебрежении неблагоприятными материальными обстоятельствами индивида, побуждаемого без протестов принять свой (навязанный капиталистами) жизненный жребий. Но полное принятие ответственности подразумевает не только наполнение мира значением, но также обладание свободой и ответственностью за изменение своих внешних обстоятельств. Важно определить индивидуальный коэффициент неблагоприятности. Здесь фундаментальная задача терапии состоит в том, чтобы помочь пациентам внутренне реконструировать то, что они не могут изменить.
Физическая болезнь
Сфера личной ответственности распространяется дальше, чем собственное психологическое состояние. Имеется значительное количество медицинских свидетельств того, что психологическое состояние индивида влияет на его физическое заболевание. Сфера взаимозависимости тела и психики в физической болезни настолько велика, что здесь хватит места лишь на быстрый реверанс в нужном направлении и краткое обсуждение последних исследований значения ответственности в одной конкретной болезни – раке.
Фрейд очертил тему связи стресса и болезни в 1901 г. в «Психопатологии обыденной жизни», где он выдвинул идею, что случайные травмы на самом деле не случайны, а являются манифестацией психического конфликта; он описал «склонного к несчастным случаям» индивида, испытавшего необычайно много случайных травм. После Фрейда два поколения аналитиков развивали область психосоматической медицины, обнаружив ряд соматических заболеваний (например, артрит, язвы, астма, язвенный колит), испытывающих мощное влияние психологического состояния пациента. Современная технология биологической обратной связи, медитация, возникновение широкого спектра ауторегуляторных механизмов возвестили о новой волне интереса к индивидуальным контролю и ответственности в сфере телесных функций, управляемых автономной нервной системой (отделом нервной системы, долгое время именовавшимся «непроизвольной нервной системой»).
Концепция личной ответственности ныне используется при лечении таких заболеваний, как рак, который долго считался находящимся далеко за пределами индивидуального контроля. Рак всегда рассматривался как прототип внешне детерминированной болезни: он поражает без предупреждения, и пациент мало что может сделать, чтобы повлиять на его течение или исход. В последнее время предпринято несколько широко освещавшихся в прессе попыток сменить эту позицию по отношению к раку на противоположную: О. Карл Симонтон (О. Carl Simonton), онколог‑радиолог, стал инициатором этого начинания, предложив психологически ориентированную терапию рака. Он исходил из современной теории этого заболевания, согласно которой индивидуальный организм постоянно испытывает воздействие раковых клеток и успешно сопротивляется им до тех пор, пока тот или иной фактор не снижает это сопротивление, вызывая восприимчивость к раку. Значительное количество данных свидетельствует о том, что стресс снижает сопротивляемость болезни, влияя как на иммунную систему, так и на гормональный баланс. Если эти данные получат дальнейшее подтверждение, то, как полагает Симонтон, можно будет пустить в ход психологические силы для воздействия на течение болезни.
Метод лечения Симонтона заключается в ежедневных зрительных медитациях, в которых пациент вначале концентрируется на зрительной метафоре своего представления о возникновении рака, а затем – на своей зрительной метафоре телесных защит, уничтожающих этот рак. Например, один пациент визуализировал рак как гору сырых гамбургеров, а защиты тела, белые кровяные клетки, – как свору диких собак, пожирающих гамбургеры. Симонтон побуждает пациентов исследовать их способы преодоления стресса. Первый вопрос, задаваемый пациенту с метастазирующим заболеванием: «Что вы делали для того, чтобы навлечь это на себя?»
Насколько мне известно, нет надежных свидетельств того, что таким путем увеличивается продолжительность жизни. Не следует особенно доверять методу, когда обещается так много, а сравнительно простые исследования, которые могли бы подтвердить (или опровергнуть) эти притязания, отсутствуют. Тем не менее, подход Симонтона сообщает нам нечто важное о роли ответственности в контроле тяжелого заболевания, поскольку пациенты, практикующие зрительную медитацию, даже не получая физической помощи, укрепляются психологически благодаря принятию более активной, ответственной позиции по отношению к своей болезни. Это крайне существенно, потому что беспомощность и глубокая деморализация нередко становятся главной проблемой терапии ракового больного. Рак, возможно, в большей мере. чем всякая другая болезнь, вызывает чувство беспомощности пациенты ощущают себя неспособными как‑либо управлять своим состоянием. Почти любая другая болезнь (например, сердечное заболевание или диабет) позволяет человеку множеством способов участвовать в своем лечении: он может сидеть на диете, следовать медицинским предписаниям, отдыхать, по графику выполнять физические упражнения и т.д.; но больной раком чувствует, что ему остается только ждать – ждать, пока очередная раковая клетка пустит корни где‑то в теле. Это переживание беспомощности зачастую усугубляется позицией врачей, имеющих обыкновение не допускать пациентов к принятию решений относительно хода их терапии. Многие доктора не склонны делиться с пациентами информацией и нередко, когда нужно принять важные решения о будущей терапии, в обход больных консультируются с их родственниками.
Но если метод Симонтона не имеет под собой достаточных оснований и не увеличивает продолжительность жизни пациентов, не означает ли это, что он основан на лжи и компрометирует сам себя? И какие существуют терапевтические методы для помощи пациентам, которые не могут принять исходные посылки и метод Симонтона? Я убежден, что концепция принятия ответственности терапевтически показана любому раковому больному, даже при далеко продвинувшемся заболевании. Во‑первых, следует заметить, что, независимо от наших материальных обстоятельств (то есть от коэффициента неблагоприятности), мы всегда ответственны за нашу позицию по отношению к собственной жизненной ноше. В моей работе с больными метастатическим раком (раком, распространившимся на другие части тела и не доступным уже ни хирургическому, ни терапевтическому медицинскому лечению) особенное впечатление на меня производят глобальные индивидуальные различия в позиции по отношению к болезни. Некоторые поддаются отчаянию и преждевременно умирают психологической смертью, а также, судя по данным некоторых исследований, и преждевременной физической смертью. Другие, как я описывал в главе 5, трансцендируют, превосходят свою болезнь и используют надвигающуюся смерть в качестве стимула к улучшению качества жизни. Ответственность за свою позицию не обязательно означает ответственность за чувства (хотя Сартр с этим не согласился бы), но означает ответственность за установку по отношению к собственным чувствам. Эту точку зрения иллюстрирует анекдот, рассказанный Виктором Франклом:
Во время первой мировой войны военный врач‑еврей сидел в окопе вместе со своим другом не евреем, полковником из аристократов, когда начался массированный обстрел. Поддразнивая его, полковник сказал: 'Вы ведь боитесь, не так ли? Это лишнее доказательство превосходства арийской расы над семитской'. 'Разумеется, я боюсь, – ответил доктор, – но кто обладает превосходством? Если бы вы, дорогой полковник, боялись так, как я, вы бы уже давно удрали'.
Терапевтическая работа с переживаниями безнадежности и беспомощности может быть очень полезна раковому пациенту. Мы с коллегами, занимаясь терапией раковых больных в поддерживающих группах, разработали несколько подходов, направленных на укрепление ощущения власти и контроля. Например, больные раком в отношениях со своими врачами часто чувствуют себя бессильными и инфантилизированными. Моя группа прицельно занималась этой проблемой и сумела помочь многим пациентам принять ответственность за их отношения со своим доктором. После того как участник группы описывал свои отношения с врачом, другие участники предлагали иные варианты; проводился ролевой тренинг, в котором пациенты пробовали новые способы утвердить себя в контакте со своим врачом. Они научались претендовать на время врача, требовать информации (если хотели) о своей болезни: некоторые осваивали умение добиваться права знакомиться со своей историей болезни или возможности увидеть свои рентгеновские снимки; кто‑то, в случаях, когда это выглядело осмысленным, принимал на себя последнюю ответственность и отказывался от дальнейшего лечения.
У многих членов терапевтической группы ощущение силы возникло благодаря социальной активности. Многие публично высказывались в защиту прав раковых больных и участвовали в кампаниях по касающимся их политическим вопросам (таким, как налоговые льготы для производителей протезов груди). Наконец, описанными выше способами терапевт помогал пациентам вновь обрести ощущение силы, побуждая их принять ответственность за процесс работы их собственной группы. Способствуя большему сознаванию участниками группы того факта, что они могут формировать групповую активность в соответствии со своими нуждами, – более того, что это принадлежит сфере их ответственности, – терапевт способствует и принятию ответственности каждым индивидом в других сферах его жизни.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ВИНА
Пытаясь активизировать сознание ответственности у пациента, терапевт вскоре обнаруживает, что на терапевтической арене дает о себе знать некое незваное присутствие. Это чувство вины – темная тень ответственности, нередко вторгающаяся в пространство экзистенциальной психотерапии.
В терапии, основанной на экзистенциальной точке зрения, «вина» имеет несколько иной смысл, чем в традиционной терапии, где она обозначает эмоциональное состояние, связанное с переживанием неправильных действий, всепроникающее, высоко дискомфортное состояние, характеризуемое тревогой в соединении с ощущением своей «плохости». (Фрейд отмечает, что субъективно «чувство вины и чувство неполноценности трудно различимы».) Можно разграничить невротическую и «подлинную» вину – или, говоря словами Бубера, «вину» и "чувства вины.
Невротическая вина происходит от воображаемых преступлений* (или мелких проступков, вызывающих непропорционально сильную реакцию) против другого человека, древних и современных табу, родительских и социальных запретов. «Подлинная» вина обусловлена реальным преступлением по отношению к другому человеку. Субъективные дисфорические переживания в обоих случаях сходны, однако значение и терапевтическое преодоление этих двух форм вины очень различаются: справиться с невротической виной возможно путем проработки чувства собственной «плохости», бессознательной агрессивности и желания наказания, в то время как «подлинная» вина должна быть актуально или символически эквивалентно искуплена.
* Преступление имеется в виду, конечно, не в юридическом смысле, а в смысле нарушения правил, нанесения ущерба и вообще перехода неких границ. – Прим. переводчика.
Экзистенциальная перспектива в психотерапии добавляет важное измерение к концепции вины. Во‑первых, полное принятие ответственности за свои действия расширяет границы вины, уменьшая возможности бегства. Индивид уже не может спокойно удовлетвориться такими алиби, как «Я не имел этого в виду», «Это был несчастный случай», «Я не мог ничего сделать», «Я следовал непреодолимому импульсу». Подлинная вина и ее роль в межличностных взаимодействиях часто бывает предметом диалога в экзистенциальной терапии.
Но экзистенциальная концепция вины добавляет также нечто еще более важное, чем расширение границ «подотчетности». Попросту говоря, речь идет о следующем: человек несет вину не только за преступления против других людей, моральных или социальных правил; но также за преступления против самого себя. Из всех экзистенциальных философов наиболее полно разработали это представление Кьерксгор и Хайдеггер. Существенно, что Хайдеггер для обозначения вины и ответственности использует одно и то же слово (shuldig). После обсуждения традиционных употреблений понятия «виновный» он заявляет: «Быть виновным также подразумевает 'быть ответственным за', то сеть являться источником, или автором, или по крайней мере случайной причиной чего‑либо».
Мы виновны в той же степени, в какой ответственны за себя и свой мир. Вина – фундаментальная часть Dasein (то есть человеческого «бытия‑в»): «'Быть виновным' не есть производное от 'быть должным', напротив, быть должным становится возможным лишь на основе исходной виновности». Затем Хайдеггер развивает мысль о том, что «в идее 'виновности' заложено значение 'не'». Dasein неизменно конституирует и «неизменно отстает от собственных возможностей». Таким образом, вина интимно связана с возможностью, или потенциальностью. Когда «зов совести» услышан (зов, возвращающий нас к осознанию своего подлинного модуса бытия), мы неизменно «виновны» – виновны постольку, поскольку потерпели неудачу в осуществлении потенциала этой подлинности.
Многими авторами эта чрезвычайно важная концепция была разработана более полно (и в значительно более ясной форме). К психотерапии особое отношение имеет вклад Пауля Тиллиха. В «Мужестве быть» он говорит о тревоге, вызываемой у человека идеей небытия, и различает три источника тревоги – три основных пути, на которых небытие угрожает бытию. Два из них (смерть – угроза объективному существованию и бессмысленность – угроза духовному существованию) рассматриваются мною в других разделах. Третий имеет непосредственное отношение к настоящей дискуссии. Небытие составляет опасность для бытия, угрожая нашему моральному самоутверждению, и эта угроза заставляет нас испытывать вину и тревогу самоосуждения. Слова Тиллиха предельно ясны:
«Бытие человека не только дано ему, но также требуется от него. Он ответственен за него; в самом буквальном смысле, он должен отвечать, если его спросят, что он сделал из себя. Тот, кто спрашивает его, – его судья, и это не кто иной, как он сам. Данная ситуация вызывает его тревогу, которая в относительных терминах есть тревога вины, в абсолютных тревога самоотвергания, или самоосуждения. От человека ожидается, чтобы он сделал из себя то, чем он может стать, чтобы воплотить свою судьбу Каждым моральным актом, актом самоутверждения человек вносит вклад в воплощение своей судьбы, в актуализацию того, чем он потенциально является».
Эта позиция – «От человека ожидается, чтобы он сделал из себя то, чем он может стать, чтобы воплотить свою судьбу» ведет происхождение от Кьеркегора, описавшего форму отчаяния, связанного с нежеланием быть собой. Саморефлексия (осознание вины) умеряет отчаяние: не знать, что находишься в отчаянии, – это еще более глубокая форма отчаяния'". На то же обстоятельство указывал хасидский раввин Сашья (Susya), который незадолго до своей смерти сказал. «Когда я приду на небеса, там не спросят меня. 'Почему ты не был Моисеем?' Вместо этого меня спросят. 'Почему ты не был Сашьей? Почему ты не стал тем, кем мог стать только ты?»'. Отто Ранк остро сознавал эту ситуацию и писал, что, предохраняя себя от слишком интенсивного или слишком быстрого проживания, мы чувствуем себя виновными из‑за неиспользованной жизни, непрожитой жизни в нас".
Ролло Мэй высказал мысль об интерпретации вытеснения в контексте отношений человека с его собственным потенциалом и о расширении концепции бессознательного с тем, чтобы она включила нереализованный вытесненный индивидуальный потенциал:
«Если мы хотим понять вытеснение у данной личности, мы должны поставить следующие вопросы, каково отношение этого человека к его собственным потенциальным возможностям? Что происходит такого, отчего он предпочитает или вынужден предпочесть изгнать из сферы своего сознавания нечто, что он знает, и на другом уровне знает, что он знает… Бессознательное, таким образом, не следует рассматривать как резервуар культурально неприемлемых импульсов, мыслей и желаний. Я определяю его скорее как потенциальные возможности знания и переживания, которые индивид не может или не хочет актуализировать».
В другом месте Мэй описывает чувство вины (экзистенциальной) как «позитивную конструктивную эмоцию… восприятие различия между тем, что представляет собой вещь и чем она должна была бы быть». В этом смысле экзистенциальная вина (так же, как тревога) совместима с психическим здоровьем и даже необходима для него. «Когда человек отрицает потенциальные возможности, терпит неудачу в их осуществлении, он находится в состоянии вины».
То, что каждое человеческое существо обладает уникальным набором потенциальных возможностей, которые стремятся быть воплощенными, – древняя идея. «Энтелехия» Аристотеля относилась к полному осуществлению потенциальной возможности. Четвертый смертный грех, праздность, или леность, многими мыслителями интерпретировался как «грех не делания в своей жизни того, что, как известно человеку, он может делать». Это крайне популярная в современной психологии концепция, обнаруживаемая в работах почти каждого современного гуманистического или экзистенциального теоретика или терапевта.* Она появлялась под многими названиями («самоактуализация», «самореализация», «саморазвитие», «раскрытие потенциала», «рост», «автономия» и т.д.), но основополагающая идея проста: каждое человеческое существо обладает прирожденными способностями и потенциями и, более того, исходным знанием об этих потенциях. Тот, кому не удается жить настолько полно, насколько возможно, испытывает глубокое, сильное переживание, которое я называю здесь «экзистенциальной виной».
* В особенности, у Бубера, Мэрфи, Фромма, Булера, Олпорта, Роджерса, Юнга, Маслоу и Хорни.
Например, зрелые работы Карен Хорни прочно опираются на ту идею, что при благоприятных условиях человек естественным образом раскрывает свой врожденный потенциал точно так же, как желудь развивается в мощное дерево. Фундаментальная работа Хорни «Невроз и человеческий рост» имеет подзаголовок «Устремление к самореализации». По ее мнению, психопатология возникает тогда, когда неблагоприятные обстоятельства препятствуют ребенку развиваться и осуществлять заложенный в нем потенциал. Вследствие этого ребенок теряет образ своего потенциального "я" и формирует другой образ "я" – «идеальное я», к которому направляет свою жизненную энергию. Хотя Хорни не использует понятия вины, она, вне всякого сомнения, прекрасно сознает, какую цену платит индивид за невоплощение своей судьбы. Хорни говорит о чувстве отчуждения, об отщепленности человека от того, чем он реально является, ведущей к подавлению истинных чувств, желаний и мыслей. Однако при этом он ощущает существование своего потенциального "я" и на бессознательном уровне непрерывно сравнивает его со своим «актуальным я» (то есть с "я", актуально живущим в мире). Расхождение между тем, что мы есть, и чем могли бы быть, заставляет нас презирать себя, и это презрение нам приходится преодолевать всю свою жизнь.
Абрахам Маслоу, испытавший большое влияние Хорни, был, я полагаю, первым, кто использовал термин «самоактуализация». Он также был убежден, что люди естественным образом актуализуют себя, когда обстоятельства их развития не столь враждебны, что они вынуждены стремиться к безопасности, а не к росту (то есть формировать в себе «мотивацию недостатка» вместо «мотивации роста»).
«Когда базисная [прирожденная] сущность личности отрицается или подавляется, человек заболевает, иногда явно, иногда скрыто… Эта внутренняя сущность хрупка и чувствительна, она легко уступает стереотипу и культуральному давлению… Даже будучи отрицаема, она втайне продолжает жить, непрестанно требуя актуализации… Каждое отступничество [от собственной сущности], каждое преступление против своей природы фиксируется в нашем бессознательном и заставляет нас презирать себя».
Но как выявить свой потенциал? Как узнать его, встретившись с его проявлением? Как мы узнаем, что потеряли свой путь? Хайдеггер, Тиллих, Маслоу и Мэй ответили бы в унисон: «С помощью Вины! С помощью Тревоги! Через зов бессознательного!» Они согласны между собой в том, что экзистенциальная вина – это позитивная конструктивная сила, советчик, возвращающий нас к себе самим. Когда пациенты заявляли Хорни, что не знают, чего хотят, она часто отвечала просто: «Вы когда‑нибудь думали о том, чтобы спросить себя?» В центре своего существа мы знаем себя. Джон Стюарт Милль, описывая множественность "я", говорил о фундаментальном, перманентном "я", которое обозначал как «стойкое я». Никто не сказал об этом лучше святого Августина: «Есть некто внутри меня, кто большее, чем мое 'я'».
Роль экзистенциальной вины как советчика можно проиллюстрировать клинической виньеткой. Пациентка обратилась ко мне в связи с тяжелой депрессией и чувством ничтожности. Ей было пятьдесят, и в течение тридцати двух лет она была замужем за сильно нарушенным, язвительным человеком. Множество раз за свою жизнь она думала о терапии, но отказывалась от этой мысли из‑за опасений, что самоисследование приведет к распаду ее брака; она боялась встретиться с одиночеством, страданиями, утратой репутации, материальными лишениями и признанием неудачи. В конце концов она настолько вышла из строя, что вынуждена была искать помощи. Однако, физически являясь в мой кабинет, фактически она не приняла на себя внутреннее обязательство работать в терапии, и мы мало продвигались. Решающий прорыв произошел в один прекрасный день, когда она заговорила о старении и своем страхе смерти. Я попросил ее представить себя близкой к смерти, оглянуться на прошедшую жизнь и описать возникающие чувства. Без колебаний она ответила: «Сожаление». «Сожаление о чем?» спросил я. «Сожаление о том, что я зря потратила свою жизнь, так и не узнав, чем могла бы быть». «Сожаление» (ее термин для экзистенциальной вины) было ключом к терапии. С этого момента мы использовали его как гида. Хотя ей предстояли месяцы тяжелой работы в терапии, сомнений относительно исхода не было. Она осуществила самоисследование (и разорвала свой брак) и ко времени завершения терапии была способна проживать свою жизнь с ощущением возможностей, а не с сожалением.
Взаимосвязь между чувством вины, презрением к себе и самореализацией наглядно иллюстрируется случаем Брюса, пациента средних лет, описанного мной в главе 5. С подросткового возраста Брюса поглощал интерес к сексу, особенно к женской груди. И в течение всей своей жизни он презирал себя. От терапии он хотел «освобождения» освобождения от тревоги, ненависти к себе и упорного чувства вины, которое грызло его изнутри. Сказать, что Брюс не ощущал себя автором собственной жизни, значит выразиться слишком мягко. Идея о том, что он несет личную ответственность за свою жизненную ситуацию, была для него словно фраза на незнакомом языке, он чувствовал себя настолько одержимым, постоянно находился в таком паническом состоянии, что, подобно Кафке, считал «за счастье быть способным сидеть в уголке и дышать».
В течение долгих месяцев мы исследовали его чувства вины и ненависти к себе. Почему он чувствовал себя виноватым? Какие преступления совершил? Брюс признавался в банальных, заезженных, мелких прегрешениях, навязчиво выставляя их напоказ сессию за сессией: как ребенком он стащил какую‑то сдачу у отца, завысил суммы в страховочных исках, был нечестен в уплате налогов, украл утреннюю газету у соседа и, главное, спал с женщинами. Мы подробно изучали каждое прегрешение, всякий раз вновь обнаруживая, что тяжесть самонаказания превосходит тяжесть преступления. Например, при обсуждении своего промискуитета он осознал, что не причинил вреда ни одной женщине: он хорошо обращался со своими любовницами, не прибегал к обману и считался с их чувствами. Каждое из своих «правонарушений» Брюс проработал на сознательном уровне, осознав в результате, что он «невинен» и незаслуженно суров к себе. Однако чувства вины и ненависти к себе ничуть не уменьшились.
Первый проблеск сознания ответственности у Брюса появился при обсуждении им своего страха проявлять уверенность и напор. Он не мог на должном уровне представлять свою компанию в публичных дискуссиях, хотя профессиональное положение призывало его к этому. Особенно трудно ему было публично высказывать несогласие или критику по отношению к другому; ничто не внушало ему больший ужас, чем публичные дебаты. «Что может произойти в этой ситуации? – спросил я. – Что хуже всего?» Брюс ответил без всяких сомнений: «Выставление напоказ». Он боялся, что оппонент бестактно прочтет вслух список всех постыдных сексуальных эпизодов в его жизни. Это было сродни кошмару Леопольда Блума в «Улиссе» Джеймса Джойса: подвергнутый суду за свои тайные желания, тот чувствует себя униженным, когда его многочисленные грешки выставлены напоказ перед судом. Я задался вопросом, чего он боится больше – того, что достоянием публики станут его прошлые или нынешние сексуальные приключения? Брюс отвечал: «Нынешние. С прошлыми делишками я мог сквитаться. Я мог бы сказать себе, а может быть, даже и вслух: 'Да, тогда я был таким. Теперь я изменился. Я другой человек'».
Постепенно Брюс начал слышать собственные слова, которые, по существу, сводились к следующему: «Мое текущее поведение – то, что я делаю прямо сейчас, – это источник моего страха перед проявлением уверенности и напора, а также моего презрения к себе и чувства вины». В конце концов Брюс осознал, что он сам и только он является причиной своей ненависти к себе. Если он хочет лучше относиться к себе или даже любить себя, то должен перестать делать вещи, которых стыдится.
Но еще большее осознание было впереди. После того как Брюс занял твердую позицию и впервые в жизни предпочел отказаться от победы на половом фронте (как было описано в главе 5), у него началось постепенное улучшение. В последующие месяцы с ним происходило много разного (включая ожидаемый период импотенции), но постепенно его компульсивность стала уступать место способности выбора. По мере изменения поведения, образ себя также решительно менялся; его уверенность в себе и любовь к себе гигантски возрастали. Постепенно, к концу терапии Брюс открыл два источника своего чувства вины. Один происходил от его способа обесценивать свои встречи с другими существами (о чем я скажу подробнее в главе 8). Вторым источником чувства вины было преступление, совершенное Брюсом против самого себя. Значительную часть жизни его внимание и энергия животным образом фокусировались на сексе, на груди, гениталиях, совокуплении, совращении и различных изощренных, экстравагантных модификациях сексуального акта. До своего изменения в результате терапии Брюс редко давал волю своему уму, редко думал о чем‑то другом, редко читал (кроме как ради того, чтобы произвести впечатление на женщину), редко слушал музыку (иначе как в качестве прелюдии к сексу), редко эмоционально переживал реальную встречу с другим человеком. Брюс, умевший найти нужные слова, заявил, что «жил как животное, в постоянном возбуждении от дерганья туда‑сюда, создаваемого кусочком плоти, свисающим между ног». «Допустим, – сказал он однажды, – что мы имели бы возможность подробно изучать жизнь определенного вида насекомых. Представьте, что мы обнаружили, самцы этих насекомых сходят с ума от двух бугорков на грудной клетке самки и посвящают все свои дни на земле тому, чтобы найти способы коснуться этих бугорков. Что бы мы подумали? Наверное, что это странный способ проводить свою жизнь. Уж конечно, в жизни есть нечто большее, чем прикосновения к бугоркам. Однако я был таким насекомым». Неудивительно, что он испытывал чувство вины. Как сказал бы Тиллих, чувство вины Брюса происходило от жизнеотрицания и ограничения, от принесения себя в жертву и отказа стать тем, чем он мог стать.
Никто не изображал экзистенциальную вину более живо и захватывающе, чем Франц Кафка. Отказ от признания и конфронтирования экзистенциальной вины – повторяющаяся тема в творчестве Кафки «Процесс» начинается так "Кто‑то, по‑видимому, оклеветал Иозефа К., потому что, не сделав ничего дурного, он попал под арест.* Йозефу К. предлагают сознаться, но он заявляет: «Я ни в чем не виновен». Весь роман посвящен описанию попыток Йозефа К. освободиться от суда. Он ищет помощи из любого мыслимого источника, но тщетно, потому что находится не перед обычным гражданским судом. Как постепенно понимает читатель, Йозеф К. застигнут внутренним судом – тем, что заседает в его скрытых глубинах Юлиус Хойшер (Julius Heuscher) обращает внимание на физическое заражение суда примитивным инстинктивным материалом, так, на судейских столах разбросаны порнографические книги, а суд размещается в низкой грязной мансарде трущобного здания.
* 3десь и далее перевод Р.Райт‑Ковалевой.
Когда Йозеф К. входит в собор, к нему обращается священник, который пытается помочь ему, побуждая взглянуть внутрь себя на свою вину. Йозеф К. отвечает, что все это недоразумение, и затем дает рациональное объяснение «И как человек может считаться виновным вообще? А мы тут все люди, что я, что другой». «Но все виновные всегда так говорят», взывает священник и вновь советует ему заглянуть внутрь себя, вместо того чтобы пытаться растворить свою вину в коллективной вине. Когда Йозеф К. называет свой следующий шаг («Буду и дальше искать помощи»), священник разражается гневом. «Ты слишком много ищешь помощи у других» В конце концов он пронзительно кричит с кафедры. «Неужели ты уже за два шага ничего не видишь?»
Затем Йозеф К. надеется узнать у священника метод обойти суд – «способ жить вне процесса», – подразумевая под этим метод жизни вне «юрисдикции» собственной совести. По сути Йозеф К. спрашивает о том, возможно ли никогда не встретиться с экзистенциальной виной. Священник отвечает, что надежда на бегство – это «заблуждение», и рассказывает притчу «из Введения к Закону», описывающую «это заблуждение», выразительную историю о поселянине и привратнике. Поселянин просит, чтобы его пропустили к Закону. Привратник перед одной из бесчисленных дверей приветствует его и объявляет, что в данный момент пропустить его не может. Когда поселянин пытается заглянуть в недра Закона, привратник предупреждает его. «Если тебе так не терпится – попытайся войти, не слушай моего запрета. Но знай, могущество мое велико. А ведь я только самый ничтожный из стражей. Там, от покоя к покою, стоят привратники, один могущественнее другого. Уже третий из них внушал мне невыносимый страх».
Тогда проситель решает подождать, пока ему разрешат войти. Он ждет дни, недели, годы. Он ждет в стороне от входа всю свою жизнь. Он стареет, его зрение слабеет, и уже умирая, задает привратнику последний вопрос – вопрос, который никогда не задавал прежде. «Ведь все люди стремятся к Закону, как же случилось, что за все эти долгие годы никто, кроме меня, не требовал, чтобы его пропустили?» Привратник кричит изо всех сил (потому что и слух тоже отказывает поселянину). «Никому сюда входа нет, эти врата были предназначены для тебя одного! Теперь пойду и запру их».
Йозеф К. не понимает притчу; более того, до самого конца, когда он умирает «как собака», он продолжает искать помощи от какого‑либо внешнего источника. Кафка и сам, как он пишет в своем дневнике, вначале не понимал смысл притчи. Согласно Буберу, впоследствии Кафка в своих записных книжках полнее выразил смысл притчи: «Признание вины, безусловное признание вины, дверь распахивается. Она ведет в дом мира, мутное отражение которого раскинулось вне стен». Поселянин в романе Кафки был виновен – не только в том, что вел неживую жизнь, ожидал позволения от другого, не овладевал своей жизнью, не проходил через врата, предназначенные для него одного, он был виновен и в том, что не принимал свою вину, не использовал ее как проводника вовнутрь, не сознавался «безусловно» – акт, в результате которого врата бы «распахнулись».
Нам мало что рассказано о жизни Йозефа К. до зова вины, и потому мы не можем точно обозначить основания его экзистенциальной вины. Однако мы можем обратиться к одной удивительно многое проясняющей истории, принадлежащей Хойшеру (Heuscher), в которой речь идет о двойнике Йозефа К. – пациенте мистере Т., чьи обвинения самому себе легко увидеть:
«Мистер Т. обратился ко мне за консультацией, потому что больше не мог глотать. В течение недель он ограничивался частыми маленькими глотками жидкости, в результате потеряв около сорока фунтов. До болезни он делил свое время между фабрикой, где его функции были интересны, но четко определены, и домом, где его умная, но хронически невротичная, депрессивная алкоголичка‑жена делала невозможными выходы в общество и прочие развлечения. Половая близость прекратилась уже много лет назад, якобы по обоюдному согласию, и домашняя жизнь была ограничена чтением, просмотром телепередач, безличными разговорами с женой, когда она была трезва, и эпизодическими визитами дальнего родственника. Внушающий симпатию и превосходный собеседник, мистер Т. тем не менее не имел близкого друга, хотя очень хотел бы иметь. Он никогда не пытался вести какую‑либо социальную жизнь, в которой не участвовала бы его жена. Увязший в этом ригидном и ограниченном мире, он умно парировал все предложения терапевта, касающиеся развития того или иного потенциала, осуществления того или иного выбора».
За два года терапии симптоматика мистера Т. смягчилась, но жизненный стиль никак не изменился. Подобно Йозефу К., мистер Т. не прислушивался к себе; в терапии он тщательно уклонялся от глубинного исследования своей жизни. Однако он настаивал на продолжении терапии, и терапевт рассматривал его настойчивость как свидетельство скрытого от него самого ощущения возможности более насыщенной жизни.
В один прекрасный день мистер Т. рассказал свой сон, изумивший его предельной ясностью. Он не читал Кафку, но этот сон до дрожи напоминал «Процесс», который, как и многие произведения Кафки, получил начало в сновидении. Он слишком длинен, чтобы воспроизводить его здесь целиком, но вот начало.
«Я арестован полицией и отправлен в полицейское отделение. Мне не сказали, за что я арестован, только пробурчали что‑то о „мелком преступлении“ и предложили признать себя виновным. Когда я отказался, они стали угрожать обвинением в тяжком преступлении. „Обвиняйте меня в чем хотите“, – огрызнулся я, и тогда они вменили мне тяжкое преступление. В результате я был осужден и оказался на тюремной ферме, поскольку, как сказал один из полицейских, это было место для „ненасильственных тяжких преступлений“. Вначале, когда мне предложили признать себя виновным, я впал в панику, затем почувствовал гнев и замешательство. Я так и не узнал, в чем был обвинен, но задержавший меня офицер сказал, что глупо было отказываться признать вину, поскольку за мелкое преступление меня посадили бы всего на шесть месяцев, в то время как приговор за тяжкое преступление – по крайней мере пять лет. Я получил между пятью и тридцатью годами.»
Мистер Т. и Иозеф К. оба были вызваны на суд экзистенциальной виной, и оба предпочли уклоняться от вызова, интерпретируя вину традиционным образом. Оба заявляли о своей невиновности. В конце концов, ни тот, ни другой не совершил преступления. «Это должно быть какое‑то, недоразумение», – рассуждали они и посвящали себя убеждению внешних авторитетов в ошибке правосудия. Но экзистенциальная вина не есть результат какого‑либо преступного действия, совершенного индивидом. Напротив! Экзистенциальная вина (под любым из своих многочисленных имен – «самоосуждение», «угрызения совести», «сожаление» и т.д.) происходит от упущения. Иозеф К. и мистер Т. оба виновны вследствие не сделанного ими в их в жизни.
В переживаниях мистера Т. и Иозефа К. для психотерапевта заключен богатый смысл. «Вина» – это субъективное дисфорическое состояние, переживаемое как «тревожная плохость». Однако субъективная вина может иметь различные значения. Терапевт должен помочь пациенту различить реальную, невротическую и экзистенциальную вину. Экзистенциальная вина – это нечто большее, чем дисфорическое аффективное состояние, чем симптом, который должен быть проработан и устранен. Терапевту следует рассматривать ее как зов изнутри, который, если мы будем внимательны к нему, может стать нашим проводником к личностной самореализации. Тот, кто, подобно Иозефу К. или мистеру Т., испытывает экзистенциальную вину, совершил преступление против своей судьбы. Жертва преступления собственное потенциальное "я". Искупление достигается погружением в «подлинное» призвание человеческого существа, которое, как сказал Кьеркегор, есть «воля быть собой».
7. ВОЛЯ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ВОЛЯ И ДЕЙСТВИЕ
Японская пословица гласит: «Знать и не делать – вообще не знать». Осознание ответственности само по себе не синонимично изменению; оно только первый шаг в процессе изменения. Именно это я имел в виду, когда в предыдущей главе сказал, что пациент, который начинает осознавать ответственность, входит в преддверие изменения. В этой главе будет рассматриваться остальное путешествие – переход от осознания к действию.
Чтобы измениться, человек должен прежде всего принять на себя ответственность: он должен связать себя с каким‑то действием. Само слово «ответственность» обозначает эту способность – «ответ» + «способность»* – то есть способность ответить. Изменение является целью психотерапии, и терапевтическое изменение должно выражаться в действии, а не в знании, намерении или мечтаниях.
* Responsibility по‑английски – ответственность; response – ответ; ability – способность. – Прим. переводчика.
Это кажется совершенно очевидным, однако в психотерапии такой самоочевидный факт традиционно затемнялся. Первые аналитики были настолько убеждены, что знание о себе равносильно изменению, что рассматривали знание как конечный пункт терапии. Если изменение не происходило, это приписывалось тому, что пациент не достиг достаточного инсайта. В известной статье 1950 г., опубликованной в ведущем психиатрическом журнале, Аллен Велис (Alien Wheelis) счел необходимым напомнить психотерапевтам: «Терапия может быть причиной личностного изменения лишь постольку, поскольку она приводит пациента к принятию нового способа поведения. Реальное изменение, не связанное с действием, практически и теоретически невозможно».
Что такое действие, с точки зрения психотерапии? Является ли размышление действием? В конце концов, можно продемонстрировать, что мысль потребляет энергию. Велис доказывает, что расширение концепции действия, чтобы она включала в себя мысль, лишило бы действие его смысла. Мысль сама по себе и вне связи с другими явлениями не имеет внешних последствий, хотя может быть совершенно необходимой увертюрой к действию: человек может, например, планировать, репетировать действие или набираться решимости для него. Действие выводит человека за его пределы; оно включает в себя взаимодействие с окружающим человека физическим или межличностным миром. Оно не обязательно влечет за собой заметное или хотя бы только наблюдаемое движение. Легкий жест по отношению к другому или взгляд на него может быть действием, имеющим важный смысл. Действие имеет две стороны: его оборотная сторона – это отсутствие действия: например, не действие в привычной манере, не обжорство, не эксплуатирование других, не нечестность могут быть по‑настоящему важными действиями.
Терапевт должен добиваться действия. Он может притворяться, что преследует другие цели – инсайт, самоактуализацию, комфорт, – но в конечном счете любой терапевт втайне нацелен на изменение (то есть действие). Существует проблема, связанная с тем, что во время профессиональной подготовки терапевту не преподают механику действия; вместо этого его обучают сбору информации относительно прошлой жизни пациента, интерпретированию, терапевтическим отношениям; только путем мирского акта веры он может проникнуться убежденностью, что вся эта терапевтическая активность в конце концов породит изменение.
Но что если эта вера обманет? Тогда терапевт заходит в тупик и принимается толкать пациента к еще большему инсайту, еще большему самоисследованию; анализ и терапия растягиваются на три, четыре и пять лет. Более того, многие курсы психоанализа требуют семи и восьми лет, а второй анализ настолько распространен, что уже не кажется особенным явлением. Терапевт уже не представляет, как должно произойти изменение и лишь надеется, что в процессе взаимного утомления, используя удачное выражение Велиса, невротическая структура пациента даст трещины.
Но что если изменение все равно не происходит? Терапевт теряет терпение и устремляет пристальный взор на силу воли и действия пациента – вместо того чтобы, как его учили, поглядывать на них украдкой. По словам Велиса:
«…терапевт порой начинает чувствовать в себе желание, чтобы пациент был способен на большее „усилие“, большую „решительность“, большую готовность „приложить все силы“. Зачастую это желание выливается в замечания пациенту: „Люди должны помогать себе сами“, „Ничто ценное не дается без усилий“, „Вам придется постараться“. Подобные интервенции редко попадают в протоколы сессий, ведь считается, что они не обладают ни статусом, ни эффективностью интерпретации. Часто аналитик испытывает дискомфорт в связи с такими воззваниями к силе воли, как если бы он использовал то, во что не верит, и как если бы, анализируй он более искусно, в этом не было необходимости».
«Вам придется постараться». «Люди должны помогать себе сами». Велис говорит, что такой тип интервенций редко включают в протоколы случаев. Действительно, так и есть. Они совершенно «вне протокола». Но они вполне типичны; всякого терапевта посещают подобные мысли, и он самыми разнообразными путями доносит их до пациента.
Но когда терапевты говорят sotto voce: «Вы должны больше стараться» или «Человек должен совершать усилие», – кому они это говорят? Проблема, с которой сталкиваются многие терапевты, в том и состоит, что в аналитической (или бихевиористской) модели психики нет физической силы, к которой можно обращать этот призыв. Фрейдовская модель психики, как я описал ее в главе 2, основана на гельмгольцовом принципе, то есть это антивиталистическая, детерминистская модель, согласно которой человек приводится в активное состояние и контролируется «химико‑физическими силами, сводимыми к силам притяжения и отталкивания». Фрейд в этом вопросе был бескомпромиссен. «Через человека, – говорил он, – живет бессознательное…Глубоко укорененная вера в психическую свободу и в выбор совершенно ненаучна и должна отступить перед притязаниями детерминизма, управляющего психической жизнью». Человек для Фрейда, как сказал Мэй, «уже не управляет, а управляем». Поведение – это вектор, результирующая взаимодействия внутренних сил Но если это правда, если вся психическая и физическая деятельность человека детерминирована, если нет управляющего, тогда кто или что может «больше стараться», демонстрировать «решительность» или «мужество»?
Терапевт, в своей клинической работе принимающий «научную» детерминистскую позицию, вскоре сталкивается с серьезным вопросом: где в модели человека, состоящей из таких взаимосвязанных, но конфликтующих между собой частей, как Эго, Супер‑Эго и Ид, находится источник ответственности? Контекст этого вопроса был четко сформулирован моим супервизором, на которого я ссылался в начале части II: «Единственная цель психотерапии – подвести пациента к точке, где он может сделать свободный выбор». Но где место «выбирающего агента» в детерминистской модели? Неудивительно, что в течение пятидесяти наших совместных сессий он больше не развивал тему «цели психотерапии»!
Фрейд так и не разрешил противоречие между своей детерминистской моделью и своими терапевтическими усилиями; в работе «Эго и Ид», написанной им в шестьдесят семь лет, он отмечал, что задача терапевта – «дать Эго пациента свободу выбрать тот или иной путь». Это часто цитируемое утверждение является решающим доказательством неприемлемости его детерминистской модели человека. Пусть традиционная аналитическая мысль рассматривает человеческое поведение как полностью детерминированное, пусть она расщепляет человеческую психику на конфликтующие доли (Эго, Супер‑Эго и Ид; или предсознательное, бессознательное и сознательное), – по‑видимому, это не избавляет от необходимости ввести представление о некой недетерминированной сути. Новейшие Эго‑аналитики, выдвигающие концепцию «автономного Эго», продолжают обходить этот вопрос. Можно подумать, что в одной из частей заключен некий свободно выбирающий гомункулус. Но, конечно, это совершенно бессмысленная идея – говоря словами Мэя, «как часть может быть свободной, если целое не свободно?»
Некоторые терапевты пытаются разрешить эту дилемму, утверждая, что хотя люди испытывают субъективное ощущение свободы и выбора (и терапевт пытается усилить его), тем не менее это состояние иллюзорно – так же детерминировано, как любое другое субъективное состояние. Этот аргумент в точности приводится такими рационалистами, как Гоббс и Спиноза. Гоббс считает человеческое ощущение свободы фантазмом сознания. «Если бы деревянный волчок, который раскручивают мальчишки,…иногда вертящийся, иногда ударяющий окружающих людей по голеням, отдавал себе отчет в собственном движении, [он] думал бы, что оно происходит по его собственной воле». Точно так же Спиноза говорил, что самосознающий и способный чувствовать камень, приведенный в движение какой‑то внешней (неизвестной) силой, «верил бы, что он полностью свободен, и думал бы, что продолжает двигаться исключительно благодаря собственному желанию». Однако психотерапевты, полагающие, что свобода – лишь иллюзорное субъективное состояние, загоняют себя в угол: утверждая, что результатом успешной психотерапии является переживание пациентом большей свободы выбора, они фактически заявляют, что цель терапии – создать (или восстанавливать) иллюзию. Этот взгляд на терапевтический процесс, как указывает Мэй, абсолютно несовместим с одной из основополагающих ценностей психотерапии – поиском истины и самопознания.
Аналитическая модель психики упускает нечто жизненно важное, нечто, составляющее фундаментальный психологический конструкт и играющее центральную роль в любом курсе психотерапии. Прежде чем дать название этому конструкту, позвольте мне сделать обзор его характеристик и функций. Это психическая сила, трансформирующая понимание и знание в действие, это мост между желанием и действием. Это психическое состояние, предшествующее действию (Аристотель). Это психический «орган будущего» – так же, как память – психический орган прошлого (Арендт). Это способность спонтанно начать ряд последовательных действий (Кант). Это местонахождение силы воли, «ответственная движущая сила» внутри (Фарбер). Это «решающий фактор при переводе равновесия в процесс изменения, акт, происходящий между инсайтом и действием и переживаемый как усилие или решимость» (Велис). Это принятие на себя ответственности в противоположность осознанию ответственности. Это та часть психической структуры, которая обладает «способностью делать и воплощать выбор» (Ариети). Это сила, состоящая из энергии и желания, «спусковой крючок усилия», «ходовая пружина действия».
Этому психологическому конструкту мы присваиваем ярлык «воля», а его функции – «волеизъявление». Сказать по правде, я хотел бы выбрать что‑нибудь получше термин более простой, менее противоречивый, не настолько покрытый коркой двух тысячелетий теологической и философской полемики. У слова «воля» тот недостаток, что оно имеет множество определений, часто противоречащих друг другу. Например, Шопенгауэр в своей важной работе «Мир как воля и представление» рассматривает волю как жизненную силу – «нерациональную силу, слепую устремленную энергию, чьи операции не имеют ни цели, ни плана» и тогда как Ницше в «Воле к власти» приравнивает «волеизъявление» к власти и приказанию" «Проявлять волю значит приказывать, воле присуща распоряжающаяся мысль».
Одним из важных источников противоречия является тот факт, что воля сложно связана со свободой; ведь бессмысленно говорить о несвободной воле, если только мы. подобно Гоббсу и Спинозе, не изменяем волю так, что она становится скорее иллюзорным субъективным состоянием, чем действительным местонахождением силы воли. В ходе истории представление о свободной воле неизменно оказывалось несоответствующим господствующей точке зрения на мир Хотя споры о свободе воли продолжаются непрестанно, противники концепции на протяжении веков меняются. Греческие философы не имели термина, обозначающего свободу воли, сама концепция была несовместима с господствующей верой в вечное повторение, с верой, что, как выразил это Аристотель, «возникновение обязательно подразумевает предсуществование чего‑то, существующего потенциально, но не в реальности». Фаталисты‑стоики, которые считали, что все, что есть или будет, «должно быть», отвергали идею агента свободного волеизъявления в человеке. Христианская теология не могла примирить веру в божественное провидение, во всезнающего всемогущего бога с условиями свободной воли. Позже концепция свободы воли вошла в противоречие с научным позитивизмом, с верой Исаака Ньютона и Пьера Лапласа в объяснимую и предсказуемую вселенную. Еще позже гегельянское представление об истории как обязательном прогрессе мирового духа столкнулось с идеологией свободной воли, которая по самой своей природе отвергает обязательность и придерживается точки зрения, что все, что было совершено, с тем же успехом могло не быть совершенным. Наконец, свободная воля отвергается всеми детерминистскими системами, независимо от того, основаны они на экономических, бихевиористских или психоаналитических принципах.
Термин «воля» представляет проблему для психотерапевта. Он так давно был изгнан из лексикона терапии, что когда его привлекают сейчас, терапевту трудно его признать, словно старого знакомого, побывавшего во многих переделках и теперь вернувшегося из изгнания. Возможно также, что клиницист не уверен, хочет ли он признать это старое знакомство. Много лет назад «волю» заменили «мотивом», и терапевты научились объяснять действия человека на основе его мотивов. Поэтому такое поведение, как паранойя, «объясняется» (то есть «обосновывается») бессознательной мотивацией, связанной с гомосексуальными импульсами, генитальный эксгибиционизм «объясняется» бессознательной кастрационной тревогой. Однако объяснять поведение на основе мотивации значит освобождать человека от ответственности за его действия. Мотивация может влиять на волю, но не может заменить ее; несмотря на разнообразные мотивы, индивид все же имеет выбор – вести или не вести себя определенным образом.
При всех этих многочисленных проблемах никакой термин, кроме «воли» не служит нашей цели. Определения воли, которые я приводил выше («спусковой крючок усилия», «ответственная движущая сила», «ходовая пружина действия», «источник усилия»), чудесно описывают психологический конструкт, к которому апеллирует психотерапевт. Многие отмечали богатство оттенков значения слова «воля» (will). Оно выражает решимость и обязательство – Я‑таки сделаю это (I will do it). Глагол, происходящий от слова «воля», обозначает «волеизъявлять» – осуществлять волевой акт. Как вспомогательный глагол он указывает на будущее время. Последняя воля и завещание – это последнее усилие человека устремиться в будущее. Удачное выражение Ханны Арендт «орган будущего» имеет особенно важный смысл для терапевта, потому что будущее время – это и есть подлинное время психотерапевтического изменения. Память («орган прошлого») интересуется объектами; воля интересуется проектами; и, как я надеюсь продемонстрировать, эффективная психотерапия должна сосредоточиваться на проектных отношениях пациентов в той же мере, что и на их объектных отношениях.
Клиницист и воля
Если воля представляет собой «ответственную движущую силу» (на мой взгляд, это особенно полезное определение «воли») и если терапия требует движения и изменения, значит, терапевт, независимо от его референтной системы взглядов, должен пытаться влиять на волю.
Вернемся к предыдущей главе об ответственности: что происходит после того, как терапевту удалось помочь пациенту осознать, что каждый человек несет изначальную ответственность за свою тяжелую жизненную ситуацию? Простейший терапевтический подход, доступный терапевту, это подход нравоучительный: «Вы ответственны за то, что происходит с вами в вашей жизни. Ваше поведение, как вы сами знаете, вовлекает вас в это. Оно не в ваших интересах. Это не то, чего вы хотите для себя. Изменитесь же, черт возьми!»
Простодушное ожидание, что индивид изменится благодаря подобным увещеваниям, происходит непосредственно из взгляда нравственной философии, что если человек действительно знает добро (то есть то, что, в самом глубоком смысле, в его интересах), он будет действовать соответственно. («Человек, поскольку он действует по своей воле, действует в соответствии с каким‑то воображаемым добром» [Фома Аквинский]) Изредка – очень редко – этот нравоучительный подход бывает эффективен. Изменение в результате краткосрочной индивидуальной терапии, особенно краткосрочной группы переживаний (центр внимания в таких группах обычно сосредоточен на сознавании ответственности), часто связано именно с подобным обращением к сознательной воле.
Однако, и я буду об этом говорить, «сила воли» представляет собой лишь первый, и весьма тонкий, слой «волеизъявления». Редко когда изменения осуществляются в результате «обдуманного, медленного, глухого ко всему подъема воли», как выразил это Уильям Джеймс. Крепко укоренившаяся психопатология просто не поддается увещеваниям, чтобы повлиять на нее, требуется дополнительная терапевтическая энергия. Некоторые терапевты могут пытаться увеличить эффективность терапевтического рычага, акцентируя ответственность исключительно самого индивида. Терапевт помогает пациенту понять, что не просто индивид ответственен за его ситуацию, но только он ответственен. Из этого естественным образом следует, что он исключительно ответственен и за трансмутацию своего мира. Иными словами, никто не может изменить мир человека вместо него. Человек должен (активно) меняться, чтобы измениться.
Апелляция к воле может вызвать в пациенте некий подъем, некую активность, но обычно этого недостаточно для инициации продолжительного движения; и тогда терапевт принимается за долгую, трудную работу средней фазы терапии. Хотя конкретные тактики, стратегия, взгляд на механизмы и цели зависят от идеологической школы терапевта и от его личного стиля, я настаиваю, что терапия эффективна в той степени, в какой она влияет на волю пациента. Внешне терапевт может сосредоточиваться на интерпретации и инсайте, межличностной конфронтации, развитии доверительных и заботливых отношений или анализе дезадаптивного межличностного поведения, но все это можно рассматривать как пути влияния на волю. (Я намеренно использую термин «влияние», а не «творение» или «создание». Терапевт не может ни творить волю, ни вдыхать или вселять волю в пациента; он может только освобождать волю, снимать оковы со связанной, подавленной воли пациента.)
Но я не высказываюсь определенно. В своей терапевтической работе я иногда представляю волю, эту ответственную движущую силу внутри пациента, в виде турбины, закованной в тяжелые пласты металла и скрытой под ними. Я знаю, что жизненно важная, движущая часть помещается глубоко внутри машины. В замешательстве я кружу вокруг нес. Я пытаюсь воздействовать на нее на расстоянии увещеваниями, толчками, похлопываниями или заклинаниями, выполнением ритуалов, которые, как меня научили верить, повлияют на нее. Для этих ритуалов требуется много терпения и много слепой веры – на самом деле больше, чем имеется у многих из современных свободомыслящих терапевтов. Нужно не что иное, как более практичный, более рациональный подход к воле. В оставшейся части этой главы я попытаюсь демонтировать турбину и систематично исследовать волю как таковую, чтобы в результате отделить изменяющие шаги в психотерапии от ритуальных, декоративных шагов.
Поскольку воля на долгое время была изгнана из психологической и психотерапевтической литературы, я сначала очерчу контуры психологии воли. Я рассмотрю релевантные клинические наблюдения, касающиеся воли, сделанные тремя выдающимися психотерапевтами‑теоретиками Отто Ранком, Лесли Фарбером и Ролло Мэем, а затем, используя их инсайты в качестве руководящих ориентиров, расскажу о клинических стратегиях и тактиках психотерапии, влияющей на волю.
К КЛИНИЧЕСКОМУ ПОНИМАНИЮ ВОЛИ: РАНК, ФАРБЕР, МЭЙ
Отто Ранк – терапия воли
Обсуждение концепции воли в клинической работе должно включать в себя труды Отто Ранка, ведь именно он ввел концепцию воли в современную психотерапию. Ранк присоединился к Фрейду в 1905 г. как один из его первых учеников и был одним из его близких сотрудников до 1929 г., когда идеологические разногласия создали между этими двумя людьми непреодолимую пропасть. Профессиональный аналитик и гуманист, Ранк обладал обширными и глубокими интересами и знаниями, а его интеллектуальный накал в сочетании с горящими глазами навыкате оказывали мощное воздействие и на учеников, и на пациентов. Положение редактора ведущего психоаналитического журнала, а также основателя и директора могущественного Венского психоаналитического института сделало его весьма влиятельной фигурой на раннем этапе развития психоанализа. Но в Соединенных Штатах судьба, подстрекаемая скверными переводами его основных работ, которые сегодня (почти милосердно) не переиздаются, не слишком хорошо обошлась с Ранком. Правда, он считался влиятельной интеллектуальной силой в Пенсильванской школе социальной работы, но до недавнего времени, пока не выразил свое мнение Эрнест Беккер, у него не было ни единого открытого сторонника. Беккер считает Ранка гением будущего, ожидающим своего выхода на сцену, и действительно, я был изумлен его предвидением, читая его работы, особенно книги «Волевая терапия» и «Истина и реальность».
Ранковская система поведения и терапии была построена вокруг концепции воли; она слишком богата и сложна, чтобы позволить и небольшом очерке что‑нибудь, кроме краткого изложения клинически релевантных вопросов. Его отход от Фрейда произошел в результате несогласия с психическим детерминизмом последнего. Несмотря на убежденность Фрейда в том, что поведение представляет собой результирующий вектор противодействующих влечений и сил, как я отмечал раньше, в Эго контрабандой был пронесен свободно выбирающий гомункулус. Ранк выбрал в качестве отправного пункта этого гомункулуса с исполнительной функцией и приклеил ему ярлык «воля». Он сохранил концепцию инстинктивных влечений, но поместил их под юрисдикцию воли: «Я понимаю под волей позитивную направляющую организацию, которая творчески использует, а так, и сдерживает и контролирует инстинктивные влечения». Ранка больше беспокоил терапевтический результат, чем конструирование модели психики, и он был убежден, что строгий психический детерминизм несовместим с эффективной психотерапией. Терапевтическая процедура, посвященная раскрытию действующих на пациента влияний (исходящих как из бессознательного, так и из реальности на протяжении его личной истории), могла привести в результате, настаивал Ранк, только к тому, что пациент избегал бы ответственности и становился менее способным действовать. «Удивительно, насколько много пациент знает и насколько мало у него остается неосознанного, если не давать пациенту это удобное оправдание для отказа от ответственности». Ранк полагал, что теория Фрейда возводит бессознательное в ранг носителя функции растворения ответственности – той самой функции, которая в предшествующих системах убеждений выполнялась божеством:
«Бессознательное, как показывает изначальный смысл слова, это чисто негативная концепция, определяющее нечто как не сознаваемое в данный момент, и при этом теория Фрейда подняла его до самого мощного фактора в психической жизни. Основанием для этого, разумеется, является не какой‑либо психологический опыт, а нравственная необходимость, состоящая в том, чтобы найти приемлемую замену концепции Бога, освобождающую индивида от ответственности».
Развитие воли. В ходе развития индивида воля, считал Ранк, формируется во взаимосвязи с инстинктивными импульсами. На формирование воли оказывает влияние то, как родители осуществляют воспитание импульсов. Сначала окружение озабочено прежде всего ограничением импульсивности ребенка, имея в виду сделать его подходящим для своего сообщества. Ребенок отвечает на эти родительские ограничения противодействием – первым шагом в развитии воли или, как выразил это Ранк, «отрицательной волей». Постепенно ребенок начинает осуществлять личный контроль над своими импульсами и решениями – например, из любви к родителям обуздывать свои агрессивные импульсы.
Таким образом, поначалу функция воли сложно переплетена с импульсом: она либо контролирует импульс, либо сопротивляется внешним попыткам контролировать импульс. Эмоциональная жизнь ребенка, утверждал Ранк, также развивается в соотношении с инстинктивными импульсами. Эмоции отличаются от импульсов: импульсы мы стремимся разрядить, эмоции – продлить или удержать. (Ранк говорит здесь о приятных эмоциях, но не обсуждает дисфорические эмоции.) Следовательно, «можно сказать, что эмоциональная жизнь отвечает замедлению или удерживанию жизни импульсов».
Таким образом, Ранк выдвинул мысль, что эмоциональная жизнь – зеркальное отражение жизни импульсов, тогда как воля – отдельная исполнительная сущность, по силе равная системе импульсов. «Воля – это импульс, позитивно, активно поставленный на службу Эго, а не такой блокированный импульс, как эмоция». Позже Ранк говорил о воле как об «Эго‑импульсе». Ранк стремился оторваться от Фрейда, но не мог отделаться от фрейдовской теории влечений. Продолжая исходить из разделенности психики, Ранк создавал себе трудности, воля, свободно выбирающий агент, описывается как «эго‑импульс» – термин, порождающий столько же путаницы, сколько ясности.
Ранк рассматривал отношения родитель‑ребенок, а в действительности весь процесс, ассимиляции (и, как мы увидим, также и терапевтические отношения) как борьбу воль и настаивал, что родителям следует быть тонко чувствительными к этой ситуации. Отрицательную волю не следует уничтожать, но необходимо принимать таким образом, чтобы она трансформировалась в положительную или «творческую» волю.
Ранк считал, что другие важные проблемы начала жизни являются производными от основополагающей борьбы воль. «Эдипов комплекс не имеет другого значения, чем значение великого – если не первого – конфликта воль между растущим индивидом и противостоящей волей тысячелетнего нравственного кодекса, олицетворенного в родителях». Он (иронически) продолжал: «Ребенок должен подчиниться ему не потому, что ему следует оставить отца в живых и не следует жениться на матери, а потому, что он вообще не должен считать, что может делать то, что хочет, не должен доверяться собственной воле».
Ранк описал три стадии развития воли: (1) противоволя противостояние воле другого, (2) положительная воля проявление воли человека к тому, что он должен, (3) творческая воля – проявление ноли человека к тому, что он хочет. Цель воспитания ребенка (и цель терапии) трансформировать первые две стадии в творческую волю. Главная «ошибка» воспитания ребенка, полагал Ранк, это подавление жизни импульсов и ранней воли («противоволи» или «отрицательной» воли). Если родители учат ребенка, что всякое свободное проявление импульсов нежелательно и всякая противоположная воля плоха, ребенок страдает от двух последствий – подавления всей своей эмоциональной жизни и чахлой воли, обремененной виной. Он вырастает во взрослого, подавляющего свои эмоции и рассматривающего сам акт волеизъявления как дурной и запретный. Эти последствия крайне важны для терапевта, часто встречающего пациентов, способных чувствовать и, вследствие переживания вины, неспособных к волевому акту.
Нозологическая система Ранка основывалась на отклонениях развития воли. Он описал три основных типа характеров: творческий, невротический и антисоциальный. Творческий характер имеет доступ эмоциям и волевым актам по своему желанию. Невротический характер имеет волю, запутанную в клубок с виной, и замедленную эмоциональную жизнь. Антисоциальный характер имеет подавленную волю, им управляют импульсы.
Воля и психотерапия. Ранк считал, что и Фрейд и Альфред Адлер упразднили волю. Фрейд интерпретировал волю как сублимированное половое стремление, а Адлер рассматривал ее как компенсаторную тенденцию, позволяющую ребенку мириться со своим ощущением малости и неполноценности. Таким образом, оба они «отделывались» от воли, рассматривая ее как производную функцию. В отличие от них, Ранк утверждал «априорную волю» и подчеркивал центральную роль воли не только в развитии ребенка, но и в терапии (которая, по его представлению, всегда осуществляется в контексте воли).
Ранк рассматривал взаимодействие терапевт‑пациент во многом так же, как опыт отношений родитель‑ребенок. В терапии «сталкиваются две воли: либо одна побеждает другую, либо обе они борются друг с другом за превосходство». Цель терапии для невротика должна состоять в том, чтобы научить его проявлять волю и, самое главное, проявлять волю без вины". Воля входит в терапевтическую ситуацию на самых первых сессиях, замечал Ранк. Следовательно, начало терапии – это «не что иное, как дебют великого поединка воль, в котором первая легкая победа над явно слабовольным пациентом много раз будет жестоко отомщена». Пациент вступает в волевой конфликт с терапевтом, желая одновременно сопротивляться и покориться. Фрейд, считал Ранк, совершил серьезную ошибку, игнорируя этот волевой конфликт. «Битва за превосходство [между аналитиком и пациентом] настолько очевидна, что только желание ее не видеть может объяснить то, что Фрейд пренебрегает ею». Ранк полагал, что фрейдовская техника не укрепляет волю, а скорее подрывает ее двумя путями: через свою основную процедуру и через управление «сопротивлением».
Во‑первых, по мнению Ранка, основная процедура психоанализа – процедура, требующая состояния «безволия» и от пациента, и от терапевта, – ведет к ослаблению воли. «Основное аналитическое правило свободных ассоциаций особо предписывает полностью уничтожить тот маленький кусочек воли, который, может быть, еще не подорван вашей невротической слабостью, и отдаться руководству бессознательного…» (Этот комментарий предвосхищает критику, обрушенную на психоанализ спустя десятилетия: например, Сильвен Томкинс (Sylvan Tomkins) говорил о психоанализе как «систематическом тренинге нерешительности», а Аллен Велис заявил, что «умники нового времени энергично укладываются на кушетку и в результате не всегда могут энергично взяться за свою работу».)
В курсе терапии пациент противостоит тому, что он воспринимает как волю терапевта. Фрейд наклеил на это противостояние ярлык «сопротивление», считал его препятствием и предлагал различные пути (терпение, руководство, интерпретацию), чтобы его преодолеть. По мнению Ранка, этот взгляд на сопротивление был серьезной ошибкой: он полагал, что протест пациента – здоровая и существенная манифестация противоволи и, являясь таковым, он должен не устраняться, а поддерживаться и трансформироваться в творческую волю. «Задача терапевта – функционировать таким образом, чтобы воля пациента не разрушалась, но укреплялась». Если терапевт будет пытаться заставить пациента делать то, что «правильно», пациент будет сопротивляться, и терапия провалится. (Несомненно, это утверждение содержит в себе зародыш современной психотерапевтической тактики «парадокса».) Поэтому Ранк систематически подкреплял все проявления воли пациента: если пациент сопротивлялся или предлагал закончить терапию, Ранк в ответ не упускал случая подчеркнуть, что считает эти позиции прогрессом. Он утверждал: «Невротик не может проявлять волю без чувства вины. Ситуация может быть изменена не им самим, а только в отношениях с терапевтом, который принимает волю пациента, оправдывает ее, подчиняется ей и делает ее хорошей».
Одна из ситуаций, где воли пациента и терапевта определенно сталкиваются, – это окончание терапии. Некоторые пациенты предпочитают заканчивать стремительно, тогда как другие отказываются заканчивать и, если необходимо, цепляются за свои симптомы, чтобы сопротивляться усилиям терапевта подвести терапию к завершению. Ранк полагал, что это столкновение воль содержит большой терапевтический потенциал, и сожалел, что он должен удерживаться до конца терапии, а то и вообще воплощаться лишь за ее пределами. Не разумнее ли было бы перевести этот волевой конфликт в середину терапевтической сцены, а еще лучше – в начало терапии? Ранк пытался делать именно это с помощью специального пункта терапевтического сеттинга – точного «лимита времени». Его «сеттинг завершения» проецировал последнюю фазу терапии на начало лечения.
Эти терапевтические стратегии, относящиеся к воле, отражают лишь один аспект терапевтического подхода Ранка. Позже я расскажу о его взглядах на «переживание», на роль настоящего и будущего времени и на природу терапевтических отношений.
Лесли Фарбер – два рода воли
В своей попытке противостоять тому, что он рассматривал в концепциях Фрейда и Адлера как разрушение воли и ответственности, Ранк, может быть, преувеличивал роль волевой энергии и волевых проявлений. В целом акт сознательной воли не является источником изменения пациентов в терапии. Более того, терапевта часто приводит в замешательство (а исследователя сводит с ума) то, что изменение происходит на скрытом уровне, далеком от понимания и терапевта, и пациента.
Является ли скрытое, «неволевое» изменение актом воли? Именно этот вопрос о связи между волевым актом и волей, основанной на бессознательном процессе изменения, создавал столь большие трудности для психологов, пытавшихся сформулировать краткое рабочее определение воли. Лесли Фарбер (Lesli Farber) внес в психологию воли жизненно важную коррективу – преувеличенный акцент на сознательную волю. Фарбер полагает, что попытки определить волю оказывались неудачными потому, что существуют два разных рода воли, настолько отличных друг от друга, что охватить их оба Могло бы только самое бессодержательное определение.
Первый род воли по Фарберу – и именно в этом состоит его самый важный вклад – не переживается сознательно в процессе волевого акта и вывод о нем должен делаться после события; об этой воле можно сказать, что она бессознательна. Фарбер цитирует У.Х.Одена.
«Когда я оглядываюсь на три или четыре выбора в моей жизни, которые оказались решающими, я нахожу, что в то время, когда я их делал, я очень мало понимал серьезность того, что делаю, и только позже я обнаружил, что казавшееся незначительным ручейком на самом деле было Рубиконом».
Таким образом, Фарбер выдвигает мысль, что важные выборы, которые человек делает в жизни (и я уверен, он сказал бы – в терапии) не переживаются сознательно как выборы. Действительно, только после события человек способен прийти к выводу, что реально сделал выбор. Об этом роде воли можно думать как о подземном потоке жизни, имеющем направление, но не имеющем дискретных объектов, или целей. Он обеспечивает индивиду движение вперед, но ускользает от непосредственного и прямого исследования.
Второй род воли – сознательный: он переживается непосредственно во время события. Человек без больших затруднений может охарактеризовать ее присутствие, форму и силу. Второй род воли движет нас к определенной цели (в отличие от первого, представляющего собой чистое движение) и утилитарен по своей природе: «Я делаю это, чтобы получить то». Цель проявлений этого рода воли известна с самого начала (например, снижение веса, изменение межличностного стиля или окончание колледжа).
В терапии к этим двум разновидностям воли необходимо подходить по‑разному. Со вторым (сознательным) родом воли контактируют путем увещевания и апелляции к волевой энергии, усилию и решительности. Первая разновидность воли недоступна для этих инструкций, и с ней надо взаимодействовать косвенно. Серьезная проблема возникает тогда, когда человек применяет к первому роду воли увещевательные техники, предназначенные для второго. Фарбер предлагает несколько примеров:
«Объектом моей сознательной воли может быть знание, но не мудрость; укладывание в постель, но не сон; прием пищи, но не устранение чувства голода; кротость, но не смирение; добросовестность, но не добродетель; самоутверждение или бравада, но не мужество; удовлетворение влечения, но не любовь; сочувствие, но не симпатия; поздравление, но не восхищение; религиозность, но не вера; чтение, но не понимание».
В этих словах Фарбера содержится чрезвычайно важная для терапевта мысль, к которой я много раз буду возвращаться в этой главе. Однако кое‑что из того, что делается в психотерапии, – «не‑могущие» колокольчики и дух «победы через устрашение», характерный для многих книг по самопомощи, издаваемых сейчас лавиной, – свидетельствует о том, что предупреждение Фарбера осталось незамеченным и что многие психотерапевты совершают ошибку, пытаясь заставить волю второго рода (сознательную) выполнять работу воли первого рода.
Ролло Мэй – желание и воля
Прекрасная книга Ролло Мэя «Любовь и воля» полна богатых клинических инсайтов, в числе которых – инкорпорация «желания» в психологию воли. Мэй напоминает нам, что желание – предшественник воли, что без первоначального желания не может быть никакого осмысленного действия. Проявление воли – это не только энергия и решительность, но и потенциал, тесно связанный с будущим. Через волю мы проецируем себя в будущее, и желание – начало этого процесса. Желание – «это признание того, что мы хотим, чтобы будущее было таким‑то и таким‑то, это способность проникнуть глубоко в себя и заполнить себя стремлением изменить будущее».
Важно различать «желание» по Мэю и желание, определенное иначе, которое играет важную роль в аналитической модели психического функционирования. Фрейд в своей метапсихологии говорит о желании как о «психическом олицетворении влечения». «Только желание может привести психический механизм в движение»; «Желание – это стремление ослабить напряжение», – неоднократно заявлял Фрейд.
Самое полное выражение этой позиции содержится в часто цитируемой главе 7 «Толкования сновидений», где Фрейд ясно изложил свое мнение, что человек действует по принципу постоянства, то есть пытается поддерживать уровень коркового возбуждения на постоянной высоте. Когда возникает нарушение равновесия (например, младенец испытывает голод), организм испытывает «желание» быть накормленным и действует таким образом (например, кричит или как‑то сигнализирует о дискомфорте), чтобы восстановить равновесие. Постепенно, благодаря тому, что за голодом каждый раз следует кормление, ребенок приобретает визуальную репрезентацию (образ, или «галлюцинацию») того, что его кормят. Позже, под давлением принципа реальности, он научается отсрочивать удовлетворение, вызывая визуальную репрезентацию переживания кормления. Этот процесс желания и внутреннего, временного удовлетворения желания, доказывал Фрейд, является Anlage (предпосылкой) всего мышления. Желание может существовать на разных уровнях сознания. Бессознательное желание – это психическая репрезентация импульса Ид. Сознательные желания обычно представляют собой компромиссные образования, то есть бессознательные желания, укрощенные и приобретшие определенные формы под воздействием Супер‑Эго и бессознательных частей Эго. Значит, по Фрейду, желание – это несвободная сила, родственная тропизму.
Сартр критиковал фрейдовскую теорию вытеснения на том основании, что в ней игнорируется "я". «Как может быть ложь без лжеца?» – спрашивал Сартр. Или обман без обманщика? Или отрицание без отрицающего? Фрейдовская концепция желания вызывает подобную же критику: как может быть желание без желающего?
Мэй подчеркивает, что желания отличаются от потребностей, сил или тропизмов в одном важном отношении: желания наполнены смыслом. Индивид не желает слепо. Мужчина не просто желает, например, секса с женщиной: он находит одну женщину привлекательной, а другую отвратительной. Желание селективно и чрезвычайно индивидуализировано. Если мужчина хочет половых отношений со всеми женщинами без разбора, значит, с ним что‑то всерьез не так. Это состояние является результатом либо необычного давления среды, как в случае с солдатами, размещенными на долгое время на изолированной арктической станции, либо психопатологии: человек отказывается от своей свободы и становится уже не управляющим, а управляемым. Именно такое состояние «желания» без желающего мы называем «неврозом». Это имел в виду Мэй, когда сказал: «В неврозе нарушаются символические смыслы, а отнюдь не импульсы Ид».
Желание, которое Мэй определяет как «воображаемую игру с возможностью возникновения какого‑то акта или состояния», первый шаг процесса проявления воли. Только после того, как возникает желание, индивид может нажать на «спусковой крючок усилия» и инициировать оставшуюся часть волевого акта, заключающегося в принятии внутреннего обязательства и выборе, который достигает кульминации.
«'Желание' дает 'воле' теплоту, содержание, воображение, детскую игру, свежесть и богатство. 'Воля' дает 'желанию' самонаправленность, зрелость. Без 'желания' 'воля' теряет свою жизненную силу, свою жизнеспособность и склонна угаснуть в самопротиворечии. Если у вас есть только 'воля' и нет 'желания', вы – сухой человек, викторианец, неопуританин. Если у вас есть только 'желание' и нет 'воли', вы – одержимый, несвободный, инфантильный человек, взрослый, остающийся ребенком, который, соответственно, может превратиться в человека‑робота».
ВОЛЯ И КЛИНИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
Воля не является эзотерической концепцией, представляющей интерес только для необычных пациентов и терапевтов; она в многообразных проявлениях присутствует в терапии каждого пациента. Некоторые пациенты обращаются за терапией по причине расстройства воли. Но поскольку в стандартной нозологии воле нет места, о проблеме, разумеется, не говорят в такой формулировке. В этом случае человек может восприниматься как обсессивно‑компульсивный и вынуждаемый внутренним давлением действовать против своей воли. Или как нерешительный, неспособный желать, хотеть чего‑то для себя или действовать. Или как охваченный агонией какого‑то особенно болезненного решения. Или как робкий, застенчивый, неуверенный в себе, или как переполняющийся чувством вины, когда пытается чего‑то желать. Согласно Ранку, индивида могли в начале жизни научить, что проявлять импульсы дурно, и он мог распространить это осуждение на всю волевую сферу.
Даже если в имеющейся клинической картине нет никакого явного нарушения воли, проблема воли неизбежно возникнет во время психотерапии. Воля присутствует в самом акте изменения. В какой‑то момент пациент должен прийти к согласию в отношении своих подлинных желаний, должен определить для себя какую‑то направленность, занять позицию, выбрать, сказать чему‑то «да», а чему‑то «нет». Воля присутствует также в любых отношениях терапевт‑пациент. Хотя Ранк преувеличивал проблему, рассматривая терапию как «поединок двух воль», он внес значительный вклад тем, что привлек внимание к этому важному аспекту терапевтического процесса. Некоторые пациенты и терапевты действительно «сплетаются рогами» в борьбе за доминирование, и в этих случаях акцент Ранка справедлив. Сопротивление или упрямство со стороны пациента не всегда является препятствием для терапии, и его не обязательно детально анализировать. Ведь это, заявляет Ранк, позиция, которую занимает пациент; принимая и подкрепляя эту позицию, терапевт может способствовать развитию способности пациента желать, не испытывая при этом чувства вины.
Одним из главных препятствий в принятии терапевтом теории воли является ошибочное мнение, что «воля» синонимична «силе воли». Но, как свидетельствует фарберовская концепция «двух родов», в проявлении воли содержится много большее, чем сознательная, «скрежещущая зубами» решимость. Как будет обсуждаться ниже, на самом деле всестороннее рассмотрение смысла и корней «волеизъявления» приводит нас к глубочайшим бессознательным проблемам. Но даже бессознательное волеизъявление не бывает без решимости и обязательства. Изменение без усилий невозможно; пациент должен приводить себя на терапию, должен платить деньги, должен нести бремя ответственности, должен переживать конфликт и тревогу, которые неизбежно сопровождают терапевтическую работу. Короче говоря, транспортное средство терапии не имеет гладкой, бесшумной коробки передач; требуется усилие, а воля является «спусковым крючком усилия».
Концепция воли настолько широка и громоздка, что в целом о ней можно сделать только обобщенные, тривиальные комментарии. Чтобы говорить о воле клинически полезным образом, я должен рассмотреть составляющие ее части по отдельности. В философском трактате Ханны Арендт о воле приводится естественное разделение:
«[Есть] два абсолютно разных пути понимания способности воли: с одной стороны, как способность выбора между объектами и целями, liberum arbitrium, действующую в качестве арбитра между данными целями и свободно взвешивающую средства их достижения; и с другой стороны, как нашу „способность спонтанно начинать последовательность действий во времени“ (Кант), или, по Августину, „initium ut esset homo creatus est“, способность человека к начинанию, основанную на том, что он сам – начало».
Эти два способа понимания воли – как способность «спонтанно начинать последовательность действий во времени» и как способность выбора между данными целями и выбора средств их достижения – имеют очевидные и важные клинические корреляты. Мы инициируем через желание, а затем развиваем через выбор.
Цель клинициста – изменение (действие); ответственное действие начинается с желания. Человек только тогда может действовать для себя, когда имеет доступ к своим желаниям. Если он испытывает недостаток в этом доступе, он не может проецировать в будущее, и ответственный волевой акт умирает при рождении. Как только желание становится явным, оно запускает процесс волеизъявления, в конце концов трансформирующийся в действие. Как мы назовем этот процесс трансформации? Между желанием и действием должно стоять обязательство: мы как бы «заносим в свой внутренний протокол свое стремление сделать то‑то». На мой взгляд, наиболее удачные термины «решение» или «выбор»;* последний используется и клиницистами, и представителями социальных наук. Принять решение означает, что последует действие. Если действие не следует, значит, никакого подлинного решения не было принято. Если желание возникает без действия, значит, не было никакого истинного проявления воли. (Если действие возникает без желания, то «волеизъявления» также нет, а есть только импульсивная деятельность.)
* Я буду использовать термины «решение» и «выбор» попеременно Они синонимичны, но каждый берет начало из своей традиции, «выбор» – это преимущественно философский термин, «решение» – преимущественно социально‑психологический термин. Их попеременное использование согласуется с моим стремлением объединить эти дисциплины в данной дискуссии.
На любой из этих фаз проявления воли – желания и решения – могут возникать различные нарушения, каждое со своей клинической картиной, требующее своего терапевтического подхода.
ЖЕЛАНИЕ
– Что мне делать? Что мне делать?
– Что мешает тебе делать то, что ты хочешь делать?
– Но я не знаю, что я хочу! Если бы я знал, я не был бы здесь!
Сколь часто терапевт участвует в подобных обменах репликами? Как часто терапевтам встречаются пациенты, которые знают, что им следует делать, что им нужно делать и что они должны делать, но не имеют переживания того, что они хотят делать? Работа с индивидами, неспособными желать, – чрезвычайно фрустрирующий опыт, и мало кто из терапевтов не был готов, подобно Мэю, воскликнуть: «Неужели вы никогда ничего не хотели?» Индивид с блокированными желаниями имеет огромные социальные трудности. Другим тоже хочется кричать на таких людей. У них нет мнений, нет склонностей, нет собственных требований. Такой человек паразитирует на желаниях других, а тем в конце концов надоедает это, их изматывает и утомляет необходимость снабжать его своими желаниями и своим воображением.
«Неспособность» желать это слишком сильно сказано. Чаще индивид не доверяет своим желаниям или подавляет их. Многие люди, в попытке выглядеть сильными, решают, что лучше вообще не хотеть; желание делает человека уязвимым или разоблачает его: «Если я никогда не буду желать, я никогда не буду слабым». Другие, деморализованные, делают себя нечувствительными к собственному внутреннему опыту: «Если я никогда не буду желать, я больше никогда не буду разочарован или отвергнут». Иные скрывают свои желания от собственного взора в инфантильной надежде, что некий вечный попечитель сможет прочесть их желания вместо них. Есть что‑то бесконечно успокоительное в вере в то, что кто‑то другой удовлетворит наши невыраженные желания. Есть люди, настолько боящиеся быть оставленными своими попечителями, что подавляют всякое прямое выражение личного желания. Они не позволяют себе желать, как если бы их желания раздражали других, угрожали им или отталкивали их.
Неспособность чувствовать
Неспособность желать или переживать свои желания не получила широкого и явного обсуждения в клинической литературе. Обычно это свойство воспринимается как составной компонент глобального нарушения – неспособности чувствовать. Психотерапевт часто сталкивается с пациентами, которые выглядят неспособными чувствовать или выражать свои чувства словами. Они неспособны различать разные аффекты, и возникает впечатление, что такие пациенты одинаково переживают радость, гнев, печаль, беспокойство и т.п. Они не в состоянии локализовать чувства внутри своего тела и особенно поражают недостатком фантазий, относящихся к внутренним влечениям и аффектам. В 1967 г. Питер Сайфенос (Peter Sifenos) предложил для обозначения этой клинической картины термин «алекситимия» (от греческого выражения, означающего «нет слов для чувств»); и с тех пор появилась огромная масса литературы об алекситимичных пациентах. Особенно вероятна алекситимичность у психосоматических пациентов, хотя встречается много алекситимичных индивидов и с другими клиническими картинами.
Выражение аффекта всегда считалось важной частью психотерапии. В 1895 г. Фрейд в «Исследованиях истерии» впервые постулировал, что причиной истерии является наличие какого‑то сильного аффекта (возникшего, например, в результате травматического инцидента) у индивида". В отличие от большинства сильных эмоциональных реакций, находящих выход через «нормальный процесс израсходования в отреагировании», этот аффект сохраняется и вытесняется в бессознательное. Как только это происходит, «принцип постоянства»* оказывается нарушен: уровень внутрицеребрального возбуждения повышается, и индивид, чтобы восстановить равновесие, развивает симптом, символически предоставляющий выход напряжению. Таким образом, психиатрическая симптоматика порождается «задавленным аффектом», и психиатрическое лечение должно состоять в высвобождении этого заточенного аффекта и создании для него возможности войти в сознание и быть разряженным через катарсис.
* То есть потребность организма сохранять постоянный уровень напряжения.
Хотя это была первая фрейдовская формулировка терапевтического механизма и он быстро понял, что катарсис как таковой является недостаточным средством терапии, его формулировка настолько прекрасна в своей простоте, что сохранилась на десятилетия. Этой точке зрения, воплощенной в бесчисленных голливудских фильмах, никак не откажешь в популярности. Современный же взгляд состоит в том, что, хотя катарсис сам по себе не производит изменения, он играет необходимую роль в терапевтическом процессе. Нет никаких сомнений в том, что данная позиция подтверждена значительным числом исследований. Например, мы с коллегами исследовали ряд пациентов, имевших весьма успешные результаты психотерапии. Для того чтобы выявить эффективные терапевтические механизмы, мы разработали список из шестидесяти пунктов (см. главу 6) и попросили пациентов проранжировать их в порядке значимости каждого пункта для их личного изменения. Пункты, связанные с катарсисом, оказались в среднем на втором и четвертом месте из шестидесяти.
Совсем недавно происходил бурный рост новых видов терапии (например, гештальттерапия, терапия интенсивного чувствования, «имплозивная терапия», биоэнергетика, эмоциональный поток, психодрама, терапия первого крика), которые сходны между собой по значимости, придаваемой ими сознаванию и выражению чувств. Хотя каждый из этих терапевтических подходов выдвигает собственное обоснование для данного акцента, некоторые важные позиции для них, по‑моему, являются общими. Согласно каждому из них, сознавание и выражение чувств полезно для индивида в двух базисных аспектах: оно облегчает межличностные отношения и развивает способность человека желать.
Чувствование и межличностные отношения
Роль выражения аффекта в межличностных отношениях самоочевидна. У алекситимичного индивида возникают значительные проблемы в отношениях. Другие никогда не знают, что такой человек чувствует: он производит впечатление лишенного спонтанности, безжизненного, тяжеловесного, вялого и скучного. Окружающие чувствуют себя обремененными тем, что вынуждены порождать все аффекты в отношениях с ним, и начинают задаваться вопросом, действительно ли они любимы этим скованным человеком. Движению такого блокированного индивида настолько нарочиты и не спонтанны, что кажутся натянутыми и ненастоящими. Нет игры, нет веселья, есть только неуклюжее, тяжеловесное наблюдение за самим собой. К тому, кто не чувствует, не тянутся другие, он существует в состоянии одиночества, отрезанный не только от собственных чувств, но и от чувств других людей.
Чувствование и желание
Способность человека желать автоматически активизируется, когда ему помогают чувствовать. Если желания человека основываются на чем‑то ином, чем чувства, – например, на рациональном размышлении или нравственных императивах, – это уже не желания, а «долженствования» или «необходимости», и человек оказывается заблокирован от коммуникации со своим реальным "я".
Один пациент в терапевтической группе оказался неспособным понять другую пациентку, огорченную из‑за того, что ее терапевт уезжал в отпуск на месяц. «Стоит ли расстраиваться, если вы ничего не можете поделать с этим» Иными словами, он поставил чувства и желания в подчиненное положение по отношению к утилитарной цели и в результате сказал. «Если от этого не происходит ничего полезного, зачем желать и зачем чувствовать?» Индивид такого типа действует и имеет внутреннее ощущение руководства, но он не желает Его желания возникают извне, а не изнутри. Его внутреннее состояние желания или чувствования определяется обусловленными внешней средой нуждами и предписаниями рациональности, наблюдателю та кой индивид может казаться механическим, предсказуемым и безжизненным.
Другой индивидуум – подобные люди особенно заметны в терапевтической группе – пытается установить, что ему следует чувствовать или желать, исходя из того, чего хочет другой, а затем потакая этому другому. Эти индивиды не спонтанны, их поведение чрезвычайно предсказуемо, и, следовательно, они неизбежно надоедают другим.
Желание – это больше, чем мысль или бесцельное воображение. Желание содержит аффект и компонент силы. Если аффект блокирован, человек не может испытывать собственные желания, и весь процесс волеизъявления сходит на нет. Нигде не найти такого захватывающего описания человека, который не мог ни действовать, ни желать, потому что не мог добраться до своих чувств, как в «Возрасте разума» Сартра.
«Он закрыл газету и начал читать сообщение специального корреспондента на первой странице. Уже насчитали пятьдесят погибших и триста раненых, но это не все, конечно, есть трупы под обломками…Во Франции в то утро тысячи людей не могли читать свою обычную газету без ощущения комка гнева, поднимающегося в горле, тысячи людей, которые сжимали кулаки и бормотали „Свинья!“ Матье сжал кулаки и пробормотал. „Свинья!“ и почувствовал себя еще более виноватым. Если бы он мог обнаружить в себе хотя бы незначительную эмоцию, но по‑настоящему живую, сознающую свои границы. Но нет он был пуст, он был лицом к лицу с безбрежным, отчаянным гневом, он видел его и почти мог коснуться Но гнев был инертен – если ему суждено жить и находить выражение и страдание, Матье должен отдать ему свое тело. Это был гнев других людей. „Свинья!“ Он сжал кулаки, заходил широкими шагами, но ничего не произошло, гнев оставался для него внешним…Что‑то было на пороге существования, боязливый рассвет гнева. Наконец‑то! Но гнев истощился и изнемог, и Матье остался в одиночестве, идущий ритмичной и пристойной походкой человека в похоронной процессии в Париже… Он вытер лоб носовым платком, он подумал 'Невозможно силой вызвать у себя более глубокие чувства'. Где‑то там было трагическое и тревожное состояние дел, которое должно вызывать у человека глубочайшие эмоции. 'Бесполезно, ничего не получится…'»
Чувство является предпосылкой желания, но не тождественно ему. Человек может чувствовать, не желая и вследствие этого не проявляя волю. Некоторые из наиболее известных «лишенных желаний» персонажей современной литературы – например, Мерсо из «Постороннего» Альбера Камю и Мишель из «Безнравственного» Андре Жида – были проницательными сенсуалистами, но изолированными от собственных желаний, особенно от желаний в сфере межличностных отношений. Их действия были импульсивно взрывными и в конечном счете глубоко деструктивными для других и для них самих.
Блокирование аффекта и психотерапия
Психотерапия пациентов с блокированным аффектом (то есть с блокированным чувством) медленна и трудоемка. Самое главное – терапевт должен проявлять настойчивость. Раз за разом ему придется спрашивать: «Что вы чувствуете?»; «Чего вы хотите?» Снова и снова ему нужно обращаться к исследованию источника и природы блока и подавленных чувств. Блокада очевидна даже для нетренированного взгляда, поэтому легко напрашивается вывод: если бы только можно было ее разрушить, если бы только можно было взорвать плотину, сдерживающую аффект пациента, – здоровье и целостность потоком хлынули бы через пролом. Поэтому многие терапевты в поисках прорыва при терапии пациентов с блокированным аффектом используют некоторые новые техники: гештальт, психодраму, биоэнергетику и генерирующую аффект технику встреч.
Работает ли стратегия прорыва? Может ли терапевт взрывом проложить путь через систему защит пациента с блокированным аффектом и позволить выйти прегражденным эмоциям? Мы с коллегами пытались проверить это в исследовательском проекте, изучая тридцать пять пациентов, находящихся в средней фазе долгосрочной психотерапии (многие из них имели блокированный аффект и увязли в терапии), и пытаясь определить, позволяет ли опыт пробуждения аффекта существенно изменить последующий курс индивидуальной терапии. Мы отправляли каждого из этих пациентов на уик‑энд в одну из трех разных групп для приобретения опыта. В двух группах использовались пробуждающие аффект интенсивные приемы из арсенала инкаунтера и гештальттерапии, а третья – группа медитации и сознавания тела – служила контрольной группой эксперимента, поскольку в ней не было ни пробуждения аффекта, ни межличностного взаимодействия. Оказалось, что, хотя в течение проведенных в группе выходных у многих пациентов произошли мощные эмоциональные прорывы, они не сохранились надолго, и ощутимый эффект на последующем курсе индивидуальной терапии отсутствовал.
Таким образом, хотя и важно создавать аффект в терапии, нет данных в пользу того, что быстрый интенсивный аффект сам по себе терапевтичен. Как бы мы ни хотели иного, психотерапия – это «циклотерапия», то есть долгий, трудно продвигающийся процесс, с неоднократной проработкой одних и тех же проблем в терапевтической среде, с повторяющимся пересмотром жизненных стереотипов пациента. Если прорыв аффекта не является эффективной терапевтической моделью, нельзя считать ею и противоположный подход – стерильный, чрезмерно интеллектуализированный, чрезвычайно рациональный подход к терапии. Аффективная вовлеченность – Франц Александер называл ее «коррективным эмоциональным опытом» – это необходимый компонент успешной терапии. Хотя многие первые терапевты (такие, как Шандор Ференци, Отто Ранк, Вильгельм Райх и. Юлиус Морено) признавали необходимость аффективной вовлеченности и вводили техники, направленные на то, чтобы сделать терапевтическую встречу более реальной и аффективно нагруженной, заслуга разработки подхода, нацеленного на усиление сознавания аффекта индивидом, принадлежит прежде всего Фрицу Перлзу.
Фриц Перлз. «Потеряйте голову и подойдите к чувствам». Перлз упрямо сосредоточивался на осознании. Его терапия это «терапия переживанием, а не вербальная или интерпретативная терапия». Он работал только в настоящем времени, потому что считал, что невротики и так слишком много живут в прошлом:
«Гештальт‑терапия – это терапия „здесь и сейчас“, в которой мы предлагаем пациенту во время сессии обратить все свое внимание на то, что он делает в настоящем, в ходе сессии – именно здесь и сейчас,… осознать свои жесты, свое дыхание, свои эмоции и свою мимику, так же как и свои настоятельные мысли».
Перлз часто начинал с сознавания сенсорных и кинестетических впечатлений. Например, если пациент жаловался на головную боль, Перлз мог предложить пациенту сосредоточиваться на головной боли, пока тот не обнаруживал, что она связана с сокращениями лицевых мышц. Затем Перлз мог предлагать ему усиливать сокращения и на каждом шаге говорить о том, что он осознает. Постепенно пациента вели от кинестетического ощущения к аффекту. Например, пациентка так описывала свое лицо: «Это как если бы я кривила лицо, чтобы заплакать». В этот момент терапевт мог поощрить аффект вопросом: «Вам хотелось бы сейчас плакать?»
Перлз начинал с осознания и постепенно продвигался к «желанию».
"Я убежден, что только техника сознавания может дать значимые терапевтические результаты. Если бы терапевт в своей работе был ограничен тем, что может задать только три вопроса, он в конце концов добивался бы успеха со всеми пациентами, кроме страдающих самыми серьезными нарушениями. Эти три вопроса таковы: «Что вы делаете в настоящий момент?»; «Что вы чувствуете?»; «Чего вы хотите?»
Перлз стремился помогать пациентам чувствовать, «присваивать» эти чувства, а затем осознавать желания и потребности. Например, если пациент интеллектуализировал или задавал терапевту одни и те же вопросы, Перлз мог подтолкнуть его к вербализации утверждения и желания, стоящих за вопросом.
Пациент: Что вы имеете в виду под поддержкой?
Терапевт: Не мог бы ты превратить это в утверждение
Пациент: Я хотел бы знать, что вы имеете в виду под поддержкой
Терапевт: Это все еще вопрос Не мог бы ты превратить его в утверждение
Пациент: Я хотел бы разнести вас в пух и прах этим вопросом, если бы имел такую возможность.
В этот момент пациент получает больший доступ к своему аффекту, а также к своим желаниям.
Цель пробуждения аффекта – не просто катарсис, а помощь пациенту в том, чтобы вновь обнаружить свои желания Одна из главных проблем гештальт‑терапии состоит в том, что многие терапевты настолько увлекаются техниками пробуждения аффекта, что теряют из виду более глубокую цель техники. До некоторой степени это результат подражания Перлзу, который умел показать себя и обожал краткие яркие взаимодействия с пациентами, проводимые перед большой аудиторией. Но Перлз в моменты раздумий выражал тревогу по поводу склонности терапевтов чрезмерно сосредоточиваться на технике.
"Мы потратили много времени, чтобы развенчать всю фрейдовскую чепуху, а теперь входим в новую и более опасную фазу. Мы входим в фазу зависимых зависим от быстрого излечения, быстрой радости, быстрого сенсорного осознания. Мы входим в фазу знахарей и фокусников, которые думают, что если вы добились какого‑то порыва, то вы излечены…Должен сказать, что я очень обеспокоен тем, что происходит в настоящий момент.
…Техника – это хитроумное приспособление. Хитроумное приспособление следует использовать только в крайнем случае. Вокруг у нас достаточно людей, коллекционирующих хитроумные приспособления и злоупотребляющих ими. Эти техники, эти инструменты весьма полезны на каком‑нибудь семинаре по сенсорному осознанию или радости…Но печалит то, что подобное возбужденное времяпрепровождение чаще становится опасным суррогатом деятельности, еще одной поддельной терапией, которая мешает росту"
Другие терапевтические подходы. Перлз не единственный, кто пытался разрешить проблему блокированного аффекта. Психодрама, группы встреч, гипнотерапия и биоэнергетика разработали техники, нацеленные на пробуждение аффекта и усиление сознавания желаний индивидом. В действительности количество разных подходов так бурно растет, что уже невозможно проследить их генеалогию. Тем не менее, все техники основываются на предпосылке, что на некоем глубинном уровне человек знает свои желания и чувства, и терапевт, сфокусировав его внимание нужным образом, может усилить его сознательное переживание этих внутренних состояний.
Сигналы, связанные с позой, жестами, и другие невербальные ключи могут предоставить важную информацию об основополагающих, но диссоциированных чувствах и желаниях пациента. Терапевт должен уделять пристальное внимание таким сигналам, как сжатые кулаки, удары кулаком по ладони или принятие закрытой (скрещенные руки и ноги) позы. Каждый из них является манифестацией лежащего в основе чувства или желания. (В таких случаях Перлз пытался способствовать выходу вытесненного чувства вовне, привлекая внимание пациента к его поведению, а затем требуя, чтобы тот усилил его – например, бил кулаком по ладони сильнее и быстрее.) Действительно, некоторые пациенты настолько изолированы от собственного аффекта, что их контакт со своим внутренним миром поддерживается лишь физическими и физиологическими сигналами, например, «Я, должно быть, печален, если у меня слезы на глазах», или «Я, должно быть, смущен, если краснею».
Вопрос «Чего вы хотите?» часто застает пациентов врасплох, поскольку они редко задают его себе сами. Ирвин и Мириам Польстер так иллюстрируют это:
«Преподаватель колледжа чувствовал, что совершенно истощен и скоро „расползется по швам“ от ежедневной перегруженности писаниной, чтением и уроками. После того как он перечислил все, что требует от него работа, я спросил. „Что вы хотите?“ Последовала пауза… А затем руки распахнулись в широком и очень свободном жесте… Наконец он сказал: „Я хочу слякоти* в моей жизни“ Эти признания достаточно просты, но многие люди не готовы их принять. Однако пока эти желания не будут по крайней мере признаны, они не приведут к целенаправленному поведению».
* Так в колледжах часто называют непрофилирующие предметы.
Если пациент – выражение шизоидный и глубоко изолированный от своих желаний человек, то сфокусированные расспросы относительно непосредственного взаимодействия «здесь‑и‑сейчас» могут быть продуктивными. Например, на групповой сессии сильно встревоженный молодой человек в ответ на мой вопрос пожаловался, что у него нет чувств и желаний, и указал, что может чувствовать, только когда знает, что именно ему следует чувствовать. Другие члены группы стали расспрашивать его о чувствах по поводу разных вещей (таких, как одиночество, сильные транквилизаторы, некоторые проблемы в палате), и все эти вопросы вызывали у пациента все большее смущение и обескураженность. В конце концов мы сосредоточили расспросы непосредственно на процессе: «Каковы ваши ощущения, когда вас спрашивают о ваших чувствах?» На этом уровне он оказался способным пережить множество искренних чувств и желаний. Хотя всеобщее внимание испугало его, в то же время ему было приятно, он испытывал благодарность и хотел, чтобы группа продолжала свои расспросы. Однако он чувствовал также, что ведет себя по‑свински, говоря так много, и боялся, что другие обижаются на него за то, что он отнимает их время. Постепенно, опираясь на непосредственный аффект, пациент достиг уверенности в том, что способен иметь чувства и распознавать их.
Другая пациентка многие годы не доверяла своим чувствам и недооценивала их значимость. Она считала чувства фальшивыми и выдуманными, потому что могла вызвать в себе противоположное чувство равной силы. Бесконечные часы терапии были потрачены впустую в отчаянных попытках разрушить эти защиты. Прогресс наблюдался только тогда, когда она получала помощь в распознавании в себе некоего чувства (и желания) бесспорной направленности, присутствующего непосредственно здесь и сейчас. Она была в терапевтической группе психиатрической больницы, встречи которой проходили под наблюдением персонала больницы; пациентка имела возможность по окончании групповой встречи присутствовать при ее открытом пересказе этими наблюдателями. Когда ее попросили описать свою реакцию на пересказ, она сказала, что ее раздражал тот факт, что ее редко упоминали. Когда мы исследовали раздражение пациентки (было ясно, что это глубокое чувство), оно обернулось болью – болью от пренебрежения ею, а потом страхом – страхом того, что терапевт мысленно «подошьет» ее, как она выразилась, в папку "С" (хроник). Затем ее побудили высказать, что она желает, чтобы терапевт сказал или сделал. Таким образом пациентку постепенно подвели к переживанию таких неподдельных желаний, как ее потребность в том, чтобы он укачивал и укрывал ее.
Фрейд много лет назад указывал, что фантазии – это желания; исследование фантазий, спонтанных или направляемых, часто является продуктивной техникой обнаружения и ассимиляции желаний. Например, один пациент не мог решить, продолжать ли встречаться со своей девушкой или разорвать отношения. Его ответом на такие вопросы, как «Что вы хотите делать?» или «Она вам небезразлична?», неизменно было озадаченное и фрустрированное «Я не знаю». Терапевт попросил его вообразить ее телефонный звонок, во время которого она предложила прекратить их отношения. Пациент ясно представил это, вздохнул с облегчением и осознал, что после телефонного звонка чувствует себя освобожденным. От этой фантазии был только короткий шаг до понимания его истинного желания, связанного с их отношениями, и начала работы над факторами, препятствовавшими признанию и осуществлению пациентом своего желания.
Импульсивность
Расстройство желаний не обязательно ведет к блокированности и психологическому параличу. Некоторые индивиды избегают того, чтобы желать, другим способом: они не дифференцируют свои желания, а быстро и импульсивно действуют под влиянием любого из них. Человек, действующий немедленно по любому импульсу или прихоти, избегает переживания желаний так же искусно, как тот, кто душит и подавляет желания. Он избегает необходимости выбирать между различными желаниями, которые, если их переживать одновременно, могут противоречить друг другу. Пер Гюнт, как указывает Ролло Мэй, является прекрасным примером человека, который не может выделить какие‑либо свои желания, пытается исполнить их все и таким образом теряет свое истинное "я" – "я", которое на самом деле хочет одного сильнее, чем другого*". Желание всегда включает в себя направление и время. Желать значит совершать бросок в будущее, и индивид должен учитывать значение и последствия своих действий в соответствии с желанием. Необходимость учитывать последствия лучше всего просматривается в связи с желанием, затрагивающим другого человека. Импульсивное выполнение Пер Гюнтом всех своих межличностных желаний приводит скорее к насилию над другими, чем к подлинной встрече. Необходимо внутренне разграничивать желания и определять приоритет каждого из них. Если два желания исключают друг друга, от одного из них следует отказаться. Если, например, мы желаем осмысленных любовных отношений, то ради исполнения этого желания должны отказаться от преследования множества противоречащих ему межличностных желаний завоевания, власти, обольщения или подчинения. Если основное желание писателя состоит в коммуникации, он должен отказаться от других примешивающихся желаний (таких, как желание казаться умным). Импульсивное и неразборчивое активное потворство всем своим желаниям является симптомом нарушенной воли, позволяющим предположить неспособность или несклонность человека проецировать себя в будущее.
Еще один способ описания базового расстройства в сфере желании, лежащего в основе поведенческой импульсивности, связан с понятиями двух форм амбивалентности. При «последовательной амбивалентности» индивид испытывает сначала одно, а затем другое желание. Когда одно из них доминантно, он действует в соответствии с ним и в это время не имеет полного доступа ко второму. При «одновременной амбивалентности» мы имеем дело сразу с обоими желаниями, прямо и во всей полноте. Джеймс Бьюдженталь описывает пациентку, испытывавшую мучительные метания в состоянии последовательной амбивалентности:
"Сорокадвухлетняя Мэйбл 17 лет была замужем за человеком, которого очень любила и дорожила отношениями с ним. Затем, в результате ряда обстоятельств, которые здесь не важны, она сильно влюбилась в другого человека, вдовца, и тот отвечал на ее чувство. Она не утратила любви к мужу – Грегу, и одновременно не хотела просто «времяпрепровождения» с другим мужчиной Хэлом.
Таким образом, Мэйбл, оставаясь дома с Грегом, глубоко сознавала, как полна ее жизнь с ним и удивлялась, что могла поддаться соблазну расстроить ее и решиться вытерпеть всю боль, вину и разрушение ее собственного и его будущего. Но при встрече с Хэлом или просто вдали от мужа ее охватывало страдание, она знала, как невероятно значимы для нее чувство к Хэлу и томление по другой жизни, которая у нее была бы, если бы она ушла к нему".
Задача терапевта – помочь импульсивному пациенту трансформировать последовательную амбивалентность в одновременную. Переживание противоречивых желаний последовательно – это метод защитить себя от тревоги. Когда человек испытывает противоречивые желания одновременно во всей их полноте, он должен столкнуться с ответственностью выбора одного и отбрасывания второго Одновременная амбивалентность приводит к состоянию чрезвычайного дискомфорта и. как отмечает Бьюдженталь, крайне важно, чтобы терапевт избегал ослабления боли или автономии пациента. Терапевт испытывает сильное искушение дать совет, прийти на помощь, (как выражает это Хайдеггер) «забежать вперед другого», однако если пациент сможет глубоко и с полной интенсивностью пережить все свои включенные в ситуацию желания, он в конце концов выработает творческое, новое решение – решение, которого другой не мог предвидеть.
В вышеописанном случае Мэйбл использовала свой конфликт, чтобы прийти к подлинно творческому инсайту. «Она поняла, как постоянно скрыто использовала своего мужа, чтобы определять собственное существование, и как близко она подошла к тому, чтобы сделать то же самое с Хэлом». Она начала осознавать свою собственную личность как отдельную и от Хэла, и от Грега. Это не означало, что она перестанет любить своего мужа, с которым решила остаться, но это означало любить его по‑другому: любить его, а не себя и его как единое целое; быть способной на встречу с жизнью один на один без потери "я" и без опустошающего ощущения одиночества.
Компульсивность
Компульсивность, защита от сознавания ответственности, также представляет собой расстройство сферы желаний, но, по‑видимому, более структурированное и предсказуемое, чем импульсивность. Компульсивный индивид действует в соответствии с внутренними требованиями, которые не переживаются как желания. Им движет нечто чуждое по отношению к его Эго. Он понуждаем к действию этой силой, часто против собственного желания, а если не следует этому понуждению, то ощущает острый дискомфорт. Он хочет не действовать этим определенным образом, но для него оказывается чрезвычайно трудным не следовать предписаниям компульсии. Камю точно уловил это, когда устами главного героя «Падения» сказал: «Не брать то, чего не желаешь, самая трудная вещь на свете»84. Компульсивный индивид обычно не осознает свою неспособность желать, он отнюдь не чувствует себя пустым или неуправляемым. Напротив, такой человек активен, часто полон сил, и неизменно целеустремлен. Но его часто захлестывают волны сомнения, когда он понимает, что хотя и имеет цель, это не его собственная цель, и хотя имеет желания и задачи, это не его собственные желания и задачи. Но он так занят, так одержим деятельностью, что чувствует себя не имеющим ни времени, ни права задуматься о том, что он, собственно, хочет делать. Только когда защита ломается (например, «навязанные извне» задачи становятся нерелевантными в силу внешней перемены, такой как потеря работы или распад семьи, или же они достигнуты – деньги, престиж, класть), индивид начинает отдавать себе отчет в задавленности своего реального "я".
РЕШЕНИЕ – ВЫБОР
Если индивид в полной мере испытывает желание, ему предстоит принять решение, или сделать выбор. Решение – это мост между желанием и действием*. Принять решение означает взять внутренние обязательства по отношению к ходу действия. Если не следует никакого действия, я считаю, что нет никакого настоящего решения, а есть флирт с решением, своего рода неудавшееся решение. Пьеса «В ожидании Годо» Сэмюэля Беккета – памятник недоношенному решению. Персонажи думают, планируют, медлят и намереваются, но не решают. Пьеса заканчивается такой секвенцией:
Владимир: Мы пойдем?
Эстрагон: Давайте пойдем.
[Сценическая ремарка:] Никто не двигается.
* Я использую слово «действие» не в энергетическом, а в терапевтическом смысле. Легчайшее движение или отказ от какого‑либо предыдущего привычного действия может представлять собой важное терапевтическое действие.
Решение и терапевтический контракт
Терапия как конкретное решение. Концепция решения по‑разному соотносится с психотерапией. Некоторые пациенты обращаются к терапии именно потому, что охвачены мукой принятия конкретного решения, зачастую связанного с отношениями или карьерой. Тогда терапия сосредоточивается на этом решении. В случае краткосрочной, сфокусированной и ориентированной на задачу терапии она сведется к тому, что терапевт даст пациенту возможность принять решение. Вместе с пациентом он рассмотрит доводы за и против решения и попытается помочь ему выявить сознательные и подсознательные смыслы каждой альтернативы. С другой стороны, если терапия более интенсивна, а ее цели более широки, терапевт использует конкретное решение, которое нужно принять, как главный ствол, от которого, по мере продвижения терапии, будут отходить ветви разнообразных тем. Терапевт поможет пациенту понять бессознательное значение связанной с решением тревоги, рассмотреть прошлые кризисы принятия решения и, хотя терапия в этом случае не направлена специально на принятие конкретного решения, будет стремиться разрешить конфликт, чтобы пациент мог адаптивным образом принять это решение и другие, связанные с ним.
Терапия и бессознательное решение. Многие терапевты узко фокусируются на принятии решения даже в тех случаях, когда пациент приходит на терапию не в связи с каким‑либо кризисом решения. Стремясь усилить чувство личной ответственности пациента, эти терапевты подчеркивают, что любому акту (в том числе личному изменению) предшествует решение. Терапевты, которые сосредоточиваются на решении таким образом, склонны полагать, что в поведении, обычно не связываемом с решением, тем не менее также присутствует аспект решения. Терапевт сосредоточивает внимание на решении пациента потерпеть неудачу, медлить, отдаляться от других людей, избегать близости или даже быть пассивным, подавленным, тревожным. Ясно, что такие решения никогда не принимаются сознательно; но терапевт полагает, что поскольку люди ответственны за свое поведение, каждый, должно быть, «выбрал» быть таким, какой есть. Что это за выбор? Это акт выбора, о котором Фарбер говорит как о «первом роде» воли. Немногие важные решения принимаются с полным ощущением обдуманного, сознательного усилия. Уильям Джеймс, глубоко размышлявший о том, как принимаются решения, описал пять типов решений, из которых только два, первый и второй, включают в себя «волевое» усилие:
Разумное решение. Мы рассматриваем аргументы за и против данного образа действия и выбираем одну альтернативу. Шансы и доводы рационально взвешиваются; мы принимаем это решение с полным ощущением того, что мы свободны.
Волевое решение. Волевое, требующее напряжения решение, включающее в себя ощущение «внутреннего усилия». «Медленное, глубокое движение воли». Это редкий вариант решения; огромное большинство человеческих решений принимается без усилий.
Дрейфующее решение. В этом случае, по‑видимому, нет решающего довода в пользу какого‑либо образа действия. Любой кажется хорошим, и мы испытываем усталость или разочарование по поводу этого решения. Мы принимаем решение, позволяя себе дрейфовать в направлении, как будто бы случайно определенном извне.
Импульсивное решение. Мы чувствуем себя неспособными решить, и выбор кажется таким же случайным, как и в третьем варианте. Но ответ приходит изнутри, а не извне. Мы воспринимаем себя действующими автоматически и часто импульсивно.
Решение, основанное на изменении точки зрения. Это решение часто возникает внезапно и является следствием какого‑либо важного внешнего опыта или внутреннего состояния (например, вследствие печали или страха), приводящего к существенному изменению точки зрения – к изменению в том, «к чему сердце лежит». (Таковы были решения, принятые многими больными раком, описанные в главе 5).
Джеймс, таким образом, полагает, что за понятием «решения» стоит широкий диапазон видов активности, связанных с разным субъективным опытом – различной степенью усилия, рациональности, осознания, импульсивности и чувства ответственности.
Терапия, решение и структура характера. Некоторые терапевты – например, принадлежащие к школе трансакционного анализа (ТА), употребляют термин «решение» в еще более радикально бессознательном смысле. Они полагают, что индивиды принимают ранние «архаические» решения, играющие критическую роль в том, как складывается их жизнь. Типичное описание психопатологического развития трансакционным аналитиком звучит так: «Индивид получает от своих родителей Предписание, которое насаждается поглаживаниями (т.е. подкреплениями), принимает Решение в связи с этим Предписанием, а затем формирует сценарий, позволяющий поддерживать Предписание». Таким образом, согласно Эрику Берну, индивид «решает» принять определенный «Жизненный сценарий» – неосознаваемую кальку хода жизни человека, заключающий в себе личностные параметры и повторяющиеся межличностные взаимодействия. «Жизненный сценарий» Берна не слишком отличается от «направляющей функции» Адлера или идеализированной системы образов Хорни. Он также является приблизительным эквивалентом фрейдовской концепции структуры характера, хотя в большей мере межличностно обусловлен.
Согласно подходу ТА, ребенок принимает решение, определяющее структуру его характера и, следовательно, он ответственен за нее. Однако в связи с этим возникают проблемы, когда слово «решение» понимается только в сознательном, волевом смысле. Определение «решения», предложенное ТА, отражает путаницу, связанную с термином: "Решение – это точка во времени, когда юное существо, используя все адаптивные ресурсы своего Эго, модифицирует свои ожидания, пытаясь соотнести их с реалиями домашней ситуации. Отметим, что определение начинается словами: «Решение – это точка во времени…», словно речь идет о том, что существует конкретный момент решения, что между исходным и измененным состояниями должно стоять сознательное решение.
Терапевт, всерьез относящийся к идее принятия ребенком каких‑то определенных важных архаических решений, подвергается опасности усвоить конкретный упрощенный подход к терапевтическому изменению. Собственно, именно так и произошло; например, согласно текстам ТА, задача терапевта – помочь пациенту вернуться назад, к «изначальному решению», к «переживанию первого акта» (что не слишком далеко от изначальной травмы в ранней фрейдовской теории), воссоздать его и принять «новое решение». В соответствии с этой формулировкой пациенту предлагается принять новое рациональное решение, чтобы нейтрализовать давнее решение абсолютно другого типа. Именно об этом предупреждал Фарбер, говоря о том, что важно не пытаться заставлять волю второго (сознательного) рода делать работу воли первого (бессознательного) рода.
В этом радикальном взгляде на принятие решений теряется тонкое устройство процесса развития. Структура характера индивида не является результатом одного важного решения, которое можно отследить и отменить, она составляется из сделанных на протяжении жизни бесчисленных выборов и отвергнутых альтернатив. Хотя у ребенка, конечно, нет взрослого осознания характерологических опций, он тем не менее всегда в той или иной степени способен принять или отвергнуть то, что ему дается, покориться или бунтовать, сформировать позитивную или, как учил Эрик Эриксон, негативное отождествление с определенными ролевыми моделями. Как я обсуждал в предыдущей главе, для процесса терапии необходимо, чтобы пациент принял ответственность за то, что он есть – так же, как за то, чем он станет. Только тогда индивид может ощутить энергию (и надежду), необходимую для процесса изменения. Но психотерапевтическое изменение не произойдет путем единственного важного волевого решения – оно явится постепенным процессом принятия множества решений, каждое из которых прокладывает путь для следующего.
Почему решения трудны?
«Мы пойдем? Давайте пойдем. Никто не двигается» Что происходит в промежутке между намерением и обязывающей решимостью действовать. Почему многим пациентам так необыкновенно трудно принимать решения? Действительно, когда я думаю о своих нынешних пациентах, то обнаруживаю, что почти каждый бьется над каким‑то решением. Некоторые пациенты озабочены конкретным жизненным решением: что делать с важными отношениями, оставаться в браке или расстаться, возвращаться ли к учебе, попытаться ли завести ребенка.
Другие пациенты говорят, что они знают, что им нужно делать – скажем, бросить пить или курить, сбавить вес, попробовать встречаться с людьми или попытаться установить близкие отношения; но они не могут решиться на то, чтобы сделать это, – иначе говоря, связать себя с этим. Третьи заявляют: они знают, что у них не так, – например, они трудоголики, слишком высокомерны или слишком незаботливы, – но не знают, как решить измениться и поэтому, по сути, ни за что не отвечают в терапии.
Со всеми этими непринятыми решениями связано что‑то чрезвычайно болезненное. Когда я думаю о моих пациентах и пытаюсь анализировать смысл (и угрозу), заключенные для них в решении, меня поражает прежде всего разнообразие ответов. Решения бывают трудны по многим причинам, некоторые из них ясны, некоторые не осознаются, а некоторые, как мы увидим, достигают глубочайших корней бытия.
Исключающий эффект альтернатив. Герой романа Джона Гарднера «Грендел» совершил паломничество к старому священнику, чтобы узнать о тайнах жизни. Мудрец сказал: «Основное зло в том, что Время – это постоянное исключение, и жить в реальности означает исключать». Он подытожил свои размышления о жизни двумя простыми, но страшными суждениями, четырьмя опустошающими словами: «Вещи уходят, исключаемые альтернативами». Я воспринимаю послание, содержащееся в словах священника, как глубокую интуитивную истину. «Вещи уходят» – этой теме посвящен первый раздел данной книги, а исключающий эффект альтернатив – одна из фундаментальных причин, по которой решения трудны.
Для любого «да» должно быть «нет». Выбрать что‑то одно всегда означает отбросить что‑то другое. Как сказал один терапевт нерешительному пациенту: «Решения очень дороги, они стоят вам всего остального». Всякое решение неизбежно сопровождается отречением. Приходится отрекаться от возможностей, часто от таких, которые никогда больше не возникнут. Решения болезненны, потому что они означают ограничение возможностей, и чем больше это ограничение, тем ближе человек подходит к смерти. Хайдеггер так и определил смерть: «невозможность дальнейшей возможности». Реальность поставленной границы это подрыв одного из наших главных способов совладания с экзистенциальной тревогой – иллюзии исключительности, уверяющей нас в том, что хотя другие могут быть подвержены ограничениям, мы – свободные, особенные и неподвластные естественному закону.
Конечно, мы можем избегать осознания отказа, избегая осознания своих решений. Велис прекрасно выражает эту ситуацию с помощью метафоры, где решение – это встретившийся на пути перекресток, а отказ – невыбранная дорога:
«Некоторые люди могут двигаться вперед, не беспокоясь из‑за того, что движутся вслепую, полагая, что они идут по большаку, а все пересечения – с проселочными дорогами. Но двигаться вперед с осознанием и воображением значить переживать память перекрестков, которых человек никогда больше не увидит. Некоторые люди сидят на перекрестках, не выбирая ни одной дороги, потому что не могут выбрать обе, лелея иллюзию, что если они просидят достаточно долго, оба пути сольются в один и, следовательно, оба будут возможны. Зрелость и мужество это в значительной степени способность именно к таким отречениям, а мудрость – в немалой доле способность находить пути, которые позволят обходиться как можно меньшим числом отречений».
Сидящий «на перекрестках, не выбирая ни одной дороги, потому что не может выбрать обе» – замечательно точный образ человека, неспособного отказаться от возможности. Древние философские метафоры отображают ту же дилемму: аристотелевский сюжет о голодной собаке, которая не может сделать выбор между двумя одинаково привлекательными порциями пищи, или знаменитая проблема Буриданова осла, бедного животного, умирающего от голода между двумя одинаково приятно пахнущими охапками сена. В каждом случае живое существо погибнет, если откажется отвергать возможности; спасение заключается в том, чтобы довериться желанию и взять то, что находится в пределах досягаемости.
Подобные метафоры отражают клиническую ситуацию тех пациентов, которые страдают от паралича воли не только потому, что не могут сказать «да», но и потому, что не могут сказать «нет». На бессознательном уровне они отказываются принимать экзистенциальные последствия отречения.
Решение как пограничный опыт. Полностью осознавать свою экзистенциальную ситуацию означает осознавать свое самосотворение. Осознавать факт самоконституирования, отсутствия абсолютных внешних точек отсчета, произвольного присвоения смысла миру нами самими – значит осознавать отсутствие почвы под собой.
Принятие решения погружает нас в это осознание, если мы не сопротивляемся. Решение, особенно необратимое, – это пограничная ситуация, так же как осознание «моей смерти». И то, и другое действует как катализатор процесса сдвига позиции от повседневной к «онтологической», то есть к такому модусу бытия, в котором мы помним о бытии. Хотя, как учит Хайдеггер, такой катализатор и такой сдвиг в конечном счете благотворны и являются предпосылками подлинного существования, они также могут вызывать тревогу. Если мы не подготовлены, то находим способы вытеснения решения, точно так же, как вытеснения смерти.
Важное решение не только открывает нас тревоге отсутствия почвы, но и представляет угрозу для наших защит от тревоги смерти. Конфронтируя человека с ограничением возможностей, решение бросает вызов его мифу о личной исключительности. И в той степени, в какой решение вынуждает нас принять личную ответственность и экзистенциальную изоляцию, оно представляет угрозу для нашей веры в существование конечного спасителя.
Принятие фундаментального решения также сталкивает каждого из нас с экзистенциальной изоляцией. Решение – акт, совершенный в одиночестве, и это наш собственный акт; никто не может решать за нас. Поэтому для многих людей принятие решения очень мучительно, и они, как будет обсуждаться ниже, пытаются избежать его, заставляя или убеждая других принять решение вместо них.
Решение и вина. Некоторые индивиды находят решения трудными из‑за вины, которая, как подчеркивал Ранк, способна полностью парализовать процесс проявления воли. Воля рождается в сорочке вины; она возникает, говорил Ранк, вначале как противоволя. Импульсам ребенка противостоит взрослый мир, и воля ребенка первоначально пробуждается, чтобы выстоять в этом противостоянии. Если ребенку не повезло, он имеет родителей, которые пытаются подавить любое импульсивное проявление, его воля становится обременена тяжелой виной, так как все решения переживаются им как дурные и запретные. Такой индивид не может решать, потому что чувствует, что не имеет права решать.
Мазохистические характеры – люди, находящиеся в тюрьме симбиотических отношений с родителем, – имеют особые трудности с виной и решением. Эстер Менакер (Ester Menaker) высказала мысль, что у каждого из таких пациентов был родитель, который фактически говорил: «Ты не смеешь быть собой; ты неспособен быть собой; ты нуждаешься в моем присутствии, чтобы существовать». В ходе развития такие индивиды переживают любое свободное выражение выбора как запретное, поскольку оно олицетворяет нарушение родительского предписания. Во взрослом возрасте важные решения вызывают дисфорию, происходящую и от страха сепарации, и из‑за вины в преступлении против доминантного другого.
Экзистенциальная вина выходит за пределы традиционной вины, когда индивид сожалеет о реальном или воображаемом преступлении против другого. В главе 6 я определил экзистенциальную вину как вызванную преступлением человека против самого себя; она обусловлена сожалением, осознанием непрожитой жизни и неиспользованных внутренних возможностей. Экзистенциальная вина может быть также мощным фактором блокировки решений: ведь фундаментальное решение об изменении заставляет индивида размышлять о растрате – о том, как случилось, что он пожертвовал столь многим из своей уникальной жизни. Ответственность – обоюдоострый меч: принятие нами ответственности за свою жизненную ситуацию и решение измениться подразумевает, что мы одни в ответе за прошлое крушение своей жизни и могли бы измениться давным‑давно.
Случай Бонни, сорокавосьмилетней женщины, который я кратко обсуждал в главе 4, иллюстрирует некоторые из этих проблем. Много лет Бонни страдала болезнью Бергера, расстройством, приводящим к закупорке мелких кровеносных сосудов конечностей. Есть достоверные свидетельства, что при болезни Бергера никотин крайне вреден: курение ускоряет течение болезни и обычно приводит к скорой ампутации одной или двух конечностей. Бонни всегда курила и не могла – не хотела – прекращать. Различные гипнотические и бихевиористские методы не привели к успеху, и казалось, что она неспособна – не желает – принять решение бросить курить. Она чувствовала, что привычка к курению во многих отношениях разрушает ее жизнь. Она была замужем за довольно безжалостным, авторитарным мужчиной, который за десять лет до того оставил Бонни из‑за ее слабого физического здоровья. Он был любителем проводить время на открытом воздухе и решил, что ему будет намного лучше с партнершей, которая сможет разделять его занятия. То, что Бонни сама была причиной собственной физической инвалидизации из‑за своей «мерзкой привычки» (как она выражалась), а также слабость ее воли резко усугубило проблему. В конце концов муж предъявил Бонни ультиматум: «Выбирай: или курение, или брак». Когда она продолжила курить, он оставил ее.
Когда мы с Бонни рассматривали причины, по которым ей было трудно принять решение бросить курить, одной из важных тем оказалось ее понимание того, что, если она прекратит курить сейчас, это означало бы, что она могла бросить курить раньше. Это понимание имело далеко идущие последствия. Бонни всегда считала себя жертвой: жертвой болезни Бергера, своей привычки, жестокого, бесчувственного мужа. Но если бы оказалось, что на самом деле ее судьба всегда была под ее контролем, тогда ей пришлось бы взглянуть в лицо тому факту, что она должна нести всю ответственность за свою болезнь, за неудачу своего брака и за крушение (как она выразилась) своей взрослой жизни. Решение измениться повлекло бы за собой принятие экзистенциальной вины – вины в злодеянии, совершенном ею по отношению к себе. В терапии Бонни нуждалась в помощи доя того чтобы понять, что значит решать что‑то самой для себя, то есть не основывая свое решение на чьих‑то еще желаниях: своего мужа, своих родителей или своего терапевта. Она должна была взять на себя вину (и возникшую в результате депрессию) в том, что преградила путь к собственному росту. Осознав свою ответственность за собственное будущее, она должна была принять на себя и сокрушающую ответственность за свои действия в прошлом. Лучший способ – и, может быть, единственный – обходиться с виной (виной в насилии по отношению либо к другому, либо к себе) через искупление. Человек не может обратить свою волю назад. Человек может искупить прошлое, только изменяя будущее.
Методы избегания решения: клинические манифестации
Поскольку для многих индивидов решения необычайно трудны и болезненны, формирование способов избегания решений не представляет собой ничего неожиданного. Наиболее очевидный метод избегания решений промедление, и каждому терапевту знакомы пациенты, которые мучительно топчутся перед дверью решения. Но есть много и более тонких методов обходиться с неотъемлемой болью решения – методов, позволяющих человеку решать, при этом скрывая от самого себя, что он решает. В конце концов, болезнен именно процесс, а не содержание решения, и если человек может решать, не зная, что он это делает, то tant mieux*. В моем ответе на вопрос о том, почему решения трудны, речь шла об отречении, тревоге и вине, которые сопровождают решение. Чтобы смягчить осознание и болезненность решения, мы должны воздвигнуть защиты от этих угроз: мы можем избежать сознания отречения, искажая альтернативы, а сознания экзистенциальной тревоги и вины – устроив так, чтобы решение было принято вместо нас кем‑то или чем‑то.
* Тем лучше (франц.).
Избегание отречения
Торг. Если решение трудно, потому что человек должен отбросить одну возможность в то же самое время, когда выбирает другую, то оно станет легче, если организовать ситуацию так, чтобы отречься от меньшего. Например, моя пациентка Элис обратилась за терапевтической помощью, потому что не могла решиться развестись со своим мужем. Он принял решение оставить ее, уехал из квартиры год назад, но время от времени возвращался для половых снотношений. Элис постоянно горевала о нем, и ее фантазии были наполнены картинами того, как она вернет его. Она разрабатывала способы увидеться с ним и унижала себя, добиваясь, чтобы он дал еще один шанс восстановить их брак. Разум говорил ей, что этот брак никогда не приносил и не принесет ей удовлетворения и что ей намного лучше одной. Но она продолжала отдавать мужу всю власть в отношениях и отказывалась думать о том, что ей самой тоже надо принять решение по этому поводу. Свое решение она считала выбором между комфортными зависимыми отношениями с мужем и пугающей изоляцией.
С помощью нескольких поддерживающих сессий Элис наконец справилась со своей дилеммой, завязав отношения с другим мужчиной. Используя его как поддержку, она смогла позволить своему мужу уйти совсем. (И скоро сделала последний шаг, подав на него в суд за отказ выплачивать содержание ребенку.) Свое решение Элис смогла принять после того, как лишила его более глубоких последствий. Она избегла осознания отречения, изменив формулу решения: ей больше не надо было выбирать между мужем (который недоступен и по отношению к которому у нее были все основания чувствовать сильную неприязнь) и состоянием одиночества; вместо этого она смогла выбирать между мужем и любящим другом – принять такое решение было совсем нетрудно.
В одном отношении поддерживающая терапия была полезной она освободила Элис от терзающих мучений нерешительности. Однако с другой стороны, избегнув более глубоких последствий своего решения, Элис упустила возможность для роста. Например, будь она готова пережить эти последствия, она могла бы встретиться со страхом одиночества, своей неспособностью жить самостоятельно и обусловленной этим склонностью искать прикрытие в виде доминантного мужчины. Как оказалось, Элис мало чему научилась из своего опыта и через несколько месяцев оказалась в такой же ситуации. Отношения с другом испортились, она не могла прекратить их и в агонии кризиса решения вновь обратилась за терапевтической помощью.
Девальвация невыбранной альтернативы. Мы боимся свободы; здравый смысл, клинический опыт и психологические исследования указывают на то, что чувство свободы (и сопутствующий ему дискомфорт) усиливаются, когда альтернативы, относительно которых надо принять решение, понимаются как практически равные. Поэтому в комфортном варианте стратегия принятия решений должна быть такова, чтобы выбранная альтернатива рассматривалась как привлекательная, а невыбранная – как непривлекательная. Мы можем на бессознательном уровне усилить легкие различия между двумя достаточно одинаковыми возможностями так, чтобы выбор одной из них становился очевидным и безболезненным. Таким образом можно принимать решения без усилий, полностью избегая болезненного столкновения со свободой.
Например, шизоидный пациент с подавленным аффектом много лет «решал» не совершать усилия для изменения. По причинам, не имеющим отношения к этой дискуссии, изменение было для него пугающей перспективой; соответственно, он отказывался связать себя обязательством пройти терапию и создал для себя замкнутую, незаметную жизнь. С объективной точки зрения, ему необходимо было выбрать между глубокой внутриличностной и межличностной изоляцией, с одной стороны, и более непосредственной и экспрессивной аффективной жизнью, с другой. Чтобы сохранять свою решимость не меняться, пациент искажал доступные ему возможности, девальвировал невыбранную альтернативу и переоценивал выбранную. Он рассматривал подавление как «достойное» или «приличное», а спонтанность – как «животное отсутствие контроля», когда он мог бы не справиться с гневом и слезами. Другая моя пациентка решила оставаться в не удовлетворяющем ее браке, потому что альтернатива (в искаженном и обесцененном виде) выглядела как присоединение к стае одиноких – «огромной жалкой армии чудаков, брошенных и неудачников».
Социально‑психологические исследования подтверждают, что девальвация невыбранной альтернативы – распространенный психологический феномен. После того, как субъект принимает решение, в котором выбранная альтернатива не имеет явного преимущества перед невыбранной, он испытывает сожаление. Поскольку альтернатива была привлекательна, он переживает дискомфортное чувство «Что я наделал?», которое в литературе часто называют «когнитивным диссонансом»: выбор индивида представляется ему несовместимым – диссонирующим с его ценностями. Согласно теории когнитивного диссонанса, напряжение диссонанса чрезвычайно неприятно, и индивид предпринимает (хотя и на бессознательном уровне) некие психологические действия, чтобы ослабить это напряжение. Лабораторные исследования указывают множество способов, используемых людьми для уменьшения боли отречения. Распространенный способ, несомненно, имеющий клиническую релевантность, – информационное искажение: человек воспринимает информацию, повышающую ценность выбранной альтернативы либо понижающую ценность невыбранной, но не воспринимает информацию, которая усиливает привлекательность невыбранной альтернативы или снижает привлекательность выбранной.
Делегирование решения кому‑то. Как я уже говорил, решение болезненно еще и потому, что конфронтирует каждого из нас не только со свободой, но и с фундаментальной изоляцией, с тем фактом, что каждый из нас в одиночку отвечает за свою индивидуальную ситуацию в жизни. Если нам удается найти кого‑то, кого мы можем убедить принять решение за нас, то в результате мы имеем свое решение, избежав при этом боли изоляции. Эрих Фромм неоднократно подчеркивал, что человеческие существа неизменно относятся к свободе весьма амбивалентно. Они яростно борются за свободу, но в то же время жадно хватаются за возможность отдать ее тоталитарному режиму, который сулит снять с них бремя свободы и решения. Харизматический лидер – тот, кто твердо и уверенно принимает любое решение, – не имеет затруднений в вербовке подданных.
В терапии пациент изо всех сил стремится заставить или убедить терапевта принять решение за него, и одна из главных задач терапевта – сопротивляться манипулированию со стороны пациента, направленному на то, чтобы он взял на себя заботу о пациенте. Чтобы манипулировать терапевтом, пациент может преувеличивать беспомощность или удерживать себя от проявлений силы. Многие пациенты, находящиеся в кризисе решения, пристально изучают каждое слово, каждый жест или изменение позы терапевта, словно изречения оракула; после сессии они роются в своих воспоминаниях о словах терапевта, ища ключи к разгадке того, каким ему видится правильное решение. Независимо от своей умудренности, пациенты втайне тоскуют по терапевту, который бы дал им порядок и руководство. Гнев и фрустрация, которые в той или иной степени наблюдаются в каждой терапии, возникают от постепенного понимания пациента, что терапевт не освободит его от бремени решения.
Существует бесчисленное множество стратегий, с помощью которых человек находит другого, который принял бы решение за него. Двое моих знакомых недавно развелись таким образом, что каждый считал, что решение принял второй. Жена не просила развода, но сообщила своему мужу, что любит другого мужчину. Муж, что было предсказуемо, в соответствии с определенными своими нормами автоматически сделал вывод, что они должны развестись, как супруги и поступили. И муж, и жена избежали боли решения (и сожаления после решения), полагая, что решение принял другой. Жена только заявила о своей любви к другому мужчине, но не просила о разводе. Муж считал, что его жена, сделав такое заявление, de facto приняла решение.
Человек может избежать решения, медля до тех пор, пока оно не будет принято за него внешним агентом или обстоятельством. Хотя такой индивид может не понимать, что принимает решение, – например, не закончить учебный курс, на самом деле за его промедлением, в результате которого дело переходит на суд преподавателя, скрывается решение провалиться. Аналогично, может казаться, что работодатель принял решение уволить работника, тогда как на самом деле именно работник, неадекватно выполняя работу, неявно принял решение уйти с этого места. Или, например, кто‑то, будучи неспособен прекратить отношения, ведет себя холодно, равнодушно или отстранение и таким образом вынуждает другого принять решение.
В виньетке, приведенной в начале этого раздела, женщина выразила желание застать своего мужа в постели с другой женщиной и вследствие этого получить возможность оставить его. Она явно хотела уйти от мужа, но не могла трансформировать желание в действие, боль решения (или предчувствия сожаления после решения) была слишком велика. Поэтому она надеялась, что он, нарушив определенное правило отношений, тем самым примет за нее решение. Разумеется, от нее не требовалось только ждать и надеяться. Она нашла для себя много других способов ускорить решение, хотя по‑прежнему скрывала от самой себя, что именно она его принимает: например, она искусно дистанцировалась от мужа и воздерживалась от секса, скрыто намекая, что он мог бы найти его где‑нибудь на стороне.
Еще один пациент, Джордж, представил сходную проблему. Он не взял бы на себя ответственность за явное решение. Он испытывал противоречивые чувства по поводу отношений с женщиной: она доставляла ему сексуальное удовольствие, но не нравилась во многом другом. Он отказывался принимать решение по поводу отношений, либо сказать «нет» и прекратить их, либо сказать «да» и включиться в работу над ними. Следовательно, он был вынужден «найти» решение, не «принимая» его. Бессознательно он пытался заставить ее принять решение. Он проводил вне дома как можно больше времени, при этом она не могла ему позвонить; он «случайно» забывал сделать уборку в машине, так что приметы другой женщины (окурки сигарет, шпильки) оставались на виду. Однако если бы в это время кто‑нибудь сказал ему, что он принимает решение положить конец отношениям, Джордж стал бы энергично возражать.
Его женщина не приняла бы решения положить конец отношениям, напротив, она побуждала его съехаться с ней. Тогда Джордж стал искать кого‑нибудь, кто бы принял решение за него. Он собирал советы всех своих друзей и постоянно пытался добиться руководящих указаний от терапевта в связи с этим. Наконец терапевт достиг того, что Джордж достаточно долго сидел спокойно, исследуя свое поведение, и в результате сделал интересное замечание: «Если кто‑нибудь другой примет решение, я уже не буду обязан делать эту работу». (Существует много исследований по социальной психологии, показывающих, что индивид, участвующий в решении, – то есть в демократическом процессе – берет на себя ответственность за эту работу принятия решения, в отличие от позиции относительного безразличия или сопротивления, занимаемой людьми по отношению к решению, которое им навязали другие.).
Джордж знал, что положить конец отношениям в его интересах. Для его женщины тоже было бы лучше, если бы он прекратил их отношения, хотя в течение долгого времени он цеплялся за рационализацию, что не хочет причинять ей боль (как будто долгое и мучительное скрытое отвержение было безболезненным). Однако Джордж не мог заставить себя принять решение и пребывал в колебаниях, потому что не мог найти того, кто принял бы решение за него.
Многие пациенты «бездействуют» в терапии, чтобы убедить терапевта принять за них решение. Тед, который сам был психотерапевтом, месяцами боролся с сильной тоской по зависимости. Терапевт Теда на одной из сессий размышлял о том, как трудно быть своими собственными отцом и матерью. (Эта мысль в той или иной форме непременно должна появляться в экзистенциальном терапевтическом исследовании свободы.) На следующей сессии Тед был необычайно огорчен и заявил, что на этой неделе он «потерял контроль», и одна из его пациенток ангажировала его сексуально, и ему нужен кто‑то, кто «держал бы его на поводке». Возникало впечатление, что эта ситуация специально устроена как мощное убедительное средство, чтобы заставить терапевта принимать решения вместо Теда. В конце концов, как может ответственный терапевт оставаться пассивным и позволять пациенту вредить другому пациенту, по ходу дела разрушая собственную профессиональную карьеру?
Однако терапевт предпочел исследовать все аспекты «отреагирования», и скоро стало ясно, что Тед не полностью вышел из‑под контроля: он принял несколько решений, которые указывали на то, что он взял на себя некоторую долю ответственности. Он не вступил в отношения с психотической или пограничной пациенткой, но «выбрал» зрелую, хорошо интегрированную пациентку, близкую к окончанию трехлетней терапии. Более того, хотя Тед нарушил профессиональный этический кодекс, он на самом деле остановился задолго до половых сношений, к тому же немедленно предъявив ситуацию для исследования на своей личной терапии. В конечном счете, интересам Теда лучше всего служил отказ терапевта поддаваться манипулированию, принимая решения за Теда («держа его на поводке»), а также настойчивое демонстрирование Теду того факта, что, хотя он боится принимать собственные решения, он полностью способен это делать.
Делегирование решений чему‑то. Древний способ принятия решений – спросить судьбу. Не имеет значения, где именно ведутся поиски ответа – во внутренностях овцы, кофейной гуще, «И‑Шин», метеорологических изменениях или любом другом из широкого множества предзнаменований. Важно то, что, передавая решение внешнему агенту, индивид был избавлен от экзистенциальной боли, присущей решению.
Современную версию полного доверия к случаю можно найти в романе Люка Райнхарта «Игрок в кости», в котором главный герой принимает одно фундаментальное решение – предоставить все остальные решения случаю, бросая игральную кость. С этого времени он принимает любое важное жизненное решение, составляя список возможностей и позволяя решать игральной кости. Правда, ему все же нужно было решать, какие именно возможности вносить в список, но эти решения второстепенные и относительно не обязывающие, так как против каждого выбора выступает соответствующее числу возможностей количество шансов. Рациональное объяснение, которое игрок в кости дает своему поведению, состоит в том, что многие аспекты его личности постоянно подавляются «правлением большинства» других черт. Предоставляя решение игральной кости, он дает каждой части возможность существовать. Хотя игрок в кости представлен как экзистенциальный герой – индивид, принимающий полную свободу (то есть случайность) и любые обстоятельства, – его можно воспринимать и противоположным образом, как человека, отказавшегося от своих свободы и ответственности. Действительно, всякий раз, когда игрока в кости призывают к ответу за какой‑нибудь особенно возмутительный поступок, он говорит одно и то же: «Кости велели мне это сделать».
Еще один удобный фактор принятия решений – «правила», и людям свойственно искать комфорта во всеобъемлющем наборе правил, чтобы освободиться от боли решения. Ортодоксальные евреи, следующие 513 законам иудаизма, избавлены от множества решений, так как значительная доля их поведения регламентирована, начиная от ежедневных ритуалов, сопровождающих каждое событие дня, до надлежащего образа действий в случаях серьезных жизненных кризисов. Правила традиционных обществ часто душат инициативу и ограничивают честолюбие и выбор, но они предлагают блаженное освобождение от целого ряда решений: на ком мне жениться? следует ли мне развестись? какой карьере мне следовать? как мне проводить свое свободное время? с кем мне дружить? – и так далее.
Бьюдженталь, описывая терапию пациентки, наставницы студентов, прекрасно иллюстрирует, как «правила» позволяют человеку избежать решения:
"Наставница Стоддерт улыбалась девушке понимающе, но с оттенком грусти: «Конечно, теперь я понимаю, почему вы сделали то, что сделали, но, знаете, у меня действительно нет выбора в этом случае. Если бы сейчас я сделала для вас исключение, мне пришлось бы сделать исключение для кого‑то еще, у кого есть веские причины нарушить правила. Довольно скоро правила потеряли бы смысл, не так ли? Так что, хотя я действительно сожалею об этом, ситуация ясна, и она требует, чтобы в течение следующего месяца вы оставались в кампусе».
Студентка признательно смотрела на наставницу сквозь слезы. «Мне легче оттого, что вы понимаете, но все равно это как‑то несправедливо в моих обстоятельствах. Это будет означать, что я потеряю работу, и я не знаю, сможет папа содержать меня в школе или нет». Наставница сочувствовала, но дала понять, что у нее нет выбора.
Когда студентка ушла, наставница Стоддерт на минутку села в кресло, охваченная противоречивыми чувствами. С одной стороны, она чувствовала определенное удовлетворение тем, что наконец натренировала свои чувства и суждения до того, что могла сохранять твердость там, где этого требовали правила. В течение многих лет она была столь подвержена симпатии, что почти никогда не могла сочетать понимание с последовательным применением правил…
Маргарет Стоддерт печально размышляла о том, что выдержала настоящую борьбу, чтобы быть способной справиться с ситуацией, как она только что сделала. Однако в том‑то и дело, что она почему‑то не была довольна. Почему‑то она ощущала смутную тревогу, хотя убеждала себя, что сделала работу хорошо. Позже, в тот же день, на кушетке в моем кабинете, она рассуждала: «Я не знаю, что продолжает беспокоить меня в связи с этим разговором, но каждый раз, когда думаю о нем, я чувствую себя неспокойно. А я постоянно думаю о нем. Как будто есть что‑то, что я проглядела, но мне в голову не приходит, что бы это могло быть…»
Маргарет, как отмечает Бьюдженталь, вместо того чтобы руководить правилами, оказалась руководимой ими. Она пришла к заключению, что «правила имеют смысл сами по себе», что правила и последовательность – выше человеческого понимания и человеческих нужд. Маргарет чувствовала, что если пользоваться выбором, возникает опасность. Ее разумное объяснение этой опасности было таким: «Если бы сейчас я сделала для вас исключение, мне пришлось бы сделать исключение для кого‑то еще, у кого есть веские причины нарушить правила».
Но почему это должно быть так? Почему последовательность должна быть выше всего остального? Нет, были другие, более настоятельные причины, почему Маргарет следовала правилам, хотя эти причины не следуют непосредственно из протокола сессии: очевидно, что, избегая решения, Маргарет избегала роли «принимающей решения». Она питала и лелеяла успокаивающую иллюзию существования абсолютных внешних критериев, определяющих, что хорошо и что плохо. Маргарет избегала осознания экзистенциальной изоляции, содержащейся в ее «реальной» ситуации – то есть того, что она сама формирует свой мир и наделяет его структурой и смыслом.
Решение: терапевтическая стратегия и техники
Решение играет центральную роль в любом успешном курсе терапии. Хотя терапевт может явным образом не концентрироваться на решении и даже не признавать этот фактор, считая, что изменение происходит благодаря увещеваниям, или интерпретациям, или терапевтическим отношениям, – на самом деле именно решение незаметно приводит в действие механизм изменения. Никакое изменение невозможно без усилия, а решение – спусковой крючок усилия.
Здесь я рассмотрю некоторые терапевтические подходы к решению – как к сознательному, так и к бессознательному. Некоторые пациенты приходят на терапию в муках активного принятия решения; у других возникают периодические кризисы решений во время курса терапии; у кого‑то – длительные проблемы, связанные с неспособностью принимать решения. Даже если терапевт не формулирует динамики пациента в терминах проблем принятия решений, его целью все же остается, как я уже упоминал, в начале части II, необходимость «подвести пациента к точке, где он или она может сделать свободный выбор».
Терапевтические подходы к решению: сознательный уровень. Беатрис, пациентка в терапевтической группе, пришла ко мне на «аварийную» сессию из‑за острого кризиса решения. За три месяца до этого она предложила своему другу‑итальянцу жить с ней. В тот момент казалось, что это продлится недолго, так как он собирался вернуться на родину через месяц. Однако дата его отъезда откладывалась, а их отношения быстро испортились. Он много пил, оскорблял ее, занимал у нее большие суммы денег, пользовался ее машиной и квартирой. Беатрис была подавлена, испытывала тревогу и отчаяние из‑за своей неспособности что‑то сделать. Наконец, после нескольких недель борьбы с решением, в то утро она попросила его уехать, но он отказался, заявив, что у него нет денег и места, где остановиться. Кроме того, поскольку у Беатрис не было договора об аренде квартиры, теперь ее друг имел на квартиру столько же прав, сколько она. Она подумала о том, чтобы вызвать полицию, но из‑за отсутствия арендного договора сомневалась, будет ли от этого толк. К тому же она боялась сердить своего друга, потому что из‑за своего дурного характера он вполне способен был начать против нее долгую вендетту.
Что ей делать? Он должен был уехать в ближайшие четыре‑пять недель; Беатрис надеялась продержаться до этого времени, но ситуация настолько ухудшилась, что она уже сомневалась, что вытерпит. Если бы Беатрис попросила его уехать, он мог бы побить ее, сломать ее мебель или машину. Кроме того, для нее было жизненно важно прекратить отношения таким образом, чтобы в результате она осталась ему небезразлична. Что ей делать?
Не находя никакой эффективной линии поведения, Беатрис чувствовала себя парализованной. Во время «аварийной» консультации она выглядела настолько обезумевшей, что я одобрил идею ее госпитализации. Я пытался напрямую противостоять панике решения и параличу, то и дело спрашивая: «Каковы ваши альтернативы?» Беатрис казалось, что их нет, но я настаивал, и она перечислила ряд вариантов. Беатрис могла противостоять ему намного более открыто, честно и убедительно, чем раньше. Она могла дать ему ясно понять, как разрушителен для нее этот опыт и насколько твердо она настроена не проводить с ним в квартире больше ни дня. Она могла требовать, чтобы он уехал, а затем обратиться за юридическим советом и защитой полиции. Она могла позвать на помощь кого‑то из своих друзей, которые помогли бы ей противостоять ему. Она могла выехать из квартиры (у нее не было ни арендного договора, ни особой привязанности, удерживающей ее там). Если Беатрис боялась, что он сломает ее мебель, она могла позвонить в фирму по перевозке и отправить свою мебель на хранение. (Дорого? Да, но гораздо меньше тех сумм, которые она давала ему.) Она легко могла пожить у своей сестры и т.д., и т.д. К концу этого упражнения по перечислению вариантов Беатрис больше не чувствовала себя в ловушке, ее чувство парализованности уменьшилось, и она была способна разработать план действий.
То, что происходило с Беатрис после этой сессии, выводит нас на обсуждение тем, не вполне относящихся к данной дискуссии, но проясняющих клинические проблемы в достаточной степени, чтобы оправдать отступление. После сессии Беатрис почувствовала себя лучше. Она рассмотрела все свои возможности и предпочла противостоять своему мучителю. Она взяла себя в руки и робко сказала ему, что больше не может выносить ситуацию, и попросила его уехать. Она рассказывала мне, что говорила это ему и раньше, но тогда он не реагировал, а теперь сразу же молча согласился. Он собрал свои вещи, нашел другое место, где остановиться, и пообещал уехать на следующий день!
В тот вечер она согласилась в последний раз пообедать с ним, и в ходе разговора он прочувствованно заметил, как жаль, что два разумных человека, которые нравятся друг другу, не могут найти способа жить вместе как добрые друзья. И что же ответила Беатрис? «Я бы тоже хотела этого», – сказала она. Итак, они распаковали его чемоданы и он снова поселился у нее.
В терапевтической группе спустя четыре дня Беатрис начала встречу кратким рассказом об инциденте. Она описала короткий спор, кризисную сессию со мной, свое решение попросить друга уехать, возобновление дружбы и последовавшую за этим пару дней решительно улучшившихся отношений. Она не упомянула о своем чрезвычайном страдании, плохом обращении, пьянстве, финансовой эксплуатации, угрозах. Я был ошеломлен, и когда Беатрис закончила, рассказал группе, что в прошедшую неделю у меня тоже был опыт, которым я хочу поделиться с ними. «Ко мне обратилась молодая женщина, которая испытывала чрезвычайные страдания», – начал я и в таком ключе продолжал изображать свою версию нашей сессии. Наши рассказы были настолько разными, что прошло несколько минут, прежде чем группа поняла, что мы с Беатрис описываем один и тот же эпизод!
Почему Беатрис исказила информацию для группы? Бессознательно она, должно быть, понимала, что если бы сообщила группе – и если на то пошло, самой себе – точное описание своих отношений, члены группы пришли бы к выводу, что ей следует эти отношения прекратить. (И действительно, каждый из ее друзей откликнулся именно так. Среди наиболее беспристрастных ответов были такие: «Вышвырнуть сукиного сына!» «Ты с ума сошла?» «Избавься от этого ничтожества!» «Зачем ты терпишь это дерьмо?») В глубине души Беатрис ощущала, что приняла неразумное решение, которое явно противоречило ее интересам. Но она так решила и хотела избежать тревоги когнитивного диссонанса. Так как она ценила мнение членов группы, поэтому в интересах своего личного комфорта предпочла утаить факты, которые позволили бы им прийти к выводу, что она приняла неправильное решение.
На индивидуальной сессии я облегчил панику Беатрис тем, что помог ей рассмотреть доступные возможности. Эта техника обычно бывает эффективной в случае паники перед принятием решения, но терапевту важно помнить, что пациент – а не терапевт – должен генерировать эти возможности и сделать выбор между ними. Один из первых принципов, которым учит пациента терапевт, стремящийся помочь ему эффективно общаться, состоит в «присвоении» собственных чувств. Это так же важно, как владеть своими решениями. Решение, принятое другим, вообще не решение: вряд ли человек свяжет себя с ним, и даже если свяжет, не произойдет никакого изменения в процессе принятия решений – человек не распространит этот опыт на следующее решение. Терапевт должен сопротивляться мольбам пациента принять решение. Терапевты‑новички часто уступают и попадают в ловушку, принимая решения за пациентов. Впоследствии, когда пациенту не удается связать себя с этим решением, терапевт чувствует себя не только разочарованным, но и разгневанным или, как это ни странно, преданным. Если терапевт берет на себя функцию принятия решений за пациента, фокус терапии может сместиться из имеющей решающее значение сферы ответственности и решения и полностью перейти на тему повиновения или неповиновения авторитету.
Важно помнить, что процесс принятия решения не заканчивается ни с решением, ни с неудачей в его принятии. Индивид должен снова и снова принимать решения. Неудача в выполнении решения вовсе не хоронит это решение навсегда и не обязательно накладывает отпечаток на дальнейшие решения, из такой неудачи многому можно научиться. Бывают времена, когда пациент не готов или не способен принять решение: альтернативы слишком равны, тревога и предчувствие сожаления у пациента слишком сильны, а его осознание «смысла» решения (о чем я скажу на ближайших страницах) слишком ограничено. Терапевт может дать пациенту большое облегчение, поддержав его решение не решать в такой момент.
У многих пациентов способность принимать решения парализуется соображениями типа «что если». Что если я уйду с этой работы и не смогу найти другую? Что если я оставлю детей одних, а они причинят себе вред? Что если я проконсультируюсь с другим врачом, а мой педиатр об этом узнает? Логический, систематический анализ возможностей иногда полезен. Терапевт может, например, предложить пациенту рассмотреть по очереди сценарии каждого «что если», вообразить, что так и случилось – со всеми возможными вариантами, а затем пережить и проанализировать свои возникающие чувства.
Хотя в этих сознательных подходах есть полезное зерно, они страдают серьезными ограничениями, потому что дилемма решения в значительной части существует на скрытом уровне и не поддается рациональному анализу. Две тысячи лет назад Аристотель говорил, что целое больше, чем сумма частей, да и народная мудрость всегда поддерживала эту идею, примером чему может служить еврейская шутка об отвращении к пирогу с мясом. Мать мальчика пытается избавить ребенка от сильного отвращения к пирогу с мясом. Она усердно готовит пирог, когда он в кухне. Она терпеливо показывает и обсуждает каждый ингредиент. «Смотри, ты любишь муку, и яйца, и мясо», – и так далее. Он охотно соглашается. «Но тогда все в порядке, ведь это все, что есть в пироге с мясом». Но на слова «пирог с мясом» ребенок вновь отвечает мгновенной рвотой.
Терапевтические подходы к решению: бессознательные уровни. Как может терапевт получить доступ к бессознательным аспектам принятия решения, к тому, что Фарбер называет «первым родом воли?» Ответ: косвенно. Терапевты, как бы они этого ни хотели, не могу) сотворить волю или внутреннее обязательство пациента, не могут на жать на выключатель решения или вдохнуть в пациента решимость. HI.) они могут влиять на факторы, которые, в свою очередь, влияют на проявление воли. Ни у кого нет врожденного отсутствия воли. Как убедительно доказали Роберт Уайт и Карен Хорни, влечение к результативности, к управлению своей средой, к тому, чтобы стать тем, чем мы способны стать, составляет часть нашего конституционального багажа. Воля блокируется препятствиями на пути развития ребенка; позже эти препятствия становятся внутренними, а индивид – неспособным действовать даже тогда, когда его не блокируют никакие объективные факторы. Задача терапевта помочь устранить эти препятствия. Когда препятствия устранены, индивид естественно разовьется – по словам Хорни, точно так же, как желудь развивается в дуб. Поэтому задача терапевта – не творить волю, а освободить ее.
Я опишу несколько подходов к этой задаче. Терапевт должен прежде всего помочь пациенту осознать неизбежность и вездесущность решения. Далее он помогает пациенту в «структурировании», или формировании взгляда на определенное решение, а затем способствует ему в раскрытии глубинных значений (то есть «смысла») решения. Наконец, используя «подъемную силу» инсайта, терапевт пытается пробудить дремлющую волю.
Неизбежность и вездесущность решения. Человек не может не решать. Как бы каждому из нас ни хотелось иного, решения неизбежны. Если правда, что человек конституирует себя сам, то из этого следует, что решения – атомы бытия, творимого человеком. Принятие собственных решений – первый шаг в терапевтической работе по принятию ответственности. На более поздних стадиях терапевтическая работа состоит в усилении и углублении этого инсайта. Пациенту помогают не только взять на себя ответственность, но и выявлять одну за другой свои тактики избегания.
Если человек полностью принимает тот факт, что решения сопровождают его на каждом жизненном шаге, значит, он подлинно переживает свою экзистенциальную ситуацию. Медлить – это тоже решение, равно как быть неудачником, пьяницей, совращенным, эксплуатируемым и попасть в ловушку. Даже оставаться в живых тоже решение. Ницше говорил, что только после того, как человек всесторонне обдумает суицид, он серьезно относится к жизни. Многие раковые пациенты, с которыми я работал, были подвергнуты адреналектомии (часть лечебной программы метастатической карциномы груди) и должны были каждый день получать замещающую кортизоновую терапию. Многие ежедневно глотали эти таблетки так же механически, как чистят зубы, но другие глубоко осознавали, что каждый день принимают решение остаться в живых. Мне представляется, что сознавание этого решения обогащает жизнь и поддерживает человека в принятии внутреннего обязательства жить по возможности полной жизнью.
Некоторые терапевты усиливают сознавание пациентом вездесущности решений, напоминая ему о решениях, которые должны быть приняты по поводу терапии. Так, Кайзер, как мы уже знаем, рекомендует терапевтический формат «без условий», а Гринвальд (Greenwald) настойчиво предлагает пациентам принимать решения о формате терапии – то есть хочет ли он работать над сновидениями, сколько провести сессий и т.п.
Терапевты должны помогать пациентам полностью осознавать свои метарешения – то есть решения о решениях, – ведь некоторые индивиды пытаются отрицать важность решении, убеждая самих себя, что они решили не решать. Такое решение в реальности является решением не решать активно. Человек не может вообще уклониться от решения, но он может решить делать это пассивно, например, позволяя другому принять решение за себя. Я полагаю, что способ, с помощью которого человек принимает решение, имеет величайшее значение. Активный подход к решению согласуется с активным приятием собственной энергии и ресурсов.
Многие истории пациентов, описанные мною выше, иллюстрируют этот принцип. Например, Беатрис, чей друг не желал уезжать из ее квартиры, мало задумывалась о том, какое решение больше всего отвечает ее интересам. Когда я попросил ее представить, как она будет себя чувствовать через месяц после того, как он наконец уедет из страны, Беатрис от всей души ответила: «Счастливой». Пациентка, мечтавшая застать своего мужа в постели с другой женщиной, также мало задавалась вопросом о том, чего она хочет. Однако каждая из этих женщин уклонялась от принятия активного решения вычеркнуть мужчину из своей жизни и, устраивая так, чтобы это решение принял другой, принимала тем самым другое решение – решать пассивно Однако каждая заплатила свою цену за решение о том. как решать. У обеих пациенток была сильно заниженная самооценка, и их способ избегать решений только способствовал презрению к себе. Если мы хотим любить себя, мы должны вести себя так, чтобы иметь возможность восхищаться собой.
Мой пациент Билл в течение года мучился по поводу прекращения отношений с женщиной по имени Джин. Я настойчиво пытался донести до него, что его способ принимать решение крайне важен, но он настойчиво отрицал, что решает. Он говорил, что не может принять решение по поводу отношений, потому что перегружен работой. и здесь Джин ему очень помогает. Я напомнил Биллу, что он решил предложить ей приходить вечерами в его офис и помогать ему. Джин была ему прекрасной опорой во время кризиса, говорил он. Я высказал мысль, что он не только сделал некоторый выбор, доведя ситуацию до кризиса (например, без всяких основательных причин не сдав работу к крайнему сроку и в результате вступив в унизительную конфронтацию со своим начальником), но свободно выбрал, рассказав Джин об этом кризисе и настоятельно попросив ее о помощи.
Наконец Билл принял решение прекратить отношения, но это было решение, которое он скрывал от себя. Решение состояло в том, чтобы решать пассивно: убедить Джин самой прекратить отношения. Он избрал план тонкого, постепенного расторжения, он давал Джин так мало любви, что в конце концов она оставила его ради другого мужчины. Билл проходил через такой цикл в других ситуациях и раньше, и каждый раз его оставляли, и он чувствовал себя отвергнутым и ничего не стоящим. Основной проблемой Билла было то, что его захлестывало презрение к себе: важной функцией терапии было помочь ему понять, что избранный им постыдный способ принимать решения способствует этому презрению к себе.
Структурирование решения. Описывая различие между двумя родами воли (сознательной и бессознательной), Фарбер говорит, что объектом вашей сознательной воли может быть «укладывание в постель, но не сон». Терапевт порой может быть способен влиять на более глубокие уровни воли, изменяя структуру решения, предоставляя пациенту другую точку зрения на решение. Показателен личный эпизод.
Много лет назад меня одолевала жестокая бессонница. Она была связана с напряжением и значительно обострялась, когда я ездил с лекциями. Особые опасения вызывала у меня предстоящая поездка с лекциями в Кливленд, который я считал «городом плохого сна», потому что когда‑то провел там ужасающе напряженную бессонную ночь. Конечно, такое опасение порождает порочный круг: тревога по поводу того, что я не засну, порождает бессонницу.
Я всегда использовал эпизоды личного дистресса, для того чтобы познакомиться с разными подходами к терапии, и по этому случаю проконсультировался с терапевтом‑бихевиористом. На четырех из пяти наших сессий мы работали с подходом систематической десенситизации и магнитофонными записями мышечной релаксации, но ничего не помогло. Однако, когда я покидал его кабинет после сессии, терапевт сделал небрежное замечание, оказавшееся чрезвычайно полезным. Он сказал: «Когда будете собирать вещи для поездки в Кливленд, не забудьте положить пистолет». «Зачем?» спросил я. «Ну, – ответил он, – если не сумеете заснуть, всегда сможете застрелиться». Замечание «щелкнуло» глубоко внутри, и даже сейчас, много лет спустя, я считаю его вдохновенным терапевтическим маневром.
Как оно сработало? Это трудно объяснить точно, но оно переструктурировало ситуацию и поставило ее в осмысленную экзистенциальную перспективу. Точно такой же опыт я наблюдал у пациентов, переживших серьезную близость смерти. В главе 2 я описывал пациентку с неоперабельной стадией рака, которая рассказала, что ее конфронтация со смертью позволила ей «сделать тривиальности жизни тривиальными», или перестать делать то, что она не хочет делать. Такие пациенты в результате встречи со смертью сумели «распрограммировать» повседневную жизнь и испытать ощущение незначимости будничных решений по отношению к масштабу их единственного и неповторимого жизненного цикла.
Если все, кроме маленького фрагмента большого гобелена скрыто от глаз, то детали этого маленького фрагмента выступают на передний план и обретают новую яркость, которая бледнеет, когда снова становится открыт весь гобелен. Аналогичным образом происходит «деструктурирование» и раскрытие под действием техники «смещения перспективы». Но как терапевт деструктурирует и разворачивает гобелен существования? Некоторые терапевты открыто апеллируют к разуму Например, я наблюдал, как Виктор Франкл, экзистенциальный терапевт, пытался лечить пациента, задыхавшегося под спудом мучительных решений. Франкл попросил его поразмышлять о центре своего бытия, а затем предложил просто обвести этот центр линией и осознать тот факт, что беспокоящие решения касаются вопросов, относящихся к периферическим и, в конечном счете, малозначимым сферам жизни.
Подобные апелляции к разуму обычно не являются эффективные средством значительного смещения перспективы. Часто требуется непосредственное переживание пограничной ситуации, заставляющее индивида осознать свои экзистенциальные обстоятельства. Неудивительно, что многие техники, описанные мной в главе 5 и направленные на помощь человеку в конфронтации с фактом собственной смертности, часто оказывают влияние на процесс принятия решений.
Смысл решения. Каждое решение имеет «надводный» сознательным компонент и обширный «подводный» бессознательный компонент Решение обладает собственной динамикой и представляет собой вы бор между рядом факторов, часть которых находится за пределами осознания. Чтобы помочь пациенту, охваченному болью особенна мучительного решения, терапевт должен исследовать многие его скрытые, бессознательные смыслы. Показательно решение, над которым билась Эмма, шестидесятишестилетняя вдова.
Эмма попросила о встрече, так как мучилась вопросом, продавать ли свой летний дом роскошное поместье, находящееся примерно в ста пятидесяти милях от ее постоянного жилья. Дом требовал частых посещений, постоянного внимания к саду, техническому обслуживанию, полицейской защите и прислуге, а также значительных расходов на содержание. Для хрупкой пожилой женщины со слабым здоровьем это казалось ненужным бременем. Конечно, нужно было учитывать финансовые факторы. Был ли рынок на пике или поместье продолжало расти в цене? Могла ли она с большей выгодой вложить деньги куда‑то еще? Эмма постоянно размышляла об этом. Но хотя все эти вопросы были важны и сложны, они, казалось, не могли объяснить столь серьезное страдание. Поэтому я обратился к исследованию глубинного смысла ее решения.
Муж Эммы умер год назад, и она до сих пор горевала о нем. Много раз они проводили вместе лето в этом доме, и каждая комната до сих пор была наполнена его присутствием. Эмма очень мало изменила дом. каждый уголок хранил отпечаток ее мужа, ящики и шкафы были наполнены его вещами. Она цеплялась за дом так же, как цеплялась за его память. Таким образом, решение продать дом требовало от Эммы примириться со своей потерей и с тем фактом, что ее муж никогда не вернется.
Дом так часто посещало множество друзей, что она говорила о нем как о своем «отеле». Хотя Эмма терпеть не могла долгие трехчасовые поездки на машине и сетовала на расходы по приему гостей, при этом она чувствовала себя крайне одинокой и была благодарна за компанию. Эмма всегда считала, что у нее мало внутренних ресурсов, которые она могла бы предложить друзьям, а после того, как умер ее муж, чувствовала себя особенно опустошенной и ненужной. «Кто, – думала она, – приехал бы ко мне, чтобы повидать меня?» Дом был для нее гвоздем программы. Таким образом, решение продать дом означало проверку преданности своих друзей и угрозу одиночества и изоляции.
Этот дом спроектировал и построил ее отец, а землей, на которой он стоял, владело несколько поколений ее семьи. Огромной трагедией жизни Эммы было то, что она не имела детей. Она всегда представляла себе, что поместье со временем переходит к ее детям и детям ее детей. Но она была последним листом, ветвь заканчивалась ею. Поэтому решение продать дом означало для нее необходимость признать неудачу одного из ее главных символических проектов бессмертия.
Так что решение Эммы не было обычным решением. Когда смысл ее решения был исследован, стало ясно, что его последствия действительно ошеломляющие: это было решение о признании факта потери мужа, конфронтации с изоляцией и возможным одиночеством и принятии собственной смертности. Если бы я ограничился помощью ей в принятии ее решения исходя из соображений удобства, плохого здоровья или финансовых факторов, я бы упустил весь смысл смятения Эммы и возможность помочь ей на фундаментальном уровне. Я использовал решение о продаже дома как трамплин к более глубоким проблемам и помог Эмме оплакать мужа, саму себя и своих нерожденных детей. После того как глубинные смыслы решения проработаны, обычно само решение легко становится на место; и после двенадцати сессий Эмма без усилий приняла решение продать дом.
Сегодня многие терапевты исследуют «смысл» решения путем изучения его «дивидендов». Гринвальд, психотерапевтический подход которого целиком основан на принятии решений («терапия решения»), подчеркивает важность исследования дивидендов. У каждого решения есть дивиденды, осознаваемые и бессознательные. Если пациент неспособен придерживаться принятого решения, терапевту следует предположить, что тот принял другое решение, со своим набором дивидендов. Если пациент хочет измениться, но не может решиться на изменение, терапевт может исследовать не отказ от решения, но решение, которое фактически было принято – решение пациента остаться таким, какой он есть. Оставаться больным – это решение, и оно неизменно имеет реальные или символические дивиденды – например, пациент благодаря ему получает пенсию, заботу друзей или постоянную помощь терапевта.
Решение не приживется, если человек не «присвоит» его, не признает и не откажется от дивидендов противоположных решений. Поэтому если пациент выражает желание избавиться от привычки к наркотикам, Гринвальд спрашивает у него: «Почему?» – и исследует вместе с ним его дивиденды от приема наркотиков, такие как облегчение тревоги, эйфория или освобождение от ответственности. Человек скорее «присвоит» решение, когда видит границы дивидендов каждого из противоположных решений. Двое пациентов в терапевтической группе, которую я вел, хотели иметь половые отношения, но решили не делать этого из‑за моих «правил». Я указал, что не устанавливал таких правил, а затем спросил пациентов о «дивидендах» их решения. Когда они подробно обсудили свое сознавание того, что группа для них много значит, и того, что сексуальные отношения явились бы саботажем группы, это решение стало их решением, и намного прочнее укорененным, чем если бы я, терапевт, принял его за них.
«Дивиденды» – новый термин, но старая концепция. Когда мы говорим об исследовании «смысла», или «дивидендов», или «вторичной выгоды», мы подразумеваем тот факт, что каждое решение, которое человек принимает, имеет свою выгоду для него. Пусть даже он принимает очевидно саморазрушительное решение – неизменно обнаружится, что в мире опыта пациента оно осмысленно, и неким высоко личностным или символическим образом является самоохранительным. Тем не менее терапевты сталкиваются со множеством решений, полный смысл которых им трудно понять из‑за того, что эти решения уходят корнями глубоко в бессознательное.
Инсайт и решение
Точная связь между инсайтом и решением измениться всегда ускользала от определения. В психоаналитических текстах обычно ставится знак равенства между инсайтом и изменением, но в психоанализе применяется логика кругового типа, в соответствии с которой причина того, что пациент не меняется, обязательно заключается в том, что он не достиг достаточного инсайта. Вопрос делается еще более проблематичным ввиду отсутствия точного определения «инсайта». В самом широком клиническом смысле слово «инсайт» означает внутреннее открытие – «видение вовнутрь». Но между клиницистами существует множество расхождении в их представлениях о типе внутреннего открытия, провоцирующем изменение. Есть ли это инсайт о поведении человека с другими людьми? о текущей мотивации поведения человека? о детских истоках поведения, о которых часто ошибочно говорят как о генетических «причинах» поведения? Фрейд всегда придерживался точки зрения, что трансформирующий инсайт – это инсайт о ранних истоках поведения, и был убежден, что успешная терапия связана с выявлением самых ранних слоев жизненных воспоминаний. Другие терапевты полагают, что эффективный инсайт – это раскрытие нынешних активных динамик. Например, состояние Эммы, вдовы, решавшей вопрос о продаже своего летнего дома, изменилось к лучшему после того, как она осознала свои текущие активные динамики, не обращаясь при этом к генетическому вопросу: «Как я до этого дошла?»
Всегда ли необходим инсайт? Конечно, нет. У каждого терапевта были случаи, когда пациенты существенно менялись без инсайта. Выше я рассказывал о пациентах, изменившихся в результате какого‑то радикального смещения перспективы смещения, которое они сами часто могли объяснить только не слишком внятными высказываниями типа «Я научился подсчитывать мои сокровища», или «Я решил, что лучше жить свою жизнь, а не откладывать ее». Подобные замечания едва ли можно квалифицировать как инсайт. Индивиды по‑разному проходят через терапию: кто‑то извлекает пользу из инсайта, кто‑то прибегает к другим механизмам изменения; кто‑то даже получает инсайт в результате изменения, а не наоборот. Мэй утверждает: «Я не могу понять что‑то, пока я это не почувствую». Мы зачастую способны воспринять какие‑то истины о себе только после того, как займем определенную позицию по отношению к изменению. Приняв решение определив себя для себя самого, – человек затем по‑иному конституирует свой мир и способен постичь истины, которые раньше скрывал от самого себя.
Существуют значительные разногласия и противоречия в вопросе о типе инсайта, наиболее вероятно производящем изменение, однако в литературе практически не отражено, как инсайт порождает изменение Многие традиционные объяснения, инсайт делает бессознательное сознательным, подрывает сопротивление, прокладывает путь к прошлому, реинтегрирует разрозненный материал, создает коррективный эмоциональный опыт – вносят свой вклад в разработку проблемы, но все они остаются голословными и не могут описать точный механизм влияния инсайта.
Психологический конструкт волеизъявления и в особенности концепция решения – процесса, связывающего желание и действие, – обеспечивают клинициста моделью, объясняющей то, как инсайт катализирует изменение. Задача терапевта освободить волю от затруднений, инсайт – один из важных инструментов, которые терапевт может использовать для выполнения этой задачи.
В следующем разделе я покажу, что инсайт порождает изменение следующими путями. (1) способствуя развитию отношений терапевт‑пациент; (2) с помощью ряда маневров, помогающих терапевту высвободить подавленную волю пациента и направленных на то, чтобы позволить пациенту понять, что только он может изменить мир, им самим созданный, что в изменении нет опасности, что для получения того, что он действительно хочет, он должен измениться и что каждый обладает силой для изменения.
Стимулирование отношений терапевт‑пациент
Принятие отношении пациент‑терапевт, доверие к этим отношениям имеет решающее значение для процесса изменения. Благодаря заинтересованности терапевта и его безусловному расположению, любовь пациента к себе и его самоуважение постепенно возрастают. Самоуважение порождает веру в то, что человек имеет право желать и действовать. На терапевтической арене начинает проявляться воля пациента, находя принятие и поддержку со стороны терапевта. Когда в терапевтической ситуации пациент разуверяется в деструктивности своей воли, он постепенно становится способен к эффективному волеизъявлению и в других областях.
Как инсайт катализирует терапевтические отношения? Косвенно! Инсайт представляет собой эпифеномен – средство для непосредственных средств. Это удобритель отношений! Поиск понимания создает контекст для формирования отношений терапевт‑пациент, это узы между пациентом и терапевтом, то, что обусловливает их участие во взаимно удовлетворяющей деятельности (удовлетворение пациента основано на том, что его или ее внутренний мир столь внимательно исследуется; терапевта привлекает интеллектуальный вызов), а тем временем реальный фактор изменения – терапевтические отношения – бесшумно прорастает.
Инсайты, создающие подъемную силу
В дополнение к своей роли в развитии отношений терапевт‑пациент, инсайт может и более непосредственно катализировать процесс волеизъявления. Терапевт содействует пациенту в достижении знания своего "я", служащего рычагом для активизации воли. Нижеследующие «инсайты» – это четыре наиболее частых сообщения терапевта пациенту с подавленной волей, обладающих эффектом активизации воли.
«Только я могу изменить мир, который я создал». В предыдущей главе я описал множество техник, помогающих пациентам осознать собственную ответственность за их жизненные затруднения. Как только пациент по‑настоящему осознает все, что подразумевается его ответственностью, терапевт должен помочь ему понять, что ответственность непрерывна: человек не создаст свою ситуацию в жизни раз и навсегда, скорее, он непрерывно творит самого себя. Поэтому ответственность за прошлое творение подразумевает ответственность за будущее изменение. Затем терапевт помогает пациенту сделать небольшой шаг к пониманию того, что ток же, как человек один отвечает за то, каков он есть, человек один отвечает и за изменение того, каков он есть. Для того чтобы измениться, пациент должен прийти к инсайту: «Если я и только я создал мой мир, значит, только я могу изменить его». Изменение – активный процесс: оно не произойдет, если мы не будем активно меняться. Никто другой не может изменить нас или измениться за нас.
Этот инсайт одновременно упрощен и глубок. Хотя его формулировка проста, а механизм действия в основе нравоучителен, его смысловые последствия очень глубоки.
«В изменении нет никакой опасности». Многие пациенты не могут принять критическое решение измениться из‑за сильной, часто бессознательной уверенности, что с ними произойдет какая‑то беда, если они изменятся. Природа воображаемой беды у разных людей разная: один боится быть поглощенным другим, если он вступит в отношения; другой опасается отвержения или унижения, если станет более спонтанным и открытым; третий страшится катастрофического возмездия в ответ на самоутверждение, четвертый – оставления и изоляции в результате автономного поведения.
Эти воображаемые бедствия являются препятствиями для воли, и терапевт должен искать способы их устранить. Процесс выявления и обозначения воображаемой беды может сам по себе позволить пациенту понять, насколько его или ее страхи далеки от реальности. Другой подход состоит в том, чтобы поощрять пациента постепенно воспроизводить на терапевтической сессии все аспекты поведения, последствий которого пациент страшится. Воображаемое бедствие, конечно не произойдет, и страх постепенно угаснет. Например, пациент может избегать агрессивного поведения из‑за глубинного страха, вызванного идеей, что внутри него есть заблокированный резервуар убийственной ярости, требующей постоянного надзора, чтобы она не вырвалась на свободу и не навлекла на пациента возмездие других людей. Терапевт помогает такому пациенту проявлять агрессию в терапии в тщательно выверенных дозах: досаду на то, что его прерывают, раздражение на то, что терапевт совершает ошибки, гнев на терапевта за то, что тот берет с него деньги и т.д. Постепенно пациент избавляется от мифа о себе как о некоем чуждом и одержимом жаждой убийства существе.
«Чтобы получить то, чего я действительно хочу, я должен измениться». Что мешает индивиду принять решение, которое явно отвечает его интересам? Очевидный ответ состоит в том, что пациент, явно саботирующий свои зрелые потребности и задачи, удовлетворяет другой набор потребностей, зачастую неосознаваемых и несовместимых с первыми. Иными словами, пациент имеет противоречащие друг другу мотивации, которые нельзя удовлетворить одновременно Например, пациент может сознательно желать установить зрелые гетеросексуальные отношения, но бессознательно хочет, чтобы с ним нянчились, бесконечно баюкали, укрывали от ужасающей взрослой свободы, иначе говоря – используя иной словарь в случае мужчины – хочет смягчить кастрационную тревогу отождествлением с матерью. Очевидно, что пациент не может исполнить оба набора желаний: он не может установить взрослые гетеросексуальные отношения с женщиной, если скрыто транслирует ей: «Позаботься обо мне, защищай меня, нянчи меня, позволь мне быть частью тебя».
Терапевт использует инсайт для преодоления этого препятствия к функционированию воли и помогает пациенту осознать, что он имеет конфликтующие между собой потребности и цели и что каждое решение, в том числе и решение не решать, удовлетворяет некоторые потребности – то есть обладает неким «дивидендом». После того, как пациент полностью осознает характер своих противоречивых потребностей, терапевт помогает ему понять, что, поскольку все потребности нельзя удовлетворить, пациент должен выбрать между ними и отказаться от тех, которые не могут быть осуществлены иначе как огромной ценой его целостности и автономии. Как только пациент понимает, чего он или она «действительно» хочет (как взрослый), и осознает, что его нынешнее поведение направлено на удовлетворение противоположных, задерживающих рост потребностей, он постепенно приходит к выводу: «чтобы получить то, чего я действительно хочу, я должен измениться».
«У меня есть сила измениться». Многие индивиды осознают, что они не принимают, не собираются принимать решения, отвечающие их интересам. При этом они испытывают порожденное замешательством бессилие, воспринимая себя скорее как жертву, а не как хозяина своего поведения. Пока такое субъективное состояние превалирует, вероятность произвольного конструктивного действия со стороны пациента мала.
Терапевт пытается противостоять замешательству и бессилию пациента с помощью объяснений, смысл которых сводится к следующему: «Вы ведете себя определенным образом, потому что…». Слова, следующие за «потому что», обычно описывают мотивационные факторы, лежащие вне осознания пациента. Как эта стратегия помогает пациенту измениться?
Объяснение – могущественный враг бессилия, которое возникает из неведения. Объяснение, выявление и присвоение ярлыков – компоненты естественной последовательности развития контроля, или ощущения контроля, порождающего, в свою очередь, эффективное поведение. Люди всегда питали отвращение к неопределенности и веками стремились упорядочить вселенную путем объяснений, главным образом религиозных или научных. Объяснение феномена – первый шаг к контролю над ним. Если, например, туземцы живут в страхе непредсказуемых извержений находящегося поблизости вулкана, их первым шагом к контролю над ситуацией является объяснение. Они могут, например, объяснить извержение вулкана как поведение раздраженного бога вулкана. Хотя внешние обстоятельства могли совершенно не измениться, их феноменологический мир изменен этим объяснением. Более того – и это очень важно – они получают доступ к такому образу действий, который усилит их ощущение контроля: если вулкан извергается, потому что бог недоволен, значит, должны существовать способы умиротворить и в конце концов контролировать бога.
Джером Франк (Jerome Frank) в исследовании реакций американцев на неизвестную южно‑тихоокеанскую болезнь (шистомиаз) продемонстрировал, что вторичная тревога, возникающая из неопределенности, часто приносит больший ущерб, чем первичное заболевание. Подобное происходит с психиатрическими пациентами: страх и тревога, возникающие от незнания истока, смысла и серьезности психиатрических симптомов, могут настолько усугубить общую дисфорию, что эффективное исследование состояния становится неизмеримо более трудным. Терапевт может эффективно вмешаться в эту ситуацию, предоставив пациенту объяснение, которое сделает его дисфорию логически понятной для него и предсказуемой. С помощью объяснения терапевт помогает пациенту упорядочить ранее незнакомые феномены и пережить их как находящиеся под его контролем. Так инсайт позволяет пациенту почувствовать: «Я сильный, у меня есть сила измениться».
Мы можем сделать вывод, что важен прежде всего процесс (то есть возникновение инсайта), а не конкретное содержание инсайта. Функция интерпретации состоит в том, чтобы дать пациенту ощущение контроля; соответственно ценность интерпретации следует измерять этим критерием. Поскольку инсайт создает ощущение контроля, он валиден, корректен или «истинен». Такое определение истины – полностью релятивистское и прагматическое. Оно утверждает, что ни одна объяснительная система не имеет гегемонии и исключительных прав, ни одна не является правильной, фундаментальной или «более глубокой» – а следовательно, лучшей.
В исследовании инкаунтер‑групп мы с коллегами выяснили, что положительный результат высоко коррелирует с инсайтом. Те испытуемые, которые достигли инсайта и оказались способными организовать свои опыт в некую связную картину, имели положительный результат. Более того, успешными лидерами групп были те, кто предоставлял участникам некий род когнитивной структуры. Тип инсайта, который имели успешные члены групп, и специфическое содержание идеологической школы, к которой они принадлежали, практически не влияли на положительный результат. Важным признаком было не то, что они узнавали, а то, что они узнавали.
Для прояснения определенной проблемы терапевт может предложить пациенту любое из некоего ряда объяснений, каждое из которых порождено своей референтной структурой (например, системами Фрейда, Юнга, Хорни, Салливана, Адлера или трансакционного анализа); все эти структуры могут быть «истинны» в том смысле, что продуцируют объяснения, создающие ощущение контроля. Ни одна не имеет исключительного права на истину, несмотря на неистовые утверждения противоположного. В конце концов, все они основаны на воображаемых структурах «как будто». Все они говорят: «Вы ведете себя (или чувствуете себя) так, как будто то‑то и то‑то истинно».
Супер‑Эго, Ид, Эго; архетипы, идеальные и актуальные "я", система самоуважения; система "я" и диссоциированная система, мужской протест; Эго‑состояния родителя, ребенка и взрослого – ничто из перечисленного реально не существует. Все это фикции, психологические конструкты, созданные для семантического удобства, и они оправдывают свое существование только своей объяснительной силой. Концепция воли составляет центральный организующий принцип для этих разнообразных объяснительных систем. Все они действуют по одному и тому же механизму: эффективны в той мере, в какой допускают ощущение личного контроля и таким образом вдохновляют дремлющую волю.
Значит ли это, что психотерапевтам не стоит стремиться делать точные, вдумчивые интерпретации? Вовсе нет. Но они должны сознавать цель и функцию интерпретации. Некоторые интерпретации могут превосходить другие не потому, что они «глубже», но потому, что они обладают большей объяснительной силой, вызывают большее доверие, допускают больший контроль, а потому лучше катализируют волю. Чтобы интерпретации были по‑настоящему эффективными, они должны быть «скроены на получателя». В целом, интерпретации более эффективны, если они разумны, логически согласуются со здравой аргументацией, поддерживаются эмпирическим наблюдением, отвечают референтной структуре пациента, «ощущаются» правильными, оказываются «сцеплены» с внутренним опытом пациента и если их можно применить к множеству аналогичных ситуаций в жизни пациента. Глобальные интерпретации обычно снабжают пациента новым объяснением для какого‑то крупного стереотипа поведения (в отличие от одной черты или действия). Новизна объяснения обусловлена необычной для пациента референтной структурой, позволяющей терапевту оригинальным образом соединить в единое целое данные о пациенте, более того, это данные, которые прежде зачастую игнорировались или не осознавались пациентом.
Когда студенты слышат от меня этот релятивистский тезис, они откликаются примерно таким вопросом: «Вы хотите сказать, что астрологическое объяснение тоже валидно в психотерапии?» Несмотря на мои собственные интеллектуальные оговорки, я вынужден отвечать утвердительно. Если астрологическое, или шаманское, или магическое объяснение усиливает у человека ощущение контроля и ведет к внутреннему, личностному изменению, оно валидно (при условии, что согласуется с референтной структурой человека). Многочисленные свидетельства из области кросскультуральных психиатрических исследований подкрепляют мою позицию: в большинстве примитивных культур только магическое или религиозное объяснение приемлемо, а следовательно – валидно и эффективно.
Интерпретация, даже самая элегантная, бесполезна, если пациент ее не слышит. Терапевту следует приложить усилия, чтобы рассмотреть вместе с пациентом некоторые конкретные факты и в ясной форме дать им объяснение. (Терапевт, который не может этого сделать, не понимает объяснение; и вовсе не потому, как заявляют некоторые, что терапевт напрямую говорит с бессознательным пациента.) Пациент может быть неспособен принять интерпретацию, когда терапевт ее выскажет в первый раз; может быть, ему понадобится услышать эту интерпретацию еще множество раз, пока в один прекрасный день что‑то с чем‑то не соединится. Почему именно в тот день? Для терапевта важно понимать, что хотя, казалось бы, решение измениться может быть принято в удивительно короткий промежуток времени, тем не менее на закладку фундамента этого изменения часто уходит много долгих месяцев, а то и лет. Многих терапевтов поражают и озадачивают самоотчеты людей, переживших драматическую, внезапную жизненную трансформацию в результате краткой терапевтической встречи или кратковременного участия в семинаре личностного роста. Крайне трудно оценить такие сообщения. Ричард Нисбетт и Тим Уилсон (Richard Nisbett amp; Tim Wilson) показали, что люди, принявшие решение, часто бывают неточны в описании событий, предваряющих это решение. Из моих бесед с индивидами, испытавшими драматические психологические прорывы, я понял, что такие жизненные трансформации ни в коей мере не внезапны: фундамент изменения закладывался в предшествующие недели, месяцы и годы. К тому времени, когда эти люди достигли этапа обращения к терапии или иному опыту личностного роста, многие из них, на глубинном уровне, уже проделали свою работу и находились на пороге драматического изменения. В этих случаях терапия – то есть решение обратиться к терапии – это проявление, а не причина изменения.
Решение измениться обычно требует значительного времени, и терапевт должен проявлять терпение. Время для интерпретаций должно быть правильно выбрано. Опытный терапевт знает, что преждевременно данная интерпретация оказывает слабое терапевтическое воздействие. Показательным клиническим примером может служить одна пациентка в терапевтической группе, в течение нескольких лет состоявшая в чрезвычайно неудовлетворительном браке. Все попытки улучшить брак потерпели неудачу, и хотя она понимала, что брак разрушает ее, она цеплялась за него, потому что ее пугала предстоящая жизнь в одиночестве. Пациентка воспринимала своего мужа не как реальную личность, а как фигуру, защищавшую ее от одиночества. Хотя отношения были явно неудовлетворительными, она так боялась их утратить, что отказывалась решаться на изменение. В отсутствие подлинной близости, так же как и внутреннего обязательства к изменению, едва ли можно было ожидать, что брак наладится. Я не сомневался, что лишь в том случае, если женщина сможет смотреть в лицо сепарации и автономии, она получит шанс на подлинную, неискаженную человеческую встречу. Поэтому я отважился высказать свое заключение: «Вы сможете спасти свой брак лишь в том случае, если готовы от него отказаться». Эта интерпретация имела для нее глубокий смысл: по словам пациентки, она поразила ее, как удар молнии; она явилась катализатором значительных последующих изменений.
Эта ситуация имела интригующий поворот, связанный с тем, что пациентка была в терапевтической группе, после каждой встречи которой я много лет делал краткие записи, чтобы послать их по почте членам группы до следующей сессии (см. мою книгу о групповой терапии для объяснения этой процедуры). Таким образом, существовала письменная история терапевтической группы – хроника, которую пациенты читали после каждой встречи. Именно эта пациентка была прилежной читательницей записей и подшивала их, так что у нее был непрерывный дневник группы, к которому она время от времени обращалась. Вскоре после того, как я дал ей эту эффективную интерпретацию, я просматривал записи о группе за последние два года в связи с работой, которую писал, и к своему удивлению обнаружил, что сделал ей точно такую же интерпретацию за год до этого. Хотя словесное выражение было тем же, а интерпретация была подчеркнутой и сильно акцентированной, прежде она ее не услышала, потому что была не готова услышать.
ПРОШЛОЕ ПРОТИВ БУДУЩЕГО В ПСИХОТЕРАПИИ
Заслуживает внимания тот факт, что слово «воля» (will) имеет двойной смысл: с одной стороны, оно ассоциируется с решением и решительностью, с другой – указывает на будущее время: «Я‑таки сделаю это (I will do it) – не сейчас, но в будущем». Любой терапевт согласится с тем, что психотерапия успешна постольку, поскольку она позволяет пациенту изменить свое будущее. Однако в психотерапевтической литературе речь идет преимущественно не о будущем, а о прошлом. В значительной мере это доминирование прошлого является результатом смешивания объяснения и «ориджинологии». Психотерапевты, особенно фрейдистских убеждений, склонны считать, что для того, чтобы объяснить некое явление – то есть дать инсайт, – мы должны выявить источник этого явления или, как минимум, соотнести его с какой‑то прошлой ситуацией. Согласно этой референтной системе, причины индивидуального поведения следует находить в предшествующих обстоятельствах жизни личности.
Однако, как я говорил в предыдущем разделе, есть много способов объяснения, или систем причинной связи, которые не опираются на прошлое. Например, будущее (наше нынешнее представление о будущем) не в меньшей степени, чем прошлое является мощным детерминантом поведения, а концепция будущего детерминизма вполне выдерживает критику. Такая вещь, как «еще нет», оказывает значительное влияние на наше поведение. Внутри человека – и на сознательном, и на бессознательном уровнях – существует ощущение задачи, идеальное "я", множество целей, к которым человек стремится. знание о своем предназначении и конечной смерти. Все эти конструкты простираются в будущее, однако они сильно влияют на внутренний опыт и поведение.
Другой способ объяснения использует галилеевскую концепцию причинной связи, акцентирующую силы поля, действующего на индивида в настоящий момент. Наши поведенческие траектории зависят не только от характера и направления исходного толчка и природы манящей нас цели, но также от полевых сил, действующих на нас в данный момент. Таким образом, терапевт может «объяснять» поведение пациента, исследуя концентрические круги сознательных и бессознательных текущих мотиваций, окружающих этого индивида. Рассмотрим, например, человека, который имеет сильную склонность нападать на других. Исследование его поведения может обнаружить, что агрессия этого пациента является реактивным формированием, скрывающим под собой пласт сильных желании зависимости, не проявляющихся из‑за страха быть отвергнутым. В этом объяснении нет необходимости отвечать на вопрос «Как пациент стал таким?»
Тем не менее терапевты склонны сосредоточиваться на прошлом в процессе психотерапии. Самая долгосрочная интенсивная терапия тратит значительные усилия на то, чтобы смотреть назад. Собираются длинные истории развития, во всех подробностях исследуется память ранних отношений человека с родителями и сиблингами, тщательно изучаются детские воспоминания и инфантильные корни сновидении Фундамент этого подхода заложил Фрейд. Он был убежденным психо‑археологом, до последнего дня жизни считавшим, что раскрытие прошлого существенно для успешной терапии и даже равносильно ей. В одной из своих последних статей он даже проводит широкую аналогию между работой аналитика и профессионального археолога Он описывает задачу терапевта как «построение прошлого».
«Все мы знаем, что человека, проходящего анализ, необходимо побуждать вспомнить нечто, что было им пережито и подавлено. Аналитик не пережил и не подавил ничего из материала, который рассматривается, его задача не может состоять в том, чтобы что‑то вспомнить. Что же тогда является его задачей? Его задача – понять то, что забыто, по следам, которые оно оставило, или, точнее, построить… Его работа по конструированию или, если угодно, по реконструированию в значительной степени напоминает выкапывание археологом некоего жилища, которое было разрушено и скрылось под слоем земли. Эти два вида деятельности и в самом деле сходны, за исключением того, что аналитик работает в лучших условиях и имеет в своем распоряжении больше подсобного материала».
Ниже Фрейд продолжает утверждать, что терапевт, как и археолог, часто должен реконструировать доступные фрагменты (предоставленные пациентом), а затем предлагать пациенту свою конструкцию. Собственно говоря, Фрейд полагает, что слово «конструкция» лучше подходит к деятельности терапевта, чем «интерпретация». Если аналитику не удалось помочь пациенту вспомнить прошлое, он все равно должен, полагает Фрейд, дать пациенту конструкцию прошлого, как он (аналитик) его видит. Фрейд считал, что эта конструкция столь же терапевтически полезна, что и реальное воспоминание прошлого материала.
«Весьма часто мы не добиваемся успеха в подведении пациента к воспоминанию того, что было подавлено. Вместо этого, если анализ выполнен корректно, мы создаем в нем твердую убежденность в истинности конструкции, приводящую к тем же терапевтическим результатам, что и возвращенная память».
Последнее примечательное утверждение согласуется с точкой зрения, высказанной мной выше, – что важно не содержание, а процесс интерпретации или объяснения.
Акцент Фрейда на реконструкции прошлого как объяснительной системы тесно связан с его детерминистской доктриной: все поведение и психический опыт являются результатом предшествующих событий – событий средового или инстинктивного характера. Такая объяснительная система проблематична потому, что она содержит внутри себя семена терапевтического отчаяния. Если мы детерминированы прошлым, откуда берется способность измениться? Из поздних работ Фрейда, особенно из работы «Анализ конечный и бесконечный» очевидно, что бескомпромиссное детерминистское видение человека привело его на позиции терапевтического нигилизма.
Любая система, объясняющая поведение и психический опыт на основе феноменов (например прошлых или нынешних средовых событий, инстинктивных влечений), которые находятся вне сферы индивидуальной ответственности, делает позицию терапевта ненадежной. Ранк выразил это так: «Принцип причинной связи означает отрицание принципа воли, так как в соответствии с ним чувство, мышление и действие индивида зависят от внешних по отношению к нему сил, и таким образом освобождают его от ответственности и вины».
Конечно, часто бывает полезно освободить человека от вины по поводу прошлых событий и действий. Терапевт, являющийся приверженцем детерминистской доктрины, может исследовать прошлое так, чтобы показать пациенту, что тот является жертвой внешних событий – при сложившихся обстоятельствах он не мог действовать иначе. Таким образом терапевт может использовать изучение прошлого для освобождения от вины, но при этом он сталкивается с проблемой: как трактовать прошлое на основе одной референтной системы (отпуская вину), а будущее – на основе другой (пробуждая ответственность)?
Гэтч и Темерлин (Gatch amp; Temerlin) изучили записи сессий двадцати терапевтов (десяти фрейдистских и десяти экзистенциальных аналитиков), чтобы определить, как они обходятся с этим парадоксом. Как и ожидалось, они обнаружили, что экзистенциальные терапевты делали значительно больше комментариев, акцентировавших выбор, свободу и ответственность пациентов. Однако ни один из двадцати терапевтов ни разу не изъяснялся в том духе, что пациент в настоящее время является жертвой обстоятельств, лежащих за пределами их контроля. Поскольку каждый пациент взвешивает вопрос об изменении, все терапевты стремились признать и акцентировать доступные ему альтернативы. Но когда пациент говорил о своем младенчестве или детстве, все терапевты реагировали в согласии с детерминистской позицией: эти обстоятельства находились вне контроля пациента, когда он был ребенком.
Таким образом, понятно, что терапевты научаются жить с такой противоречивой позицией. Они могут уменьшить противоречивость, усовершенствовав детерминистскую доктрину до доктрины реципрокного детерминизма: исходя из того, что в прошлом коэффициент неблагоприятности был слишком высок, принимая во внимание молодость и неопытность пациента, а также мощное воздействие на него взрослых, ясно, что он не мог действовать иначе.
Большинство экзистенциальных терапевтов, по сравнению со сторонниками других школ, склонны меньше фокусироваться на прошлом, а больше – на будущем, на предстоящих решениях и ожидающих впереди целях. Когда экзистенциальный терапевт работает с виной, это вина не за плохо сделанный выбор, а за отказ делать новые. Человеку чрезвычайно трудно освободиться от вины за прошлое, если его нынешнее поведение провоцирует вину. Мы прежде всего должны научиться прощать себя за настоящее и будущее. До тех пор, пока мы продолжаем действовать по отношению к собственному "я" в настоящем так же, как действовали в прошлом, мы не можем простить себя за прошлое. Но в любом случае при работе с прошлым важно, чтобы индивид не брал на себя непомерной ответственности. Единственное, что важно соблюдать, – категорический императив для ответственности: то, что истинно для одного в отношении ответственности, истинно для всех. Многие люди берут на себя чрезмерную ответственность и вину за действия и чувства других. Пусть пациент действительно совершил проступок или преступление по отношению к кому‑то, тем не менее существует также область ответственности другого, допустившего, чтобы пациент причинил ему вред, проявлял пренебрежение или дурно обращался с ним. Таким образом, терапевт должен помочь пациенту определить границы ответственности.
Возникает не только серьезный вопрос по поводу терапевтической эффективности каузальной объяснительной системы, основанной на прошлом, но также и серьезная методологическая проблема – а именно то, что психологическая реальность не совпадает с исторической реальностью. Как отмечает Ранк, естественнонаучная идеология Фрейда привела его к стремлению реконструировать историческое прошлое на основе воспоминаний пациента о нем. Но «реконструкция прошлого зависит не только от фактов, но и от установки или реакции индивида по отношению к ним… Проблема прошлого – это проблема памяти, а следовательно, проблема сознания». Иными словами, прошлое реконституируется настоящим. Даже в очень пространном анамнезе человек вспоминает лишь малый фрагмент своего прошлого опыта и склонен избирательно вспоминать и синтезировать прошлое, обеспечивая соответствие со своим нынешним видением себя. (По этой причине Гофман предлагает для такой реконструкции прошлого термин «апология».). Так как через терапию человек меняет свой нынешний образ самого себя, он может пересоздать и реинтегрировать свое прошлое; например, он может вспомнить давно забытый положительный опыт, испытанный с родителями. Он, возможно, очеловечит их и скорее, чем воспринимать их солипсически (как персонажей, которые существовали исключительно в силу своего служения ему), увидит их как одолеваемых беспокойством индивидов с наилучшими побуждениями, бьющихся с теми же подавляющими фактами человеческой ситуации, с которыми встречается каждый. Этот процесс кратко изложен в замечании, приписываемом Марку Твену: «В семнадцать лет я был убежден, что мой отец круглый дурак. В двадцать один год я был поражен тем, сколь многому старик научился за четыре года».
Герменевтический подход к интерпретации рассматривает отношения между пониманием и контекстом: он утверждает, что усвоение понимания требует определенного контекста, но это новое понимание изменяет восприятие контекста. Следовательно, интерпретация – это органичный процесс, в котором контекст и понимание последовательно пересоздают друг друга. Тот же принцип применим к отношениям между прошлым и настоящим: прошлое человека, в отличие от развалин древнего храма, не фиксированно и не ограниченно, оно создается настоящим и в своей постоянно меняющейся символической имманентности влияет на настоящее.
Если прошлое как система объяснения имеет ограниченную ценность, то какую же роль играет прошлое в процессе психотерапии? Выше я упоминал о роли поиска генетического инсайта в развитии терапевтических отношений Интеллектуальное предприятие, уподобляемое Фрейдом археологическим раскопкам, обеспечивает совместную, по видимости осмысленную деятельность пациента и терапевта, заполняющую то время, пока развивается реальный фактор изменения – терапевтические отношения. Но прошлое способствует формированию отношений и другим существенным способом: точное понимание раннего развития свойственного пациенту стиля межличностных отношений увеличивает возможности контакта. Например, женщина с заносчивой манерой поведения, всем своим видом выражающая надменность и снисходительность, внезапно может стать для терапевта понятной и даже привлекательной, когда тот узнает о ее родителях‑иммигрантах и ее отчаянном стремлении подняться над унижением своего трущобного детства. Знание процесса становления другого часто является совершенно необходимым дополнением к собственно знанию о нем. В этом отношении существенно то, на чем делается акцент. Прошлое исследуется, чтобы стимулировать и углубить нынешние отношения. Это прямо противоположно формуле Фрейда, согласно которой нынешние отношения служат средством для углубления понимания прошлого. Чарльз Рикрофт (Charles Rycroft) выражает это с предельной ясностью:
«Представление о том, что терапевт совершает экскурсы в историческое исследование с целью понять нечто, препятствующее его текущей коммуникации с пациентом (подобно тому, как переводчик может обращаться к истории, чтобы прояснить непонятный текст), более осмысленно, чем идея, что он устанашивает контакт с пациентом с целью получить доступ к биографическим данным».
Часть III ИЗОЛЯЦИЯ
8. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
Процесс глубочайшего исследования – процесс, который Хайдеггер называет «раскрытием», – приводит нас к признанию того, что мы конечны, мы должны умереть, мы свободны и мы не можем уйти от своей свободы. Мы узнаем также, что индивидуум неумолимо одинок.
Поскольку свобода и смерть – это концепции, традиционно лежащие за пределами «территории» психотерапевта, я счел необходимым в предыдущих главах детально разработать вопрос их специфической уместности в психотерапии. С изоляцией дело обстоит иначе, так как эта концепция знакома и часто всплывает в повседневной терапии. В действительности эта концепция настолько известна и используется в таком количестве разных подходов, что мне прежде всего нужно определить, что она означает в экзистенциальном контексте. По моему опыту, клиницист имеет дело с тремя разными типами изоляции: межличностной, внутриличностной и экзистенциальной.
Межличностная изоляция, обычно переживаемая как одиночество, – это изоляция от других индивидуумов. Удовлетворяющему социальному взаимодействию могут препятствовать многие факторы: географическая изоляция, недостаток соответствующих социальных навыков, конфликтные чувства по отношению к близости, личностный стиль (например, шизоидный, нарциссический, использующий или критический). Важную роль в межличностной изоляции играют культуральные факторы. Упадок поддерживающих близость институций – большой семьи, стабильного соседского окружения, церкви, местной торговли, семейного врача – неуклонно приводит, по крайней мере в Соединенных Штатах, к нарастающему межличностному отчуждению.
Внутриличностная изоляция – это процесс, посредством которого человек отделяет друг от друга части самого себя. Фрейд использовал термин «изоляция», чтобы описать защитный механизм, особенно заметный при маниакальном неврозе, когда неприятный опыт отделяется от связанного с ним аффекта и его ассоциативные связи прерываются, так что он изолируется от обычных процессов мышления. Гарри Стак Салливан особенно интересовался феноменом, посредством которого человек исключает опыт из сферы осознания и/или делает части психики недоступными для "я". Он называл этот процесс «диссоциацией» (отказавшись от термина «вытеснение») и придавал ему центральное значение в своей схеме психопатологии. В современной психотерапии понятие «изоляции» используется не только по отношению к формальным защитным механизмам, но и при случайном упоминании любой формы фрагментации "я". Таким образом, внутриличностная изоляция имеет место тогда, когда человек душит собственные чувства или стремления, принимает «нужно» и «следует» за собственные желания, не доверяет собственным суждениям или сам от себя блокирует собственный потенциал.
Внутриличностная изоляция – широко используемая парадигма современной психопатологии. Современные теоретики, такие как Хорни, Фромм, Салливан, Маслоу, Роджерс и Мэй, утверждают, что патология является результатом блокировок, которые происходят в начале жизни и ведут к срыву естественного развития индивидуума. Карл Роджерс, обсуждая знаменитый случай Элен Вест, приведенный Людвигом Бинсвангером, ясно описывает внутриличностную изоляцию: «Хотя в детстве она была вполне независимой от мнения других, сейчас она полностью зависима от того, что думают другие. У нее уже нет больше способов узнать, что она сама чувствует или каково ее мнение. Это состояние сильнейшего возможного одиночества, почти полная сепарация от собственного автономного организма».
Современные терапевты большое значение придают задаче помощи пациентам в реинтеграции некогда отщепленных частей собственного "я". В исследовательском проекте, который я описал в главе 6, успешным в терапии пациентам предложили выстроить по ранжиру шестьдесят факторов терапии в соответствии со степенью полезности для них. По сию пору единственным чаще выбираемым пунктом остается «открытие и принятие прежде неизвестных или не принимавшихся частей себя». Сделать себя снова целостным – цель многих психотерапевтических подходов (за исключением ориентированных на симптом). Например, Перлз назвал свой подход гештальттерапией, стремясь подчеркнуть стремление к решению задачи «целостности». (В этой связи отметим общий этимологический корень слов «целый», «исцеление», «здоровье», «здоровый»).*
* В английском языке слова whole, heal, health, hale действительно созвучны – Прим. переводчика.
Дальше в этой главе я сосредоточусь на третьей форме изоляции – экзистенциальной изоляции. Я отнюдь не намерен преуменьшать важность межличностной и внутриличностной изоляции в клинической работе, но поскольку я хочу сохранить размер этой монографии в разумных пределах, то могу лишь рекомендовать читателю соответствующую литературу. Однако впоследствии я буду часто упоминать межличностную и внутриличностную изоляцию, так как они тесно связаны с экзистенциальной изоляцией (в особенности межличностная и экзистенциальная изоляция, имеющие общую границу). Типы изоляции субъективно похожи, то есть они могут восприниматься одинаково и маскироваться друг под друга. Часто терапевты путают их и лечат пациента не от того типа изоляции. Помимо этого, их границы полупроницаемы, например, экзистенциальная изоляция часто удерживается в терпимых рамках через межличностное присоединение. Все эти проблемы будут обсуждаться в свое время, но сначала надо дать определение экзистенциальной изоляции.
ЧТО ТАКОЕ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ?
Индивиды часто бывают изолированы от других или от частей себя, но в основе этих отъединенностей лежит еще более глубокая изоляция, связанная с самим существованием, – изоляция, которая сохраняется при самом удовлетворительном общении с другими индивидами, при великолепном знании себя и интегрированности. Экзистенциальная изоляция связана с пропастью между собой и другими, через которую нет мостов. Она также обозначает еще более фундаментальную изоляцию – отделенность между индивидом и миром. Выражение «сепарация от мира» не очень далеко от истины, но звучит несколько смутно. Одна из моих пациенток дала образное определение. Она испытывала периодические приступы паники, возникавшие тогда, когда ее отношения с доминантным другим оказывались под угрозой. Описывая свои переживания, она сказала мне. «Помните, в фильме „Вестсайдская история“, когда встречаются двое влюбленных, все остальное в мире мистическим образом исчезает и они оказываются абсолютно одни в целом мире? Именно это и происходит со мной в такие моменты. За исключением того, что, кроме меня, нет больше никого».
У другого пациента был повторяющийся ночной кошмар, начавшийся в раннем детстве, а теперь, во взрослом возрасте, приведшим к жестокой бессоннице, к настоящей фобии сна. Этот пациент боялся ложиться спать. Необычность ночного кошмара заключалась в том, что видящему сон не причинялось никакого вреда. Вместо этого мир таял и исчезал, оставляя его лицом к лицу с ничем. Вот как он описал свое сновидение:
«Я просыпаюсь в своей комнате. Внезапно я начинаю замечать, что все меняется. Кажется, что оконная рама вытягивается, а потом идет волнами, книжные шкафы сжимаются, дверная ручка исчезает, а в двери появляется дыра, которая становится все больше и больше. Все теряет форму и начинает таять. Ничего больше нет, и я начинаю кричать».
Томаса Вулфа постоянно преследовало его необычайно острое сознание экзистенциальной изоляции. В автобиографических «Взгляде в сторону дома» и «Ангеле» главный герой размышляет об изоляции, даже будучи младенцем в колыбели.
«Бездонное одиночество и печаль пронизывали его: он видел свою жизнь в торжественной перспективе лесной просеки и знал, что всегда будет печальным, посаженная в клетку этого маленького круглого черепа, заключенная в это бьющееся и потайное сердце, его жизнь всегда должна идти одинокими дорогами. Потерянный, он понимал, что люди всегда были чужими друг другу, что никто никогда на самом деле не приближался к тому, чтобы знать кого‑либо. Так, заключенные в темной утробе нашей матери, мы приходим в жизнь, не видя ее лица, так нас кладет ей на руки незнакомец, и так, пойманные в эту непреодолимую тюрьму бытия, мы никогда не убегаем из нее, неважно, какие руки могут обнимать нас, какой рот может целовать нас, какое сердце может согревать нас. Никогда, никогда, никогда, никогда, никогда».
Экзистенциальная изоляция – это долина одиночества, к которой много путей. Конфронтация со смертью и свободой неизбежно приведет индивида в эту долину.
Смерть и экзистенциальная изоляция
Именно знание о «моей смерти» заставляет человека в полной мере осознать, что никто не может умереть вместе с кем‑то или вместо кого‑то. Хайдеггер утверждает, что «хотя человек может пойти на смерть за другого, подобное „умирание за“ никак не означает, что другого хотя бы в малейшей степени избавили от его смерти. Никто не может забрать смерть у другого». Хотя нас могут окружать друзья, хотя другие могут умереть за то же дело, даже хотя другие могут умереть одновременно с нами (подобно тому, как древние египтяне убивали и хоронили слуг вместе с фараоном или как при соглашении о совместном самоубийстве), все же на самом фундаментальном уровне нет более одинокого человеческого переживания, чем переживание умирания.
«Некто», известная средневековая пьеса‑моралитэ, сильно и просто рисует одиночество человека при встрече со смертью. К Некто приходит Смерть, которая сообщает ему, что он должен совершить последнее паломничество к Богу. Некто молит о милосердии, но тщетно. Смерть сообщает ему, что он должен подготовиться к дню, которого «не может избежать ни один живущий». В отчаянии Некто торопливо мечется в поисках помощи. Испуганный и к тому же одинокий, он умоляет других сопровождать его в путешествии. Персонаж по имени Родственник отказывается идти с ним.
"Будь радостен,
Соберись с мужеством и не жалуйся.
Но одно, во имя Святой Анны, я должен тебе сказать.
Что до меня, я не составлю тебе компанию".
Так же поступает кузина Некто, она оправдывается тем, что нездорова:
"Нет, во имя Богоматери! У меня сводит ногу,
Не доверяйся мне. Ибо так определил мне Бог,
Что я подведу тебя в твой тяжелейший час".
Таким же образом ему отказывают остальные аллегорические персонажи пьесы
Товарищество, Мирские Блага и Знание. Даже собственные душевные качества покидают его:
"Красота, сила и осмотрительность,
Когда повеяло дыханием смерти,
Поспешно бежали от меня".
В конце концов Некто спасается от всеобъемлющего ужаса экзистенциальной изоляции, потому что одно действующее лицо. Хорошие поступки, готово идти с ним даже на смерть. И это составляет христианскую мораль пьесы, в контексте религии добрые дела предотвращают конечную изоляцию. Но сегодняшний светский Некто, который не может или не хочет принять религиозную веру, должен совершать свое путешествие один.
Свобода и экзистенциальная изоляция
Одиночество существования в качестве собственного родителя. В той мере, в какой человек отвечает за собственную жизнь, он одинок. Ответственность подразумевает авторство, сознавать свое авторство означает отказаться от веры, что есть другой, кто создает и охраняет тебя. Акту самосотворения сопутствует глубокое одиночество. Человек начинает сознавать космическое безразличие вселенной. Может быть, у животных и есть какое‑то ощущение пастуха и приюта, но человек с его проклятием самосознания неминуемо остается открыт экзистенции.
Эрих Фромм считал, что изоляция первичный источник тревоги. Он особенно подчеркивал чувство беспомощности, сопутствующее фундаментальной отъединенности человеческого существа.
«Осознание своего одиночества и отъединенности, своей беспомощности перед силами природы и общества превращает его отъединенное, расколотое существование в невыносимую тюрьму. Переживание отъединенности вызывает тревогу; более того, это источник всякой тревоги. Быть отъединенным означает быть отрезанным, без какой‑либо возможности использовать свои человеческие силы. Следовательно, это значит быть беспомощным, неспособным активно влиять на мир – вещи и людей, это означает, что мир может вторгаться в меня, а я не в состоянии реагировать».
Этот смешанный аффект одиночества‑беспомощности является понятным эмоциональным ответом, когда мы обнаруживаем, что без нашего согласия помещены в существование, которое не выбирали. Хайдеггер, говоря об этом состоянии, использует термин «вброшенность». Хотя мы сами творим себя, наш проект – та форма, которую мы в конце концов создаем, – ограничен тем, что мы в одиночку вытолкнуты на экзистенциальную сцену.
Дефамилиаризация. Мы конституируем не только себя, но и мир, формируемый так, чтобы скрыть, что он конституирован нами. Экзистенциальной изоляцией пропитано «тесто вещей», субстанция мира. Но столько слоев житейских артефактов, каждый из которых насыщен личным и коллективным смыслом, скрывают ее под своим спудом, что мы обычно переживаем только мир повседневности, рутинных действий, мир «их». Мы как бы «дома», мы окружены стабильным миром знакомых объектов и институций, миром, в котором все объекты и существа связаны и взаимосвязаны множество раз. Нас успокаивает ощущение уюта, принадлежности к чему‑то знакомому; изначальный мир безграничной пустоты и изоляции спрятан и погружен в безмолвие, давая знать о себе лишь краткими проблесками в ночных кошмарах и мистических видениях.
Однако бывают моменты, когда порывом ветра на мгновение приоткрывается занавес реальности, и мы мельком бросаем взгляд на оборудование за сценой. В эти моменты – знакомые, я полагаю, каждому саморефлексирующему индивиду происходит мгновенная дефамилиаризация, когда из объектов вырываются смыслы, распадаются символы, и человек срывается с якорей «домашности». Альбер Камю в раннем произведении описал такой момент, наступивший, когда он находился в гостиничном номере в чужой стране.
«Здесь я беззащитен, в этом городе, где не могу читать вывески… без друзей, с которыми можно поговорить, короче, без отвлечении. В этой комнате, пронизанной звуками странного города, я знаю, ничто не поведет меня к более нежным огням дома или другого любимого места. Позвать? Закричать? Появились бы чужие лица…И теперь, когда сердце становится ленивым, завеса привычки, удобная ткань жестов и слов, медленно поднимается и наконец открывает бледное лицо тревоги. Человек лицом к лицу с самим собой, я не могу поверить, что он счастлив…».
В эти моменты глубокой экзистенциальной муки отношения человека с миром подвергаются глубокому потрясению. Один из моих пациентов – очень успешный, ориентированный на карьеру служащий – описал такой эпизод, длившийся лишь несколько минут, но настолько мощный, что впечатление о нем осталось живо и сорок лет спустя. Это было в возрасте двенадцати лет, когда пациент однажды лег спать на воздухе; он глядел в небо и внезапно почувствовал себя отделенным от матери‑земли и плывущим среди звезд. Где он находится? Откуда пришел? Откуда пришел Бог? Откуда пришло нечто (в отличие от ничто)? Моего пациента захлестывали переживания одиночества, беспомощности, отсутствия опоры. Мне трудно поверить в то, что решения, касающиеся всей жизни, могут быть приняты в одно мгновение, но он настаивает, что именно там и тогда решил стать таким знаменитым и могущественным, чтобы подобных чувств никогда больше не возникало.
Конечно, это переживание пустоты, потерянности, безродности не происходит «извне», оно внутри нас и, чтобы возникнуть, не нуждается ни в каком внешнем стимуле. Все, что требуется – искренний внутренний поиск. Это прекрасно выражает Роберт Фрост:
Я не боюсь пространства, что зияет
Меж безднами, – звезду не населяет
Народ людской. А бездна так близка:
Во мне пустыня, что меня пугает*
Когда человек попадает в собственную «пустыню», мир внезапно становится незнакомым. Курт Рейнхардт говорит, что в таких случаях.
«…что‑то чрезвычайно таинственное вторгается между ним и знакомыми объектами его мира, между ним и его собратьями, между ним и всеми его 'ценностями'. Все, что он называл своим, бледнеет и погружается куда‑то, так что не остается ничего, за что он мог бы уцепиться. Угроза исходит от 'ничто' (не нечто), и он оказывается один, потерянный в пустоте. Когда эта темная и ужасная ночь мучений проходит, человек испускает вздох облегчения и говорит себе. это все‑таки было 'ничто'. Он испытал 'небытие'».
Для описания состояния, в котором человек теряет ощущение знакоместа мира, Хайдеггер использует термин «жуть» (Uncanny), соответствующий переживанию «не‑домашности». Когда мы (dasein) полностью включены в знакомый мир видимости и теряем контакт со своим экзистенциальным местоположением, то, согласно Хайдеггеру, мы находимся в «повседневной» «падшей» форме. Тревога выполняет функцию проводника, возвращающего нас через переживание «жуткости» к осознанию изоляции и небытия.
«Когда человек (dasein) падает, тревога возвращает его из погруженности в „мир“. Будничная знакомость распадается… „Бытие в“ переходит в экзистенциальный модус „не‑домашности“. Говоря о „жуткости“, мы не имеем в виду ничего другого».
В другом пассаже Хайдеггер утверждает, что когда человек возвращен из «погруженности в мир» и объекты лишены своего значения, он испытывает тревогу, обусловленную конфронтацией с мировым одиночеством, безжалостностью и небытием.* Таким образом, чтобы избежать «жути», мы используем мир как средство и погружаемся в отвлечения, предоставляемые майей – миром видимостей. Предельный страх возникает, когда мы встречаемся с ничто. Перед лицом ничто нам не может помочь никакая вещь и никакое существо, именно в этот момент мы испытываем экзистенциальную изоляцию во всей ее полноте. И Кьеркегор и Хайдеггер любили игру слов с участием слова «ничто». «Чего человек боится?» «Ничего!»
* Хайдеггер говорит об объектах в мире как о находящихся «под рукой» либо «рядом», в зависимости от того, считается ли объект «инструментом» или понимается как чистая сущность: "Угроза исходит не от самого того. что находится наготове или под рукой, но скорее от факта, что ни то, ни другое больше ничего не «говорит». Мир, в котором я существую, потонул в ничтожности. Тревога вспыхивает перед лицом «ничто» мира, но это не означает, что в тревоге мы переживаем подобие отсутствия того, что находится рядом в пределах мира. Скорее находящееся рядом предстает таким, как будто не имеет какой бы то ни было включенности в нас, но может проявить себя в бессодержательной безжалостности. Что подразумевает, что наше озабоченное ожидание не находит ничего, выраженного так, чтобы оно могло понять себя. оно наталкивается на «небытие» мира.
Итальянский кинорежиссер Антониони был мастером изображения дефамилиризации. Во многих его фильмах (например, в «Затмении») объекты видятся в окончательной чистоте с примесью холодной таинственности. Они отделены от своего значения, и главная героиня просто проплывает мимо них, неспособная действовать, в то время как все вокруг нее деловито движутся, используя их.
Дефамилиризация охватывает не только объекты в мире, другие сущности, изобретенные, чтобы обеспечивать структуру и стабильность – например, роли, ценности, руководства, правила, этические нормы – точно так же могут быть оторваны от смысла. В главе 5 я описал простое упражнение «растождествления», в котором индивидуумы записывали на карточках ответы на вопрос «Кто я?», а затем в размышлении отбрасывали эти роли одну за другой (например, мужчина, отец, сын, зубной врач, пешеход, читатель книг, муж, католик, Боб). Ко времени, когда упражнение было закончено, индивид отбрасывал все свои роли и начинал сознавать, что бытие независимо от аксессуаров, что человек существует, как сказал Ницше, и за «последней туманной чертой испаряющейся реальности». Некоторые фантазии, о которых участники рассказали в конце упражнения (например, «бесплотный дух, скользящий в пустоте»), очевидно наводят на мысль, что лишение ролей активизирует у человека переживание экзистенциальной изоляции.
Переживания, возникающие тогда, когда человек остается один и повседневные ориентиры внезапно утрачиваются, обладают способностью вызывать чувство жути – чувство не‑домашности мира. Заблудившийся путник; лыжник, внезапно обнаруживший себя не на лыжне; водитель, который в густом тумане больше не видит дорогу в таких ситуациях человека нередко охватывает в страх независимо от присутствия физической угрозы. Это страх одиночества – ветер, дующий из собственной внутренней пустыни – ничто, находящегося в сердцевине бытия.
«Жуткое» несут социальные взрывы, внезапно с корнем вырывающие ценности, этику и мораль, которые, как мы привыкли считать, существуют независимо от нас. Холокост, насилие толпы, массовое самоубийство в Джонстауне, хаос войны вызывают в нас ужас, потому что это проявления зла; но они также потрясают нас содержащимся в них сообщением: ничто в мире не соответствует нашим всегдашним представлениям; правит случайность; абсолютно все может измениться; все, что мы считали непреложным, ценным, хорошим, может внезапно исчезнуть, твердая основа отсутствует, мы «не дома» здесь, или там, или где‑либо в мире.
Рост и экзистенциальная изоляция
Слово «существовать» подразумевает дифференциацию («ex‑ist» = «stand out», выделяться). Процесс роста, согласно представлению Ранка, это процесс сепарации, превращения в отдельное существо. Рост подразумевает отделение: автономию (самоуправление), опору на себя, способность стоять на собственных ногах, индивидуацию, самоконтроль, независимость. Жизнь человека начинается со слияния яйцеклетки и спермы, проходит через эмбриональную стадию физической зависимости от матери в фазу физической и эмоциональной зависимости от окружающих взрослых. Постепенно индивид устанавливает границы, отмечающие, где кончается он и начинаются другие, и начинает полагаться на самого себя, становится независимым и отдельным. Не отъединяться значит не расти, но платой за сепарацию и рост является изоляция.
В терминах Кайзера, напряжение, присущее этой дилемме, обусловливает «универсальный конфликт» человека. «Индивидуальное становление влечет за собой полную, фундаментальную, вечную и непреодолимую изоляцию». Фромм в «Бегстве от свободы» говорит о том же самом:
«Постольку ребенок приходит в этот мир, он сознает, что одинок, что представляет собой сущность, отдельную от всех других. Эта отъединенность от мира, подавляюще сильного и могущественного и часто угрожающего и опасного по сравнению с индивидуальным существованием, рождает чувство бессилия и тревоги. Пока мы являемся интегральной частью мира, не сознавая возможностей и ответственности индивидуального действия, нам нет нужды бояться мира. Становясь индивидуальностью, мы оказываемся в одиночестве и встречаемся один на один с миром во всех его опасных и подавляющих проявлениях».
Выйти из состояния межличностного слияния означает столкнуться с экзистенциальной изоляцией, сопровождающейся страхом и бессилием. Дилемма слияния‑изоляции – или, как ее обычно называют, привязанности‑сепарации – основная экзистенциальная задача развития. Именно это имел в виду Отто Ранк, подчеркивая значимость родовой травмы. Для Ранка рождение было символом любого выхода из погруженности в целостность Ребенок боится именно самой жизни.
Теперь становится ясно, что экзистенциальная и межличностная изоляция сложно взаимосвязаны между собой Выход из межличностного слияния бросает индивида в экзистенциальную изоляцию. Неудовлетворительное существование в слитности, так же как слишком ранний или слишком неуверенный выход из нее, приводят к тому, что человек не готов встретиться с изоляцией, сопутствующей автономному существованию. Страх экзистенциальной изоляции является движущей силой многих межличностных отношений и, как мы увидим, важной динамической характеристикой феномена переноса.
Проблема отношений – это проблема слияния‑изоляции. С одной стороны, человек должен научиться быть в отношениях с другим, не поддаваясь желанию избегнуть изоляции, став частью этого другого. Но он также должен научиться, будучи в отношениях с другим, не низводить другого до роли средства, не делать из него орудие защиты от изоляции Бьюдженталь, обсуждая проблемы взаимоотнесенности, играет на слове «отдельно» («apart»). Основная межличностная задача человека состоит в том, чтобы быть одновременно «частью» и «отдельно»*. Межличностная и экзистенциальная изоляция представляют собой этапы друг для друга. Человек должен отъединить себя от другого, чтобы пережить изоляцию, человек должен быть сам по себе, чтобы испытать одиночество. Однако именно встреча с одиночеством в конечном счете делает возможной для человека глубокую и осмысленную включенность в другого.
* По‑английски a part of и apart from – Прим. переводчика.
ИЗОЛЯЦИЯ И ОТНОШЕНИЯ
Переживание экзистенциальной изоляции порождает в высшей степени дискомфортное субъективное состояние и, как любую форму дисфории, индивид не может длительное время его выносить Бессознательные защитные механизмы проделывают свою «работу», проворно выводя его из сферы сознательного опыта Эти защиты должны работать без передышки, потому что изоляция внутри нас постоянно ожидает момента, чтобы стать осознанной. Как выразился Мартин Бубер, «волны эфира рокочут постоянно, но большую часть времени наши приемники выключены».
Как человек ограждает себя от ужаса конечной изоляции. Он может взять на себя частичную ношу изоляции и мужественно или, используя термин Хайдеггера, «непоколебимо» нести ее. Что касается остальной части, человек пытается отказаться от своей обособленности и войти в отношения с другим – таким же человеком либо божественной сущностью. Главная защита от ужаса экзистенциальной изоляции, таким образом, связана с отношениями, и потому мое обсуждение клинических проявлении экзистенциальной изоляции будет сконцентрировано на межличностных отношениях. Однако, в отличие от традиционного обсуждения, принятого в межличностной психологии, я не стану фокусировать внимание на таких потребностях, как безопасность, привязанность, самооценка, удовлетворение вожделения или власть, а обращусь к рассмотрению отношений с точки зрения смягчения фундаментальной и универсальной изоляции.
Никакие отношения не могут уничтожить изоляцию Каждый из нас одинок в существовании Однако одиночество можно разделить с другим таким образом, что любовь компенсирует боль изоляции. «Великие отношения, – говорит Бубер, пробивают брешь в барьерах возвышенного уединения, смягчают его суровый закон и перебрасывают мост от одного самостоятельного существа к другому самостоятельному существу через пропасть страха вселенной».
Я считаю, что если мы сможем признать ситуацию своей изолированности в жизни и стойко встретить ее, мы сумеем с любовью обратиться к другим. Если же, напротив, нас захлестнет ужас перед бездной одиночества, мы не станем близки с другими, а вместо этого будем бить по ним лишь ради того, чтобы не утонуть в море существования. В этом случае наши отношения вообще не будут истинными отношениями, но лишь расстройствами, неудачами, искажениями того, что могло бы быть. Мы не сможем относиться к другим, полностью воспринимая их как самих себя, как чувствующие существа, тоже одинокие, тоже испуганные, тоже созидающие мир домашности из теста вещей. Мы станем вести себя по отношению к другим существам как к инструментам, средствам. Другой, уже не «другой», а «оно», помещается нами там, внутри нашего собственного мира, чтобы выполнять функцию. Эта функция прежде всего, конечно, является отрицанием изоляции, но ее осознание слишком близко привело бы нас к нашему тайному ужасу. Требуется прятать все больше, возникают метафункции, и мы строим отношения, которые обеспечивают продукт (например, власть, слияние, величие или восхищение), а он в свою очередь служит отрицанию изоляции.
В этой защитной психической организации нет ничего нового: каждая объяснительная система поведения основана на некоем ядерном конфликте, замаскированном слоями защитных и скрывающих динамик. Неудавшиеся «отношения» со своими продуктами, функциями и метафункциями составляют то, что клиницисты называют «межличностной психопатологией». Я намерен описать клиническую картину многих форм патологических отношений и обсудить экзистенциальную динамику каждой из них. Но чтобы полностью понять, чем не являются отношения, необходимо сначала постичь, чем они в наилучшем случае могут быть.
Любовь, свободная от того, чтобы нуждаться в другом
Лучший вариант – наличие отношений без нужды друг в друге. Но как можно любить другого ради другого, а не за то, что другой дает любимому? Как мы можем любить, не используя, без quid pro quo,* без груза слепого увлечения, вожделения, восхищения или служения себе? Многие мудрые мыслители задавались этим вопросом, и я начну с обзора их высказываний.
* Одно вместо другого (лат.).
Мартин Бубер. «В начале – отношение». Так утверждал Мартин Бубер, философ и теолог, чей патриархальный вид, довершенный пронзительным взглядом и густой белой бородой, увеличивал силу его философских заявлений. Бубер оказал необыкновенное воздействие как на религиозную философию, так и на психиатрическую теорию. Его позиция необычна, поскольку она основывается, с одной стороны, на еврейской мистической школе и хасидизме, а с другой – на современной релятивистской теории. «В начале – отношение» уходит корнями в эти традиции. Бубер был частью мистической традиции, согласно которой каждый индивид – частица Завета; в каждом заключена божественная искра, а вместе они раскрывают священное присутствие. Следовательно, всех индивидов объединяет то, что каждый имеет космическую, духовную связь с мирозданием.
Бубер считал, что стремление к отношениям «врожденно», дано изначально, и полагал, «что в материнской утробе любой человек знает вселенную (то есть находится в отношениях с ней) и забывает ее при рождении». У ребенка есть «побуждение» к контакту – изначально тактильному, а затем «оптимальному» контакту с другим существом". Ребенок не знает никакого "я", он не знает никакого иного состояния бытия, кроме отношений.
Бубер утверждал, что «человек» не существует как отдельная сущность. «Человек сотворен между». Есть два основных типа отношений и, следовательно, два типа взаимосвязи, которые Бубер назвал «Я‑Ты» и «Я‑Оно». Отношения «Я‑Оно» – это отношения между человеком и средствами, «функциональные» отношения, отношения между субъектом и объектом, где полностью отсутствует взаимность.
Отношения «Я‑Ты» – это целиком взаимные отношения, включающие в себя полное переживание другого. Они отличаются от эмпатии (рассмотрения в воображении ситуации с точки зрения другого), потому что это больше чем "Я", пытающееся отнестись к «другому». «Не существует 'Я' как такового, а есть лишь фундаментальное Я‑Ты».
«Отношения это взаимность». Не только «Ты» отношений Я‑Ты отлично от «Оно» в отношениях Я‑Оно, и не только сама природа отношений Я‑Ты и Я‑Оно разительно отличается – есть еще более глубокое различие. Само "Я" в этих двух ситуациях различно. Это не "Я", занимающее исключительное положение в реальности, которое может решать, устанавливать ли отношения со многими «Оно» или «Ты», объектами, присутствующими в поле зрения человека. Нет, "Я" – это «междувость»; "Я", которое возникает и формируется в контексте каких‑то отношений. Следовательно, на "Я" глубоко влияют отношения с «Ты». С каждым «Ты» и в каждое мгновение отношений "Я" создается заново. При отношении к «Оно» (будь это предмет или личность, превращенная в предмет) человек удерживает от контакта какую‑то часть себя: изучает «Оно» со многих возможных точек зрения; категоризирует, анализирует, судит и выносит решение о положении «Оно» в обширной схеме предметов. Но когда человек соотносится с «Ты», в это вовлечено все его существо, ничего невозможно изъять.
«Базисное слово 'Я‑Ты' может произнести только все существо человека. Концентрация и слияние в целостное существо не могут быть осуществлены мной, не могут быть осуществлены без меня. 'Я' нуждаюсь в 'Ты' для становления; становясь Я, я говорю 'Ты'…»
Если человек соотносится с другим менее, чем всем своим существом, если он что‑то удерживает – например, соотносясь через жадность или предвкушение чего‑то взамен, – если остается на объективной позиции, наблюдателем, и думает о впечатлении, которое его действия произведут на другого, тогда он превращает встречу Я‑Ты во встречу Я‑Оно.
Чтобы быть по‑настоящему близкими с другим, мы должны по‑настоящему слушать другого: отбросить стереотипы и ожидания, связанные с другим, и позволить сформировать себя ответом другого. Проведенное Бубером различие между «подлинным» и «псевдо» слушанием, несомненно, имеет важный смысл для терапевтических отношений.
Чтобы быть в отношениях с другим, не нуждаясь в нем, человек должен потерять или превзойти себя. Моя любимая иллюстрация отношений Я‑Ты – описание Бубером себя и своего коня, относящееся к времени его детства.
«Когда мне было одиннадцать лет, я проводил лето в поместье бабушки и деда. Настолько часто, насколько я мог делать это незаметно, я прокрадывался в конюшню и ласково гладил по шее моего любимого ширококостного серого в яблоках коня. Это было не случайное удовольствие, а великое, конечно, дружеское и вместе с тем глубоко волнующее действие. Чтобы объяснить его сейчас, начиная с воспоминания, свежесть которого все еще хранит моя рука, я должен сказать, что соприкасаясь с животным, я ощущал именно Другого, огромную непохожесть Другого, которая, однако, не оставалась чужой, как непохожесть быка или барана, но позволяла мне приблизиться и коснуться ее. Когда я гладил мощную гриву, иногда чудесно мягкую и расчесанную, в другое время удивительно неухоженную, под своей рукой я чувствовал жизнь, как будто стихия самой жизненной энергии граничила с моей кожей – что‑то, что не было мною, конечно, не было похоже на меня, ощутимо другое, не просто иное, действительно Другое само по себе; и тем не менее оно позволяло мне подойти, доверялось мне, стихийно ставило себя со мной в отношения Ты и Ты. Конь, даже когда я не начинал с того, чтобы сыпать для него овес в ясли, очень мягко поднимал свою массивную голову, слегка прядал ушами, потом тихонько ржал, как заговорщик подает сигнал, надеясь, что его узнает только участник заговора; я был одобрен. Но один раз – не знаю, что нашло на ребенка, во всяком случае это было вполне детское переживание, – меня поразила мысль, как мне весело гладить, и внезапно я стал сознавать свою руку. Игра продолжалась, как прежде, но что‑то изменилось, это уже не было тем же самым. И на следующий день, когда я, задав обильный корм, погладил голову моего друга, он не поднял головы».
Основной способ переживания Я‑Ты – это «диалог», немой или произнесенный, в котором «каждый из участников имеет в виду другого или других в их особом бытии и обращается к ним с намерением установить живые взаимоотношения между собою и ими». Диалог – это нечто иное, как поворот к другому всем своим существом. Когда юный Бубер отвернулся от коня, стал осознавать свою руку и то, какое большое удовольствие доставляло ему поглаживание, диалог исчез, воцарился «монолог» и «Я‑Оно». Бубер назвал этот поворот от другого «рефлексией». В рефлексии человек не просто «озабочен собой», но, что важнее, забывает об особом существовании другого.
Виктор Франкл выражает сходную мысль, сожалея о современной «вульгаризации» идеи встречи. Франкл доказывает, и я полагаю, вполне корректно, что, как нередко происходит в так называемой группе встреч, «встреча» – на самом деле никакая не встреча, а исключительно самовыражение, поклонение разряду аффекта, обоснование которого коренится в психологической «монадологии», изображающей человека как камеру без окон, существо, неспособное превзойти себя, не могущее «повернуться к другому». Вследствие этого акцент слишком часто делается на выбросе человеческой агрессии, на избиении подушки или боксерской груши, на самооценке, на использовании других для решения старых проблем, на самоактуализации. Вместо поворота к другому происходят, как сказал бы Бубер, «монологи, замаскированные под диалог».
Бубер ожидал очень многого в отношениях Я‑Ты. Например, однажды его посетил незнакомый молодой человек, который якобы пришел поговорить. Позже Бубер узнал, что у незнакомца была скрытая цель. что он был «приведен судьбой» накануне критически важного личного решения. Хотя Бубер обошелся с ним дружелюбно и внимательно, он ругал себя за то, что «был тогда не в духе» и «не сумел догадаться о вопросах, которые человек не задал». Но всегда ли возможно обратиться к другому с такой глубиной? По‑видимому, нет, и Бубер подчеркивал, что хотя отношения Я‑Ты и представляют образец, к которому человеку следует стремиться, осуществляются они лишь в редкие мгновения. Человеку приходится жить главным образом в мире Я‑Оно; живя исключительно в «Ты»‑мире, мы сгорели бы в белом пламени «Ты».
«[Оно‑мир – это] мир, в котором человек должен жить и при этом может жить комфортно…Моменты „Ты“ возникают как странные лирико‑драматические эпизоды. Их обаяние может соблазнять, но они втягивают нас в опасные крайности…Человек не может жить в чистом настоящем [то есть в Я‑Ты], это поглотило бы его… и со всей серьезностью правды слушай [то есть будь в Я‑Ты], потому что вне этого человек не может жить. Но кто живет только в этом, тот не человек».
Эта мольба о равновесии вызывает в памяти известный афоризм Рабби Хиллела: «Если я не за себя, кто будет за меня? А если я только за себя, кто я?»
Я так широко процитировал Бубера потому, что его формула отношений любви без нужды друг в друге емкая и выразительная. И я не могу расстаться с ним, не прокомментировав явного несоответствия между фундаментальным местом, которое я отвожу экзистенциальной изоляции, и утверждением Бубера, что человек не существует как "Я", а является «порождением междувости». Поскольку Бубер придерживался точки зрения, что основной модус человеческого существования обусловлен отношениями, в своей системе он не признал бы экзистенциальной изоляции. Он возражал бы против моего утверждения, что изоляция является фундаментальным аспектом нашей экзистенциальной ситуации, еще более энергично он возражал бы против того, что я в этой дискуссии использую его работу.
Тем не менее позвольте мне обратиться к важному сновидению, с которого Бубер начал свою работу «Между человеком и человеком» – повторяющемуся сновидению, посещавшему его всю жизнь, иногда с интервалами в несколько лет. Сновидение, которое Бубер назвал «сон о двойном крике», начинается с того, что он оказывается один «в огромной пещере, или в строении из грязи, или на опушке гигантского леса, и я не могу припомнить, чтобы когда‑либо видел что‑то подобное». Затем происходит нечто необычное, например, животное рвет плоть его руки, а потом:
«Я кричу…Каждый раз это один и тот же крик, нечленораздельный, но подчиненный строгому ритму, поднимающийся и падающий, разбухающий до такой полноты, какой мое горло не могло бы вынести, если бы я бодрствовал, долгий и протяжный, весьма протяжный и очень долгий, крик‑песня. Когда он заканчивается, мое сердце перестает биться. Но затем где‑то вдалеке другой крик оплакивает меня, другой и одновременно тот же самый, тот же самый крик, изданный или спетый другим голосом».
Ответный крик – решающее событие для Бубера:
«Когда ответ заканчивается, ко мне во сне приходит подлинная уверенность, что теперь это произошло. Больше ничего. Только это и именно так – теперь это произошло. Если пытаться как‑то объяснить – это значит, что происходящее, которое дало возможность возникнуть моему крику, произошло реально и несомненно только теперь, с воссоединением».
Согласно Буберу, основной модус человеческого существования обусловлен отношениями, и в его сне, о котором он рассказывает как о видении, открывающем истину, существование начинается с возникновения отношений ответного крика. Однако запись сновидения вполне можно интерпретировать иначе. Человек вначале – не в отношениях, а один в наводящем ужас месте. Человек подвергается нападению, и он испуган. Он кричит и в предчувствии ответа его сердце перестает биться. Сновидение говорит мне о глубокой изоляции и наводит на мысль, что наше существование начинается с одинокого крика в тревожном ожидании ответа.
Абрахам Маслоу. Абрахам Маслоу, умерший в 1970 г., оказал огромное влияние на современную психологическую теорию. Его больше, чем кого‑либо другого, следует считать прародителем гуманистической психологии – области, которая, как я говорил в начальной главе, во многом пересекается с экзистенциальной психологией. С моей точки зрения, Маслоу предстоит быть множество раз открытым вновь, прежде чем богатство его мысли будет усвоено во всей полноте.
Одно из фундаментальных положений Маслоу состоит в том, что основная мотивация индивида сориентирована либо на «восполнение дефицита», либо на «рост». Он считал, что психоневроз – это дефицитарная болезнь, порожденная недостатком удовлетворения, начиная с ранней стадии жизни, определенных базовых психологических «потребностей», таких как безопасность, принадлежность чему‑либо, отождествление, любовь, уважение, престиж. Индивиды, у которых эти потребности удовлетворены, ориентированы на рост, они способны реализовать свой врожденный потенциал зрелости и самоактуализации. Индивидуумы, ориентированные на рост, в отличие от ориентированных на восполнение дефицита, намного более самодостаточны и менее зависимы от подкрепления и вознаграждения своей среды. Иными словами, детерминанты, которые управляют ими, не социальные и не средовые, а внутренние:
«Законы нашей собственной внутренней природы, их потенциальные возможности и способности, таланты, скрытые ресурсы, творческие импульсы, потребности познавать себя и становиться все более и более интегрированными и унифицированными, более и более сознающими, чем они на самом деле являются, чего они на самом деле хотят, какими должны быть их призвание, или миссия, или судьба».
Для индивидов, ориентированных на рост и ориентированных на восполнение дефицита, характерны разные типы межличностных отношений. Человек, ориентированный на рост, менее зависим, менее обязан другим, меньше нуждается в похвале и привязанности других, меньше озабочен почестями, престижем и наградами. Он не ищет постоянного удовлетворения потребностей в межличностных отношениях и, более того, временами может ощущать помеху для себя в лице других и предпочитать уединение. Вследствие этого индивид, ориентированный на рост, не относится к другим как к источнику снабжения, а способен рассматривать их как сложные, уникальные, целостные существа. С другой стороны, человек, ориентированный на восполнение дефицита, воспринимает других с точки зрения полезности. На те аспекты другого, которые не связаны с его собственными нуждами, он либо вообще не обращает внимания, либо относится к ним как к раздражителю или угрозе. Таким образом, как говорил Маслоу, любовь трансформируется в нечто иное и напоминает наши отношения «с коровами, лошадьми и овцами, а также с официантами, таксистами, полицейскими и другими, кого мы используем».
В соответствии с этим Маслоу описал два типа любви, согласующиеся с этими двумя типами мотивации «восполнением дефицита» и «ростом». «Д‑любовь» (дефицитарная любовь) – это «эгоистическая любовь» или «любовь – нужда». «Б‑любовь» (любовь к бытию другого человека) – это «ненуждающаяся любовь» или «неэгоистическая любовь». Согласно Маслоу, Б‑любовь – не собственническая, она скорее восхищается, чем нуждается; она представляется собой более богатый, более «высокий», более ценный субъективный опыт, чем Д‑любовь. Д‑любовь может быть удовлетворена, в то время как понятие «удовлетворения» вряд ли приложимо к Б‑любви. Б‑любовь содержит в себе минимум тревоги‑враждебности (хотя, конечно, может заставлять тревожиться за другого). Б‑любящие более независимы друг от друга, более автономны, менее ревнивы, чувствуют меньшую угрозу, меньше нуждаются, более бескорыстны, но в то же время больше стремятся помочь другому в самоактуализации, больше гордятся победами другого, более альтруистичны, великодушны и заботливы. Б‑любовь, в глубинном смысле, создает партнера: она обеспечивает самоприятие и чувство, что ты достоин любви, способствующее постоянному росту.
Эрих Фромм. В своей прекрасной книге «Искусство любви» Эрих Фромм поставил тот же вопрос, над которым бились Бубер и Маслоу: какова природа ненуждающейся любви? Воистину, поразительным и ободряющим является то, что эти три оригинальных мыслителя, происходящие из разных областей (теология‑философия, экспериментальная и социальная психология), пришли к сходным выводам.
Фромм исходит из того. что самое глубокое беспокойство человека связано с экзистенциальной изоляцией, что «источником любой тревоги» является сознание отъединенности и ее преодоление веками было нашей основной психологической задачей. Фромм рассматривает несколько известных в истории попыток ее решения: творческая деятельность (единство художника с материалом и произведением), оргиастические состояния (религиозное, сексуальное, наркотическое) и следование обычаям и верованиям группы. Все эти попытки оказались недостаточными.
«Единение в продуктивной (творческой) работе не является межличностным; единение, достигнутое в оргиастическом слиянии, преходяще; единение, достигнутое конформностью – всего лишь псевдоединение. Следовательно, на проблему существования есть только частичные ответы. Полный ответ заключается в достижении межличностного единения, слияния с другим человеком, в любви».
Неясно, что имел в виду Фромм под «полным ответом», но я полагаю, что это «наиболее удовлетворительный» ответ. Любовь не отменяет нашу отъединенность – это данность существования, которую можно принимать без страха, но невозможно устранить. Любовь – это лучший способ справляться с болью отъединенности. Бубер, Маслоу и, как мы увидим, Фромм пришли к близким формулировкам ненуждающейся любви, исходя из разных представлений о месте любви в индивидуальной жизни. Бубер полагал, что состояние любви естественное состояние существования человека, а изоляция является сниженным состоянием. Маслоу рассматривал любовь как одну из врожденных потребностей человека и одновременно его потенциальных возможностей. Для Фромма любовь – это способ совладания, «ответ на проблему существования», и этот взгляд близок к моей точке зрения, выражаемой в данной книге.
Не все формы любви одинаково хорошо отвечают на муку отъединенности. Фромм отличал «симбиотическое слияние» сниженную форму любви – от «зрелой» любви. Симбиотическая любовь, включающая в себя активную (садизм) и пассивную (мазохизм) формы, это состояние слияния, в котором ни одна сторона не является целостной и свободной (я рассмотрю это среди форм дезадаптивной любви в следующем разделе). Зрелая любовь – это «союз при условии сохранения целостности, индивидуальности человека…В любви осуществляется парадокс, когда двое становятся одним и все же остаются двумя».
Фромм прослеживает индивидуальное развитие любви с раннего детства, когда человек ощущает, что его любят за то, что он есть, или, может быть, точнее, потому что он есть. Позже, между восемью и десятью годами, в жизнь ребенка входит новый фактор: осознание того, что человек создает любовь своим собственным действием. Когда индивид преодолевает эгоцентризм, потребности другого становятся такими же значимыми, как собственные, и постепенно концепция любви трансформируется из «быть любимым» в «любить». Фромм приравнивает «быть любимым» к состоянию зависимости, когда, оставаясь маленьким, беспомощным, или «хорошим», человек вознаграждается тем, что его любят, в то время как «любить» – это эффективное, сильное состояние.
«Инфантильная любовь следует принципу: 'я люблю, потому что любим'. Зрелая любовь придерживается принципа 'я любим, потому что люблю'. Незрелая любовь говорит: 'Я люблю тебя, потому что нуждаюсь в тебе'. Зрелая любовь уверяет: 'Я нуждаюсь в тебе. потому что люблю тебя'».
Утверждение Фромма о том, что любовь – активный, а не пассивный процесс, чрезвычайно важно для клиницистов. Пациенты жалуются на одиночество, на то, что их не любят и они не привлекательны, но продуктивная терапевтическая работа всегда должна совершаться в противоположной сфере их неспособности любить. Любовь – положительное действие, а не пассивный аффект, это отдача, а не получение, «участие», а не «увлечение». Необходимо провести различие между «отдачей» и «опустошением». Индивид с ориентацией на накопление, получение или эксплуатацию,* отдавая, будет чувствовать себя в результате опустошенным, обнищавшим, человек торгующего типа ощутит себя обманутым. Но для зрелой «продуктивной» личности отдача – это выражение силы и изобилия. В акте отдачи человек выражает и усиливает себя как живое существо. «Когда человек отдает, он привносит нечто в жизнь другого человека, и то, что привнесено, возвращается к нему; при истинной отдаче он не может не получить того, что отдается ему. Отдача делает другого человека также дающим, и они оба разделяют радость того, что привнесено ими в жизнь». Заметьте, как это близко к Буберу: «Отношения – это взаимность. Мое Ты действует на меня так же, как я действую на него. Наши ученики учат нас, наша работа формирует нас…Непостижимо вовлеченные, мы живем в потоках универсальной взаимности».
* Фромм описывает, исходя из межличностных отношений, пять типов структуры характера: получающий, эксплуатирующий, накапливающий, торгующий и продуктивный. Представители первых четырех («непродуктивных») типов верят в то, что «источник блага» находится вне их, и они, чтобы получить благо, должны приложить усилия, принимая, беря, сохраняя и обменивая соответственно. К продуктивному типу относятся мотивированные изнутри, ориентированные на рост, актуализированные личности.
Помимо отдачи, зрелая любовь подразумевает другие базисные элементы: заботу, отзывчивость, уважение и знание". Любить означает активно заботиться о жизни и росте другого. Человек должен откликаться на нужды (физические и психические) другого. Человек должен уважать уникальность другого, видеть его таким, какой он есть, и помогать ему расти и раскрываться его собственными способами – должен помогать ради него самого, а не ради того, чтобы он ему служил. Но невозможно уважать другого в полной мере, не зная его глубоко. Подлинное знание другого, считает Фромм, возможно только тогда, когда человек поднимется над эгоцентрической озабоченностью и увидит другого с точки зрения другого. Необходимо слушать и эмпатически сопереживать (хотя Фромм не употребляет слово «эмпатия»), то есть нужно войти в личный мир другого и познакомиться с этим миром, жить в жизни другого и ощущать его смыслы и переживания. И снова отметим, как сходятся Фромм и Бубер: сравните любовь Фромма с буберовскими «диалогом» и «подлинным, непредвзятым слушанием».
Для клинициста важно думать о любви скорее как о «позиции» (о чем‑то, характеризующем ориентацию любящего в мире), чем с точки зрения отношения любящего к «объекту» любви. Мы слишком часто совершаем ошибку, рассматривая исключительную привязанность к одному человеку как доказательство силы и чистоты любви. Но такая любовь является, с точки зрения Фромма, «симбиотической любовью», или «раздутым эгоизмом» и в отсутствие заботы со стороны других ей неизбежно суждено рухнуть под собственной тяжестью. В отличие от нее, ненуждающаяся любовь – это способ отношения индивида к миру.
Весьма успешный сорокалетний служащий обратился ко мне в связи с тем, что влюбился в женщину и мучился, решая, оставить ли ему жену и детей. В ходе терапии он всего через несколько сессий стал нетерпеливым и очень критиковал меня за общую неэффективность и мою неспособность предложить ему систематизированный, хорошо спланированный порядок действий. Вскоре его критика привела нас к его чрезвычайно осуждающему отношению к людям вообще. Далее в процессе терапии мы занимались не поиском решения, которое ему нужно было принять, а отсутствием у него любви к миру в целом. Терапия оказалась полезной для него, когда сосредоточилась на неожиданном, как обычно и происходит в эффективной терапии.
Фромм считал наиболее фундаментальным типом любви братскую любовь – переживание единства со всеми людьми, единства, для которого характерно полное отсутствие исключительности. Библия подчеркивает, что объектом любви должен быть слабый, бедный, вдова, сирота, странник. Они не служат никакой цели, и любить их значит любить не нуждаясь, «по‑братски».
Я начал этот раздел вопросом, как возможно иметь отношения с другим, не нуждаясь в нем? Теперь, в свете похожих выводов Бубера, Маслоу и Фромма, я опишу характерные черты зрелых, свободных от нужды отношений, а затем использую этот прототип, чтобы по контрасту осветить природу различных «невыношенных» отношений.
Заботиться о другом означает относиться бескорыстно – отрешиться от сознательного внимания к себе; быть в отношениях с другим без контроля мысли: «Что он думает обо мне?» или «Что в этом для меня?» Не искать похвалы, восхищения, сексуальной разрядки, власти, денег. В текущий момент быть только в отношениях с другим человеком: не должно быть третьей стороны, реальной или воображаемой, наблюдающей за встречей. Иными словами, жить в отношениях всем своим существом: если частично мы находимся где‑то – например, исследуя воздействие, которое отношения окажут на какое‑то третье лицо, – то именно до этой степени мы потерпели неудачу в отношениях.
Заботиться о другом значит со всей возможной полнотой знать другого и сопереживать ему. Если человек бескорыстен в отношениях, он обладает свободой, позволяющей воспринимать все аспекты другого, а не только тот аспект, который служит какой‑то утилитарной цели. Человек расширяет себя до другого, признавая другого чувствующим существом, которое также строит мир вокруг себя.
Заботиться о другом значит заботиться о сущности и росте другого. При полном знании, собранном из подлинного слушания, человек прилагает усилия, чтобы помочь другому стать полностью живым в момент встречи.
Забота активна. Зрелая любовь любит, а не любима. Мы любяще отдаем, а не «влекомы» к другому.
Забота – это способ человека быть в мире; это отнюдь не исключительная, непостижимая магическая связь с одним определенным лицом.
Зрелая забота вытекает из богатства человека, а не из его бедности – из роста, а не из потребности. Человек любит не потому, что нуждается в другом, не для того, чтобы существовать, быть целостным, спастись от подавляющего одиночества. Тот, кто любит зрело, удовлетворяет эти потребности в другое время, другими способами, одним из которых была материнская любовь, изливавшаяся на человека в ранних фазах его жизни. Следовательно, прошлая любовь – источник силы, нынешняя любовь – результат силы.
Забота взаимна. Поскольку человек по‑настоящему «поворачивается к другому», он меняется. Поскольку человек приводит другого к жизни, он также становится в более полной мере живым.
Зрелая забота не остается без награды. Человек изменен, человек обогащен, человек осуществлен, экзистенциальное одиночество человека смягчено. Через заботу человек получает заботу. Но награда вытекает из подлинной заботы, она не подстрекает заботу. Позаимствуем удачную игру слов у Фромма – награда следует, но ее нельзя преследовать.
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ПСИХОПАТОЛОГИЯ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Если нам не удалось развить внутреннюю силу, чувство личной ценности и непоколебимое ощущение своей самобытности, позволяющие встретить экзистенциальную изоляцию, сказать «так тому и быть» и принять в себя тревогу, то мы будем пытаться обходными путями найти безопасность. В этом разделе я исследую пути поиска безопасности и их клинические проявления. По большей части они связаны с отношениями – то есть включают в себя межличностные отношения, но, как мы увидим, в каждом случае индивид не близок с другим (то есть не «заботится» о нем), а использует другого функционально. Испытываемый ужас, прямое осознание экзистенциальной изоляции и тщательно выстраиваемая нами для смягчения тревоги защитная структура психики – все это не осознается. Мы знаем только, что не можем быть одни, отчаянно хотим от других того, что получить от них невозможно, и как мы ни стараемся, в наших отношениях что‑то всегда не так.
Существует иное решение, лежащее в направлении жертвования своей самостью – поиск избавления от тревоги изоляции через погружение в какого‑то другого индивида, дело или занятие. В результате индивид, как говорил Кьеркегор, оказывается вдвойне в отчаянии: исходно в глубоком экзистенциальном отчаянии, а затем еще дальше в отчаянии, поскольку, пожертвовав самоосознанием, он даже не знает, что он в отчаянии.
Существование в восприятии других
«Когда я один, самое худшее заключается в том, что в этот момент никто в мире не думает обо мне и эта мысль доканывает меня». Так заявил на сеансе групповой терапии пациент, госпитализированный из‑за атак паники, испытываемых им в одиночестве. Другие пациенты в этой больничной группе мгновенно согласились с его переживанием. Одна девятнадцатилетняя пациентка, госпитализированная из‑за того. что располосовала себе запястья после разрыва романтических отношений, выразилась просто: «Лучше умереть, чем быть одной!» Другая сказала: «Именно когда я одна, я слышу голоса. Может быть, мои голоса – это способ не быть одной!» (достойное внимания феноменологическое объяснение галлюцинации). Еще одна пациентка, которая несколько раз наносила себе увечья, заявила, что делала это, приходя в отчаяние от весьма неудовлетворяющих отношении с мужчиной. Однако она не могла оставить его из‑за страха быть одной. На мой вопрос, что пугает ее в одиночестве, она ответила совершенным прямым психотическим инсайтом: «Я не существую, когда я одна».
Та же динамика лежит в основе беспрестанных просьб ребенка «Смотри!», «Смотри на меня!» – присутствие другого требуется, чтобы сделать реальность реальной. (Здесь, как и везде, я ссылаюсь на переживание ребенка как на предварительную манифестацию, а не на причину основополагающего конфликта.) Льюис Кэролл в «Алисе в Зазеркалье» прекрасно выразил твердое мнение, которого придерживаются многие пациенты: «Я существую, только пока обо мне думают». Алиса, Траляля и Труляля подходят к спящему Черному Королю:
"– Ему снится сон! – сказал Траляля. – И как, по‑твоему, кто ему снится?
– Не знаю, ответила Алиса. – Этого никто сказать не может.
– Ему снишься ты! – закричал Траляля и радостно захлопал в ладоши. – Если б он не видел тебя во сне, где бы, интересно, ты была?
– Там, где я и есть, конечно, – сказала Алиса.
– А вот и ошибаешься, – возразил с презрением Траляля. – Тебя бы тогда вообще нигде не было! Ты просто снишься ему во сне.
– Если этот вот Король вдруг проснется, – подтвердил Труляля, – ты сразу же – фьють! – потухнешь, как свеча!
– Ну, нет, – вознегодовала Алиса. – И вовсе не потухну! К тому же если я только сон, то кто же тогда вы, хотела бы я знать?
– То же самое, – сказал Труляля.
– Самое, самое, – подтвердил Траляля.
Он так громко прокричал эти слова, что Алиса испугалась.
– Ш‑ш‑ш. – прошептала она. – Не кричите, а то вы его разбудите!
– Тебе‑то что об этом думать? – сказал Труляля. – Все равно ты ему только снишься. Ты ведь не настоящая!
– Нет, настоящая! крикнула Алиса и залилась слезами.
– Слезами делу не поможешь, – заметил Траляля. – О чем тут плакать?
– Если бы я была не настоящая, я бы не плакала, – сказала Алиса, улыбаясь сквозь слезы: все это было так глупо.
– Надеюсь, ты не думаешь, что это настоящие слезы? – спросил Труляля с презрением". (Перевод Н.М.Демуровой)
Одна пациентка терапевтической группы рассказала, что когда‑то в течение нескольких месяцев проходила терапию и спустя годы случайно встретила своего терапевта. Она ощутила «опустошение» из‑за того, что терапевту понадобилось сорок пять секунд, чтобы вспомнить, кто она такая. Рассказав об этом, она обернулась к терапевту группы и спросила: «Вы всегда будете помнить меня? Я не перенесу, если не будете». Она была преподавателем высшей школы и постепенно сумела принять жестокий факт, что с терапевтами происходит то же, что с ней: она забудет своих студентов намного раньше, чем они забудут ее. Терапевт и учитель значат для пациента и ученика больше, чем они для своих наставников. (Тем не менее это не отменяет того факта, что, как будет обсуждаться ниже, когда терапевт находится с пациентом, то это полное глубокое присутствие.) Позже на той же встрече пациентка рассказала, что начинает понимать, почему суицид для нее всегда был притягательной возможностью. Она верила, что если совершит суицид, другие будут помнить ее очень‑очень долго. Это прекрасный пример «суицида как магического акта», о котором шла речь в главе 2. В ее восприятии суицида нет идеи смерти, напротив, для нее это способ победить смерть – что естественно для того, кто верит, что может продолжать жить, если существует в сознании другого.
Поиск любви невротическим индивидом – это его бегство от смутно признаваемого чувства изоляции и пустоты в центре бытия. Выбранный и ценимый, человек чувствует себя утвержденным в своем бытии. Чистое ощущение бытия, «Я ЕСТЬ», чувство собственного бытия как истока вещей слишком пугает, погружая в изоляцию, поэтому человек отрицает самотворение и предпочитает верить, что существует, пока является объектом сознания другого. Это решение обречено на провал по нескольким параметрам. Отношения обычно рушатся потому, что другой через какое‑то время устает подтверждать существование индивида. Кроме того, другой чувствует, что он – не тот, кого любят, а тот, в ком нуждаются. Другой никогда не ощущает, что его целиком знают и целиком принимают, потому что он включен в отношения лишь частично – постольку, поскольку служит функции подтверждения существования партнера. Это решение проваливается потому, что оно является только суррогатом: если индивид не может подтвердить себя, он постоянно нуждается в подтверждении другим. Он постоянно уходит в сторону от признания своей фундаментальной изоляции. Это решение проваливается еще и потому, что связано с неверным определением проблемы: индивид полагает, что его не любят, тогда как в действительности проблема заключается в том, что он неспособен любить. Как мы видели, любить труднее, чем быть любимым, и это требует большего осознания и принятия своей экзистенциальной ситуации.
Индивид, которому нужно подтверждение других, чтобы чувствовать себя живым, должен избегать пребывания в одиночестве. Подлинное уединение слишком близко подводит к тревоге экзистенциальной изоляции, и невротический индивид избегает его любой ценой; пространство изоляции заполняется другими людьми, время изоляции уничтожается («убивается») занятостью. (Одиночное заключение всегда было особенно жестоким наказанием.) Другие сражаются с изоляцией, убегая из настоящего, из уединенного момента: они утешают себя блаженными воспоминаниями о прошлом (хотя в то время их переживания были далеко не блаженными) или проецируют себя в будущее, наслаждаясь воображаемой добычей от еще не реализованных планов.
Недавний всплеск интереса к медитации отчасти обусловлен ее новизной и ощущением контроля. Для индивида в западном мире редкость просто быть с самим собой и переживать время, а не убивать его. Нас научили делать несколько вещей одновременно – курить, жевать, слушать, вести машину, смотреть телевизор, читать. Мы ценим машины, экономящие время, и прилагаем эти ценностные критерии для машин к себе. Но что мы можем сделать со временем, которое сэкономили, кроме как найти другие способы убить его?
Когда главным мотивом вовлечения в отношения с другими является защита от одиночества, другие играют роль средства. Нередко два индивида выполняют первичные функции друг для друга и замечательно совмещаются, примерно как штепсель и розетка. Такие отношения могут быть настолько взаимно функциональными, что это обеспечивает их стабильность, однако подобное устройство отношений не может дать ничего, кроме задержки роста, так как оба партнера знают друг друга лишь частично. Такие отношения напоминают карточный домик, где составляющие стены поддерживают друг друга: уберите одного партнера (или укрепите его психотерапией) – и второй падает.
Однако обычно такого взаимного удовлетворения потребностей не бывает. На каком‑то уровне человек понимает, что его скорее используют, чем находятся в отношениях с ним, и ищет удовлетворяющего партнера где‑нибудь еще. Мою тридцатипятилетнюю пациентку, преследуемую страхом одиночества, одолевало видение, как она «ест одна в шестьдесят три года». Она была поглощена поиском постоянной связи. Хотя она была привлекательной, жизнерадостной женщиной, мужчины один за другим через короткое время после начала встреч прерывали с ней отношения. Я полагаю, их отпугивали как ее напряженная и отчаянная любовь‑нужда, так и осознание того факта, что эта женщина может дать мало любви. Важный ключ к пониманию ее динамик был найден в других ее межличностных отношениях. Очень критичная, она быстро и высокомерно давала отставку тем, кто не были потенциальными партнерами. В терапии пациента, страдающего трудностями установления длительных отношений, терапевту всегда важно глубоко исследовать «текстуру» других, менее напряженных отношений пациента. Проблемы любви не являются специфически ситуативными. Любовь – это не особенная встреча с другим, а позиция. Проблема «нелюбимости» довольно часто оборачивается проблемой собственной нелюбви.
Весьма яркий пример отношений с другим ради бегства от переживания изоляции, встретился при лечении Чарльза, пациента, больного раком, включенного в психотерапевтическую группу (см. главу 5). Чарльз начал терапию, потому что хотел улучшить свои отношения с людьми. Он всегда был отстранен и обособлен и чувствовал себя комфортно в такой дистанцированной форме отношений с другими. Рак и прогноз, что жить ему осталось два года, привели к тому, что он почувствовал огромную изоляцию, и катализировали его усилия сблизиться с другими. Наглядный случай, который я опишу, произошел после того, как один из членов группы, Дэйв, сообщил, что, подчиняясь требованиям переподготовки у него на работе, ему придется покинуть город – и группу – на несколько месяцев. Дэйва, как и всех членов группы, кроме Чарльза, очень расстроила эта перемена. Участники группы поделились чувствами грусти, гнева и разочарования. Цитирую из резюме (резюме отсылались членам группы по почте после каждой встречи).
«Наконец слово перешло к Чарльзу, после того как я отметил, что он отвечает Дэйву в стиле решения проблемы, и интересно, каковы его чувства. Это инициировало поистине примечательный эпизод групповой работы. В течение довольно продолжительного времени Чарльз отрицал, что у него есть какие‑либо чувства по поводу того, что Дэйв покидает группу. Мы безуспешно пытались „выдоить“ из него чувства и спрашивали, хотел бы он, чтобы люди скучали о нем, если бы он уезжал. Это тоже ни к чему не привело. Я напомнил ему, что у него болело в груди, когда люди уходили из группы, и он обесценил это, сказав, что такое было только однажды. Я продолжал прессинг и заявил, что одного раза достаточно, но он улыбался, смеялся и отталкивал нас. Спустя какое‑то время после этого Чарльз рассказал группе, почти мимоходом, что после медицинского осмотра узнал, что течение его рака намного лучше, чем можно было ожидать. Затем мы узнали, что на самом деле осмотр проходил в день того самого эпизода. Дэйв спросил его: „Почему вы не сказали нам раньше?“ Чарльз оправдался тем, что хотел подождать, пока придет Лина (Лина пришла несколько минут спустя). Я сказал ему, что не понимаю, почему он не мог сообщить нам, а потом снова повторить Лине, когда она придет. Тут Чарльз сказал действительно замечательную вещь. Теперь, когда он думает, что его рак отступает, он вдруг обнаружил, что больше не хочет встречаться с людьми и отстраняется».
Слияние
Наш «универсальный конфликт» связан с тем, что мы стремимся быть индивидуальностью, но индивидуальное существование требует от нас признания пугающей изоляции. Самый обычный способ совладания с этим конфликтом – через отрицание: мы детально разрабатываем иллюзию слияния и в результате провозглашаем: «Я не один, я часть других». Так мы размываем границы своего Эго и становимся частью другого индивида или группы, которая является чем‑то большим, чем мы.
Индивидов, преимущественно ориентированных на слияние, обычно принято называть «зависимыми». Они живут, по формулировке Ариети, ради «доминантного другого» (и обычно чрезвычайно страдают в случае сепарации от доминантного другого). Они хоронят собственные потребности; пытаются узнать желания других и сделать эти желания своими собственными. Превыше всего они стремятся ничего не нарушить. Индивидуации они предпочитают безопасность и слитность. Кайзер дает особенно ясное описание таких индивидов:
«Их поведение словно сообщает: 'Не принимайте меня всерьез. Я не принадлежу к категории взрослых, и на меня нельзя рассчитывать, как на взрослого'. Они игривы, но не как тот, кто любит играть, а как тот, кто не хочет (или не смеет?) казаться серьезным и настоящим. Об огорчительных и даже трагических событиях говорится со смехом или торопливо и беспечно, как будто они не стоят того, чтобы тратить на них время. Есть также готовность говорить о собственных недостатках со склонностью к преувеличению. Достижения и успехи выставляются в смешном свете или за рассказом о них следует компенсаторное перечисление неудач. Речь этих людей часто может выглядеть рубленой из‑за быстрого перескакивания с одной темы на другую. Позволяя себе необычную свободу выпаливать наивные вопросы или прибегать к детской манере говорить, они показывают, что хотят быть отнесенными к категории „не‑взрослых“, и их не следует числить среди взрослых людей».
Кайзер описывает клиническое поведение пациента, особенно склонного к слиянию с более сильной фигурой:
"В течение восьми месяцев G. работал с пациентом в возрасте под сорок, который казался готовым выполнять все, что, по его разумению, от него требовалось. Когда бы G. ни захотел перенести встречу на другой день или другой час, ответ пациента неизменно был: «Конечно, доктор, конечно!» Он всегда приходил вовремя, но никогда не выглядел недовольным, если G. задерживался. Когда во время сессии выглядывало солнце и начинало светить пациенту в глаза, он не смел задернуть портьеру или опустить жалюзи. Он сидел молча, болезненно моргая или дергая шеей, пока G. не делал замечания по этому поводу. Тогда пациент реагировал, как если бы G. попросил его опустить жалюзи: "Конечно, доктор, конечно! – говорил он, вскакивая с кресла и снимая шнур с крючка. Так, доктор? Или это слишком много? "
Слияние как ответ на экзистенциальную изоляцию предоставляет схему, с помощью которой можно понять многие клинические синдромы. Рассмотрим, например, трансвестизм. Принято считать, что мужчина с трансвестизмом мотивирован кастрационной тревогой. В роли мужчины, в конкуренции за женщин с другими мужчинами содержится такая угроза, что мужчина отказывается от участия в конкуренции, одеваясь как женщина, – и тогда его кастрационная тревога, ослабленная самопричиненной кастрацией, может получить генитальную половую разрядку. Однако случай Роба, о котором я рассказывал в главе 4, может послужить примером «слияния» как центральной организующей динамики. Роб переодевался в женщину с тех пор, как в тринадцать лет впервые воспользовался одеждой своей сестры, а потом одеждой матери. Слишком боящийся мужчин, чтобы развивать отношения с ними, и слишком боящийся отвержения, чтобы приблизиться к женщинам, Роб всегда был необычайно изолированным. Его фантазии, когда он переодевался, всегда были несексуальными и каждый раз вариациями темы слияния: он просто представлял себе, как подходит к группе женщин, которые принимают его в свою компанию и считают его одной из них. Межличностный стиль Роба в терапевтической группе отражал его желание слитности – покорный, подобострастный, он молил о внимании членов группы, а в особенности терапевта, которого превозносил. В процессе групповой терапии Роб приобщился к культуре, открывшей ему глаза на возможности отношений. Он стал полностью осознавать – полагаю, в первый раз – степень своей изоляции. «Я не здесь и не там, не мужчина и не женщина, изолирован от всех», сказал он на одном сеансе. Некоторое время его тревога (и склонность к переодеванию) заметно возрастала. Постепенно, по мере того как он развивал социальные навыки и впервые осмысленным образом устанавливал отношения с членами группы, а затем с индивидами в своей жизненной среде, всякое желание трансвестиции оставило его.
Несомненно, концепция ухода от экзистенциальной изоляции через слияние и концепция избегания страха смерти через веру и растворение в конечном спасителе имеют много общего. Не только случай Роба, но и многие клинические примерь! защиты, основанной на вере в конечного спасителя, изложенные в главе 4, также отражают слияние. Обе концепции описывают пути избегания тревоги через уход от индивидуации, согласно обеим человек ищет источник успокоения вне своего "я". Их отличают друг от друга исходный стимул (тревога изоляции или тревога смерти) и конечная цель (стремление к размыванию границы Эго и достижению слитности или поиск сильного заступника). Различие, конечно, академическое: обычно мотивации и защитные стратегии сосуществуют в одном и том же индивидууме.
Слияние устраняет изоляцию радикальным образом устраняя самоосознание. Блаженные моменты слияния нерефлективны: ощущение "я" теряется. Индивид не может даже сказать: "Я потерял свое ощущение "я", потому что в слиянии нет сепаратного "я", которое могло бы это сказать. В романтической любви прекрасно то, что одинокое "я", о котором идет речь, растворяется в «мы». Как выразился Кент Бах: «Любовь – это ответ, когда нет вопроса». Утрата самосознания часто сопровождается успокоением. Кьеркегор говорил: «При любом повышении степени сознания и пропорционально этому повышению нарастает сила отчаяния: чем больше сознания, тем больше сила отчаяния».
Освободиться от сопряженного с переживанием изоляции ощущения собственного "я" можно также через слияние не с другим индивидуумом, а с «вещью» – группой, делом, страной, проектом. В слиянии с большой группой есть что‑то очень притягательное. Кайзер впервые понял это во время ледового шоу, когда двое исполнителей, одинаково одетых, исполняли сложный номер на коньках совершенно в унисон. После аплодисментов они небрежно и равнодушно поправили галстуки и одновременно посмотрели на часы. Их синхронизация после аплодисментов еще сильнее взволновала зрителей, среди которых был Кайзер, который размышлял потом о радости размывания границ Эго:
"Единообразие движения и синхронизация движения, если они доведены почти до совершенства, привлекают, волнуют и зачаровывают зрителей, вне зависимости от того, нравятся или нет сами по себе движения, выполненные одним индивидом.
Один вымуштрованный солдат, демонстрирующий шаг, темп, повороты и остановки, может радовать глаз обучающего его офицера, в глазах постороннего наблюдателя он выглядит смешным. Если целый батальон движется по парадному плацу в ногу, разбивая большую колонну на меньшие группы, делая поворот точно в один и тот же момент, снова поворачиваясь, образуя одну длинную линию и сохраняя неразрывным фронт, маршируя и поворачивая, а затем по короткому сигналу застывает на месте, так что все руки и ноги, все каски, фляги и винтовки замирают в одном и том же положении и ни один штык по направлению не отклоняется от других, даже ревностный противник милитаризма не может удержаться и не быть захваченным этим спектаклем. И конечно, захватывает его не красота, не правильные углы, не прямые линии, но картина…или скорее идея многих, действующих так, как будто их воодушевил один разум".
Быть подобным любому другому – не отличаться в одежде, речи, обычаях, не иметь иных мыслей или чувств, чем у остальных, – это состояние спасает человека от изоляции, которую влечет самость. Конечно, "я" утрачено, но утрачен и страх одиночества. Враги конформности – разумеется, свобода и самоосознание. Решение проблемы изоляции путем конформизма‑слияния подрывается вопросами: чего я хочу? что я чувствую? какова моя цель в жизни? что во мне нужно выразить и осуществить?
В вековой борьбе между самовыражением и безопасностью в слиянии компромисс, направленный на избегание изоляции, обычно достигается за счет "я". Притягательная сила группы воистину велика. Один из бесчисленного множества примеров трагедия в Джорджтауне, демонстрирующая силу группы. Отождествление с группой дало ее членам защиту от страха изолированного существования – вещь настолько ценную, что они пожелали пожертвовать ради нее всем: своими земными благами, своими семьями, друзьями, родиной и наконец своими жизнями.
Мистицизм, включающий в себя возвышенные, чудесные моменты единения со вселенной, также служит примером утраты Эго. Слияние с другим индивидом, с группой или делом, с природой или со вселенной, всегда включает в себя потерю "я": это договор с дьяволом, выливающийся в экзистенциальную вину – те самые вину и горе, которые оплакивают непрожитую жизнь в каждом из нас.
Садизм. Индивид, ищущий слияния, зависимый, подобострастный, приносящий себя в жертву, готовый терпеть боль, более того, получающий удовольствие от боли, потому что она разрушает уединение, – короче говоря, в обмен на безопасность слияния становящийся чем угодно, чего желает другой, – имеет любопытного двойника. Человек, стремящийся доминировать над другим, унижать другого, причинять боль, делать себя абсолютным хозяином другого, – это как будто бы совсем иное существо, чем зависимый искатель слияния. Однако, как отмечает Фромм, "обе тенденции – результат одной базовой потребности, возникающей из неспособности выносить изоляцию и слабость собственного "я"…Садистическая личность нуждается в своем объекте точно так же, как мазохистическая нуждается в своем". Разница между мазохистом и садистом – это разница между фитилем и воском. Один ищет безопасности в поглощении другим, другой – поглощая кого‑то. В обоих случаях экзистенциальная изоляция смягчается – либо через утрату отъединенности и лишение изоляции, либо через расширение себя путем включения других. Вот почему мазохизм и садизм внутри индивида часто чередуются – они являются разными решениями одной и той же проблемы.
Секс и изоляция
Фрейд ввел в представление о психической организации концепцию «символа». В главе 5 «Толкования сновидений» он описывает различные символы, олицетворяющие сексуальную тему – половые органы или половой акт. Фрейд предупреждает, что идея о «замещении» одного предмета другим может завести слишком далеко: сигара не всегда символ пениса; «Иногда сигара – это просто сигара». Но это предупреждение Фрейд распространяет недостаточно широко. Порой секс бывает символом чего‑то другого. Если глубочайшие конечные факторы человека экзистенциальны по природе и связаны со смертью, свободой, изоляцией и бессмысленностью, то вполне возможно, что обусловленные ими страхи могут смещаться и символизироваться производными проблемами: например такими, как проблемы сексуальности.
Секс может способствовать вытеснению тревоги смерти. У меня было несколько случаев работы с пациентами, больными метастатическим раком, которые, казалось, были поглощены сексуальными интересами. Я встречал супружеские пары, один из членов которых был болен раком в последней стадии, при этом они мало о чем говорили кроме своей половой несовместимости. Временами в пылу дискуссии, взаимных обвинений и контрдоводов я полностью забывал, что одному из этих индивидов предстоит скорая смерть. Таков успех защитного маневра. В главе 5 я описал женщину с далеко зашедшим раком шейки матки, которая обнаружила, что ее болезнь не только не отпугнула поклонников, но, напротив, похоже, увеличила их число и сексуальные аппетиты. Эллен Гринспэн (Ellen Greenspan) описала исследование, демонстрирующее, что у женщин, страдающих обширным раком груди, по сравнению со здоровой контрольной группой соответствующего возраста чаще встречались запретные сексуальные фантазии.
В притягательности секса есть какая‑то чудесная магия. Это мощный бастион против осознания и тревоги свободы, так как мы, находясь под действием очарования секса, никак не ощущаем, что конституируем собственный мир. Напротив, мы «захвачены» мощной внешней силой. Мы одержимы, очарованы, «увлечены». Мы можем сопротивляться искушению, отдаться ему или тянуть время, но у нас нет чувства, что мы «выбрали» или «сотворили» собственную сексуальность: она ощущается вне нас, обладает самостоятельной властью и кажется мощней, чем на самом деле. Сексуально компульсивные пациенты, когда их состояние в терапии улучшается, начинают говорить о том, что их жизнь стала унылой. Мир становится будничным, заставляя их задаваться вопросом: «И это все?»
Компульсивная сексуальность также является распространенным ответом на чувство изоляции. Беспорядочное «спаривание» предлагает одинокому индивиду сильную, но временную передышку. Она временна потому, что это не близость, а лишь карикатура на отношения. В компульсивном сексе отсутствуют все признаки подлинной заботы. Индивид использует другого как средство. Он или она использует только часть другого и вступает в отношения только с ней. Такого рода взаимодействие означает, что человек формирует отношения – и чем быстрее, тем лучше ради секса, а вовсе не наоборот, когда половой контакт является проявлением глубоких отношений и способствует им. Сексуально компульсивный индивид – великолепный пример человека, не находящегося в отношениях со всем существом другого. Напротив, он имеет отношения только с той частью, которая служит для удовлетворения его потребности. Наш язык позволяет хорошо отражать эту идею, например, когда мы говорим о «попках», «сoсках» или «жеребцах». Сильный язык секса («завалить», «поиметь», «трахнуть», «снять», «крутить любовь» и т.п.) обозначает обман, агрессию, манипулирование – что угодно, кроме заботы и близости.
Самое главное – сексуально компульсивные индивиды не знают своих партнеров. Собственно говоря, незнание другого и утаивание большей части себя они нередко используют как преимущество, поэтому показывают и видят только то, что способствует обольщению и половому акту. Один из отличительных признаков полового отклонения состоит в том, что индивид вступает в отношения не с другим человеком в целом, а с какой‑то частью другого. Например, фетишист имеет отношения не с женщиной (все опубликованные случаи фетишизма – мужские), а с какой‑то частью или каким‑то аксессуаром женщины, например, туфлей, носовым платком, нижним бельем. В одном обзоре, посвященном человеческим отношениям, говорится: «Если мы занимаемся любовью с женщиной, не устанавливая связи с ее духом, мы фетишисты, даже если в физическом акте используем надлежащие отверстия тела».
Следует ли, в силу вышесказанного, вдумчивому терапевту смотреть критически на всякий половой контакт, не являющийся подлинной, полной заботы межличностной встречей? Значит ли это, что не существует места для секса как для акта ни к чему не обязывающей игры взрослых людей? Эти вопросы в значительной степени этические и нравственные, и терапевт поступает правильно, избегая делать заявления по вопросам, находящимся за пределами его компетенции. Но терапевт все же имеет сказать нечто ценное в случаях индивидов, половые отношения которых всегда частичны и функциональны. Важный пункт в определении сексуальной девиантности – то, что поведение фиксированно и исключительно, то есть девиант может вступать в половые отношения только фиксированным девиантным образом. Ригидное, эксклюзивное половое поведение не только является показателем более глубокой патологии, такое поведение не может не вызвать чувство презрения к себе и экзистенциальную вину. Кьеркегор дал захватывающую картину такой ситуации в «Дневнике соблазнителя», где главный герой посвящает все свое я совращению юной девушки. Он успешно добивается своей цели, но дорого платит за причиненный вред: его жизнь становится пустой, его дух подорван.
Таким образом, сексуально компульсивный индивид и не знает другого, и не близок с ним. Он никогда не заботится о росте другого. Он не только никогда не держит другого полностью в поле зрения, но и никогда не теряет видения себя в отношениях. Он не существует «между», а всегда наблюдает за собой. Бубер назвал такую ориентацию термином «рефлексия» и оплакивал половые отношения, где партнеры не включены в полноценный, подлинный диалог, а живут в мире монолога, мире зеркал и отражений. Буберовское описание «эротического человека» отличается особой наглядностью:
«Много лет провел я на земле людей и еще не исчерпал в своем исследовании все варианты „эротического человека“. Влюбленный неистовствует, любя только свою страсть. Кто‑то носится со своими дифференцированными чувствами, как с орденскими колодками. Где‑то человек наслаждается сюжетами собственного завораживающего действия на других. Другой восхищенно взирает на действо своей предполагаемой капитуляции. Еще кто‑то коллекционирует острые ощущения. Тот гордится заемной жизненной энергией. Этот доволен тем, что существует одновременно как он сам и как идол, совсем на него не похожий. Там человек греется в блеске своего жизненного жребия. Кто‑то экспериментирует. И так далее, и так далее – все многочисленные монологисты со своими зеркалами в комнате самого сокровенного диалога!»
Итак, человек влюблен в страсть, человек коллекционирует острые ощущения и трофеи, человек согревается «в блеске своего жребия» – все что угодно, кроме подлинного отношения к себе или к другому.
Многие эти темы проиллюстрированы в сновидениях Брюса, сексуально компульсивного пациента, которого я описал в главах 5 и 6. В конце терапии, когда Брюс отходил от сексуально мотивируемой модели отношений, его внимание обратилось к вопросам: «Если я не пытаюсь переспать с женщиной, что мне с ней делать?» «А что мне делать с мужчинами?» Финальный вопрос «А вообще для чего люди?» в той или иной форме возникает в терапии всех пациентов, начинающих менять свой способ отношений с Я‑Оно на Я‑Ты. Эту стадию в терапии Брюса возвестили три сна.
Первый:
«Я лежал в постели с моим четырнадцатилетним сыном. Мы были полностью одеты, однако я пытался заняться с ним сексом, но не мог найти его вагину. Я проснулся печальным и разочарованным».
Этот сон наглядно изображает дилемму Брюса, связанную с отношениями. Сон как будто говорит: «Есть ли иной способ, кроме генитального, которым можно соотноситься с кем‑либо, даже с тем, к кому ты очень неравнодушен?»
Второй:
«Я играл с женщиной в теннис, но каждый посланный мною мяч возвращался ко мне, а не летел к ней. Нас как будто разделяла невидимая стеклянная преграда, а не сетка».
Образ ясен. Брюс, вероятно, занимался с кем‑то теннисом, но в действительности был занят лишь самим собой. Другой человек был лишним в игре; более того, он не мог войти в контакт с ней, хотя пытался.
Третий:
«Я хотел сблизиться с Полом [знакомый], но все время хвастался тем, как много у меня денег, и он рассердился. Потом я попытался прижаться щекой к его щеке, но наши бороды оказались такими жесткими, что мы причинили друг другу боль».
У Брюса были товарищи по занятиям – приятели, с которыми он играл в баскетбол, теннис и шары, – но никогда не было близкого друга‑мужчины. Он смутно сознавал свою тоску по близости, но, как показывает сон, не мог найти способа относиться к мужчине иначе, чем как к сопернику.
Другие формы неудавшихся отношений
Мы пытаемся избежать боли экзистенциальной изоляции множеством способов: размываем границы Эго и пытаемся слиться с другим; пытаемся присоединить другого; берем у другого то, что заставляет нас чувствовать себя больше, сильнее или любимее. Обычная межличностная тема в этих и многих других усилиях, о которых я буду сейчас говорить, тема непребывания с другим. Вместо этого индивид использует другого как средство выполнения функции, и взаимно обогащающие отношения не развиваются, вместо них возникает некая форма мезальянса, неудавшиеся отношения, которые только тормозят рост и вызывают экзистенциальную вину. Так как огромное разнообразие неподлинных форм отношений не укладывается ни в какую исчерпывающую классификационную схему, я опишу несколько часто встречающихся моделей, наблюдавшихся в клинической практике.
Другой как подъемник. Барри был тридцатипятилетним инженером с «синдромом инженера»: он был жестким, холодным и изолированным. Он не проявлял никаких эмоций и обычно осознавал эмоцию только после того, как обращал внимание на психологический сигнал (ком в горле, слезы, сжатый кулак и т.п.). Его главной целью в терапии было «войти в контакт» со своими чувствами и суметь установить любовные отношения с другим. У него, физически привлекательного мужчины, было мало проблем с тем, чтобы привлечь внимание женщин, но он был неспособен развивать отношения. Либо женщина была для него нежеланной и он давал ей отставку, либо он находил ее желанной, но слишком хотел добиться ее.
В конце концов, после многих трудных месяцев терапии Барри начал встречаться, а потом жить вместе с Джамелией, молодой женщиной, которую он считал очень привлекательной. Однако немедленно стало очевидным, что он вкладывает в отношения мало себя. На терапии он обсуждал свою новую проблему, связанную с тем, что он очень рано ложится спать. Значит ли это, спрашивал он (и этот тип изоляции от чувств весьма характерен), что ему уже скучно с Джамелией, или это означает, что он чувствует себя с ней настолько комфортно, что позволяет себе расслабиться с ней? «Как вы можете это узнать? – спросил я. – Что происходит, когда вы спрашиваете себя, любите ли вы Джамелию?» Барри, с необычной для него убежденностью, ответил, что Джамелия ему очень дорога.
Однако он решил, что ему лучше сдерживаться, чтобы у нее не возникало чрезмерных надежд. Он объяснил, что эти отношения не разовьются в длительные, потому что Джамелия не вполне соответствует тому, чего он ищет в женщине. Главная причина заключалась в том, что ее социальные навыки были недостаточно развиты: она говорила не очень внятно, была слишком сдержанной и социально интровертной. Он знал, что сам плохо говорит, и очень хотел жениться на женщине с большей вербальной ловкостью: поскольку он хорошо обучался через подражание, он надеялся усовершенствоваться в результате общения с такой женщиной. Он также ожидал, что женщина обеспечит ему более широкую социальную жизнь. Кроме того, он беспокоился, что если они будут проводить слишком много времени вдвоем и слишком полюбят друг друга, он отдаст ей всю свою заботу и ему будет нечего дать другим.
Заявления Барри иллюстрируют многие самые общие проблемы, которые препятствуют развитию подлинных любовных отношений. Самая базовая проблема – это то, что raison d'etre* в модели отношений Барри было обслуживание функции. Барри исходил из своей крайней нужды и искал кого‑нибудь, кто бы удовлетворял эту нужду. Его потребностью был «подъем», и он искал «партнера», который бьет бы подъемником: учителем, терапевтом и поставщиком социальной жизни.
* Raison d'etre (франц.) – дословно: смысл жизни.
Барри часто с отчаянием говорил о своих бесплодных поисках отношений. Я ощущал: то, что он использует слово «поиск», дает ключ к пониманию его проблемы. В конце концов, человек не находит отношения, человек формирует отношения. Барри обращался с Джамелией скорее механическим, чем органичным образом. Он не только смотрел на нее как на «оно», на объект, на средство для достижения определенного результата, он воспринимал отношения как статичные и неизменные – нечто, что почти полностью было сформировано «там» с самого начала, – а не как развивающийся процесс.
Еще один пациент озвучил ту же тему, когда сказал, что чем ближе он подходит к другому человеку, тем менее привлекательным – физически и эмоционально – становится этот человек. Когда он физически приближался к женщине, он мог видеть бледные пятна на ее коже, расширенные вены, мешки под глазами. Когда он лучше узнавал ее, он начинал все больше скучать, по мере того как у нее иссякал запас анекдотов и сведений. При таком механическом подходе к отношениям человек рассматривает другого как объект, обладающий фиксированными качествами и неистощимыми ресурсами. Он не принимает во внимание того, о чем нам напоминает Бубер: в подлинно органичных отношениях существует взаимность, это не неизменность, которую я наблюдаю (и измеряю) в другом; "Я" во встрече изменяется, и другой – «Ты» – изменяется тоже. Барри относился к любви как к ограниченному ресурсу: чем больше он предлагал одному человеку, тем меньше у него оставалось бы для других. Но, как учил Фромм, этот рыночный подход в любви лишен смысла: отношения с другими всегда делают человека богаче, а не беднее.
Барри неизменно испытывал сильную тревогу при перспективе приблизиться к женщине, которая, как он чувствовал, соответствует его стандартам. Часто он часами раздумывал о правильном подходе. Когда он начинал звонить женщине – рука на телефоне, номер набран до половины, – его охватывала тревога, и он вешал трубку. Другие терапевты безуспешно пытались облегчить тревогу Барри бихевиоральными методами. Когда мы интерпретировали проблему так, как это казалось очевидным – то есть что Барри боится соперничества других мужчин и отвержения со стороны явно привлекательных женщин, – в терапии не происходило никакого прогресса; но мы значительно продвигались вперед, когда обращались к исследованию тех путей, которыми Барри использовал или стремился использовать другого. В глубине души Барри знал, что он, по сути, не находится в отношениях со своей партнершей, а попирает ее; ему не нужна она, а нужно что‑то от нее. Его тревога была в действительности чувством вины: он предвосхищал свое поведение, направленное против другого, и боялся, что другой обнаружит его мотивы.
Сколько людей в комнате? В зрелых, заинтересованных отношениях человек всем своим существом связан с другим. В той мере, в какой он удерживает вне отношений часть себя, чтобы наблюдать за отношениями или за воздействием, которое он оказывает на другого, отношения терпят неудачу. Бубер описывает ситуацию, которая развивается, когда два индивида пытаются вступить в отношения между собой, полностью сохраняя самоосознание.
«Теперь давайте представим себе, как сидят и разговаривают двое людей, в жизни которых доминирует внешнее Назовем их Питер и Пол. Давайте перечислим различные включенные в эту ситуацию фигуры. Во‑первых, это Питер, каким он хочет показаться Полу, и Пол, каким он хочет показаться Питеру. Затем это Питер, каким он действительно кажется Полу, то есть представление Пола о Питере, которое обычно ни в малейшей степени не совпадает с тем, что Питеру хотелось бы, чтобы увидел Пол, и точно такая же обратная ситуация. Далее, есть Питер, каким он кажется самому себе, и Пол, каким он кажется самому себе Наконец есть Питер во плоти и Пол во плоти. Два живых существа и шесть призрачных видений, которые по‑разному перемешиваются при разговоре этих двоих. Где место для какой‑нибудь подлинной межчеловеческой жизни?»
Неудачными бывают отношения, когда человек частично – с другим, а частично еще с кем‑то вымышленным(и). Оценивая природу моих отношений с пациентом, я считаю полезным спросить себя: «Сколько людей в комнате?» Может быть, я, например, думаю не только о пациенте, но и о том, насколько умным я покажусь, когда буду представлять пациента на конференции, или об интересном «клиническом материале», который я могу использовать, чтобы более эффективно общаться с моими читателями. Те же вопросы я ставлю перед моим пациентом. Пациент действительно имеет дело со мной или с какими‑то призрачными персонажами из прошлого?
Когда пациент описывает мне важные для него отношения, я спрашиваю: «Сколько человек в каждом из этих отношений? Только двое? Или трое? Или целая аудитория, полная народу?»
Камю в своих романах был мастером изображать героев, которые не могут любить, но симулируют любовь с какой‑то скрытой целью. В его первом романе «Счастливая смерть» (не опубликованном при жизни) герой Камю говорит:
«Он видел: то, что привязывает его к Марте – это тщеславие, а не любовь. Он любил в Марте именно те вечера, когда они ходили в кино и взгляды мужчин обращались на нее, тот момент, когда он предлагал ее миру. Он любил в ней именно свою власть и свою жизненную амбицию».
«Тот момент, когда он предлагал ее миру». Это точно схвачено. В отношениях никогда не было двое людей. Он был не с Мартой, а с другими через Марту.
Подобным образом у моего пациента Кена, глубинные проблемы которого препятствовали ему вступать в подлинные отношения с женщинами, ни разу не было сновидения, в котором участвовали бы только двое, хотя сны он видел очень часто. Вот показательный сон о «слежении», относящийся к середине нашей работы:
«Я был с женщиной в моей старой спальне в Сан‑Франциско в половине третьего утра. Мой брат и отец наблюдали за нами через окно. Меня не слишком интересовала женщина и занятия любовью. Я заставил моих отца и брата ждать в течение часа и в половине четвертого впустил их».
Важные ассоциации со сновидением включали в себя попытки распознать участвовавшую в нем женщину. Он признавал, что она его совершенно не интересовала. Она напоминала юную предводительницу группы болельщиц, которую он видел в тот день на футболе, – девушку такого типа, к которым у него никогда не хватало духу приблизиться, когда он учился в колледже. Она также напоминала ему другую девушку, Кристину, с которой он встречался в старших классах. Несколько месяцев он и его друг встречались с одной и той же девушкой – ситуация, которую он находил и дискомфортной, и возбуждающей. В конце концов они с другом объединили усилия в том, чтобы заставить Кристину выбрать одного из них в качестве своего постоянного парня. К большому удовольствию Кена, Кристина выбрала его. Однако его энтузиазм померк всего за несколько недель: Кен потерял интерес к Кристине (он никогда не интересовался ею в первую очередь, ему была важна ее функция в его соперничестве с другом) и прекратил их отношения.
Кен всегда считал своих отца и брата соперниками сначала по отношению к матери, потом – к другим женщинам. Во сне его пребывание с женщиной и то, что он заставил отца и брата завистливо ожидать на улице в течение часа (до 3:30, между прочим, это был обычный час нашей терапии), было способом взять над ними верх через женщину. Кен не мог быть и "с" мужчинами. Он относился ко мне, к брату и к отцу, ко всем друзьям‑мужчинам, очень конкурентно; например, он был настолько убежден, что я хочу подчинить его, что месяцами скрывал любой важный материал, который, как он чувствовал, дал бы мне «преимущество» над ним. Те друзья‑мужчины, которые у него имелись, были талантливы, но не вызывали ощущения соперничества, так как их таланты лежали в абсолютно другой области (музыка, искусство, спорт).
В ночь после анализа этого сновидения Кен видел несколько коротких снов, каждый из которых освещал какой‑либо необходимый аспект работы над отношениями. В первом сне он шел к лыжной сторожке и встретил нескольких друзей‑мужчин, которые тепло приветствовали его; потом он оказался сидящим рядом с ними в комнате, где он ждал своего выпускного экзамена по недвижимости (Кен был риэлтером). После долгого ожидания экзамены были сданы, и тут же инструктор (его терапевт) объявил, что экзамен аннулирован: они пришли не туда и не в тот день. Этот сон подчеркнул слияние у Кена дружбы и соперничества; дальнейшая работа в терапии повлекла за собой их разъединение.
Во втором фрагменте сновидения Кен увидел себя в огромном реактивном лайнере (как у многих сновидцев, у него символом терапии во сне часто было путешествие на каком‑либо транспортном средстве). Он бродил по проходу самолета и с изумлением обнаружил несколько спрятанных отсеков, каждый из которых был полон людей. Он видел их впервые, но каким‑то образом знал, что эти люди все время находились там. Очевидно, этот сон олицетворяет еще одну решающую задачу терапии: обнаружение других в мире.
Его последний сон в ту ночь был только фрагментом, просто образом большой птицы тукана. У Кена не возникло никаких ассоциаций с этой птицей, но моя ассоциация с туканом была «двое могут»* – репрезентация работы над отношениями двоих, предстоящей Кену.
* В английском языке эти два слова – toucan и two can – звучат одинаково. – Прим. переводчика.
Этот «нечестный» путь отношений с другими настолько распространен, что примерами изобилуют и повседневная жизнь, и повседневная терапия. Например, женщина умышленно ведет нового друга в компанию, где, как она уверена, ее прежний друг не будет в восторге от встречи с новым. Другой пациент, Карл, был со своей новой девушкой, когда ему с гневом и претензиями позвонила прежняя. Он насмешливо держал трубку в отдалении от уха, показывая на нее новой девушке, чтобы та тоже могла послушать. Каждые отношения индивида, как в зеркале, отражают другие; я уверен, что редко кто способен быть нечестным в отношениях с людьми, и в то же время оставаться подлинным и по‑настоящему участливым в отношениях с немногими избранными. Новую подругу Карла глубоко обеспокоило его обращение с бывшей подругой. Она заподозрила (и была права), что эпизод с телефоном – зловещее предвестие ее будущих отношений с ним.
Пребывание с другим, когда на самом деле имеется в виду кто‑то еще, особенно ярко проявляется в ситуации групповой терапии – способе терапии, идеально подходящем, чтобы обнаруживать и прорабатывать нечестность в межличностных отношениях. Наглядный пример тому в течение нескольких недель можно было наблюдать в одной из моих терапевтических групп. Рон, сорокалетний женатый пациент, систематически контактировал вне группы с каждым из ее членов, хотя и он, и все остальные понимали, что такая социальная активность часто препятствует терапии. Кого‑то из членов группы Рон приглашал поплавать под парусом, других покататься на лыжах, еще кого‑то пообедать, а еще в одну, Ирен, пылко влюбился. Общение помимо группы обычно является деструктивным в групповой терапии только тогда, когда оно окружено заговором молчания. В этой группе терапия застопорилась, потому что Рон отказывался обсуждать свои контакты помимо группы, особенно контакты с Ирен, он не видел в них ничего «неправильного» и упорно отказывался исследовать смысл своего поведения.
На одной из сессий группа обсуждала его предложение, сделанное моему ко‑терапевту (женщине), покататься на лыжах в выходные. На Рона очень давили, чтобы исследовать его поведение, и он ушел в тот день смущенный и взволнованный. По дороге домой Рон внезапно вспомнил, что в детстве его любимой историей была история о Робине Гуде. По внезапному импульсу он отправился в детский отдел ближайшей библиотеки и перечитал историю. Только тогда истинное значение его поведения открылось ему. В легенде о Робине Гуде Рону нравилось спасение людей, особенно женщин, от тиранов. Этот мотив играл сильную роль в его жизни, начиная с эдиповой борьбы в его семье. Он основал успешный бизнес, сначала работая для кого‑то другого, а потом создав конкурирующую фирму и переманив работников своего бывшего хозяина на работу к себе. Подобная тема присутствовала и в отношениях Рона с женой, на которой он женился не столько по любви, сколько для того, чтобы спасти ее от деспотичного отца.
Этот поведенческий стереотип развернулся и в группе. Он был сильно мотивирован вырвать других членов группы и даже ко‑терапевта из моих рук. Другие участники постепенно стали испытывать сильную тревогу от того, что они играют роль пешек в борьбе Рона со мной. После того, как его превалирующая неподлинная модель отношений была выявлена и полностью понята, Рон задался вопросом: «Для чего еще нужны люди?»… Он провел несколько месяцев, работая над своими отношениями с каждым из членов группы, за исключением Ирен. Рон крепко держался за нее, и даже когда стало ясно, что в этой группе он максимально продвинулся и она ему больше ничего не может дать, он сопротивлялся выходу из нее, потому что, на бессознательном уровне, хотел оставаться, чтобы защищать Ирен от меня. В конце концов он ушел, а несколько месяцев спустя завершила терапию и Ирен. И тут, когда со сцены исчез тиран, любовь Рона быстро увяла, и он прервал отношения.
Полноценные заинтересованные отношения – это отношения с партнером, а не с каким‑то третьим персонажем из прошлого или настоящего. Перенос, паратаксические* искажения, скрытые мотивы и цели – все это должно быть устранено, для того чтобы подлинные отношения с другим стали возможны.
* «Паратаксис» – термин из грамматики, обозначающий последовательное расположение фраз или частей сложного предложения, которое показывает отношение между ними: в данном случае, видимо, имеются в виду искажения типа «после значит по причине». – Прим. переводчика.
9. ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ
Концепция экзистенциальной изоляции предоставляет несколько важных возможностей для психотерапевта. Она порождает референтную структуру, позволяющую дать объяснения многим сложным, ставящим в тупик феноменам объяснения, которые психотерапевты, пользуясь проясняющими и интерпретирующими комментариями, пытаются донести до своих пациентов. Концепция экзистенциальной изоляции также дает логическое обоснование важного терапевтического маневра – конфронтирования с изоляцией. Наконец, подход с точки зрения экзистенциальной изоляции в значительной мере проливает свет на такой чрезвычайно важный и сложный феномен, как отношения терапевт‑пациент.
ОРИЕНТИРВ ПОНИМАНИИ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Свой страх изоляции индивид обычно пытается ослабить с помощью межличностных контактов: он нуждается в присутствии других, чтобы утвердить свое существование; стремится быть поглощенным другими, представляющими собой в его глазах более могущественные фигуры, или уменьшить свое ощущение одинокой беспомощности, поглощая других; пытается возвысить себя через других; жаждет иметь множество половых связей – все это карикатура подлинных отношений. Короче говоря, индивид, захлестываемый изоляционной тревогой, отчаянно ищет помощи через отношения. Он протягивает руку другому не по желанию, а будучи вынужден, и последующие отношения основаны на выживании, а не на росте. Трагическая ирония заключается в том, что люди, испытывающие столь отчаянную потребность в комфорте и удовольствии подлинных отношений, как раз наименее способны развивать такие отношения.
Одна из первых задач терапевта состоит в том, чтобы помочь пациенту распознать и понять, что он или она делает с другими. Горизонтом, на фоне которого ясно видна межличностная патология пациента, может служить идеал свободных от нужды отношений. Например, вступает ли пациент в отношения исключительно с теми, кто может быть ему как‑то полезен? Связана ли его любовь скорее с получением, чем с отдачей? Пытается ли он, в самом полном смысле, узнать другого человека? Удерживает ли он себя частично вне отношений? По‑настоящему ли слышит другого человека? Использует ли другого для построения отношении с кем‑то еще – иными словами, сколько людей в комнате? Заботится ли о росте другого?
Обстановка групповой терапии в особенности позволяет проявиться этим искаженным стереотипам отношений, как иллюстрируется нижеследующим клиническим очерком.
Ева посещала терапевтическую группу шесть месяцев и постепенно создала для себя (как неизменно делают пациенты) ту же межличностную ситуацию в группе, в какой жила вне группы. Она была ничем не примечательной пассивной персоной, такую легко забыть. Никто не принимал ее всерьез, она сама явно не принимала себя всерьез и, казалось, ей доставляло удовольствие быть для группы чем‑то вроде фигурки на капоте автомобиля. На Рождество, когда группа была необычно мала, поскольку несколько ее членов уехали из города, Ева начала сессию с описания дискомфорта, который она испытывает в такой маленькой группе. По ее словам, она не была уверена, что сессия будет «сильной». В характерной отстраненной манере она продолжала обсуждать свои чувства по поводу маленькой группы. Наконец другая женщина сказала, что не в состоянии больше слушать Еву. Никто в группе не чувствовал, что Ева обращается к нему; Ева все время обращалась к пустому пространству, как будто в комнате никого больше не было. Члены группы затем сказали, что Ева не связана ни с кем в группе, что в действительности ее никто не знает, что она остается скрытой от глаз и вследствие этого никто из остальных не делает ее для себя значимой.
Я спросил Еву: могла бы она попытаться вступить в контакт с кем‑то из членов группы? Она послушно начала обходить группу, в бесцветной манере описывая свои чувства по отношению к каждому человеку. Я спросил: «Как бы вы оценили по десятибалльной шкале остроту своих комментариев по поводу каждого члена группы?» «Очень низко, – отважилась она, – между двумя и тремя». «Что произошло бы, – сказал я, – если бы вы продвинулись дальше на ступеньку или две?» Она ответила, что сказала бы группе, что она алкоголичка! Это и в самом деле было откровение – она раньше никому об этом не говорила. Затем я попытался помочь ей раскрыться еще больше, попросив рассказать о том, что она чувствовала, посещая группу так много месяцев и не будучи способной сказать об этом нам.* Ева отозвалась на это, рассказав, какой одинокой чувствует себя в группе, насколько она изолирована от каждого сидящего в комнате. Но она очень стыдилась своего пьянства. Она заявляла, что, поскольку пьет, она не может быть "с" другими или сделать себя «знаемой» для других.
* Общий принцип терапевтической техники заключается в том, что всегда предпочтительно подводить пациента к раскрытию большого секрета, помогая ему больше поделиться тем, что связано с самим процессом самораскрытия («горизонтальное» самораскрытие или «метараскрытие»), а не расспрашивая о дополнительных подробностях («вертикальное» самораскрытие) секрета. Таким образом пациент получает возможность сделать себя полностью «знаемым» для остальных в непосредственности момента.
Я перевернул формулировку Евы (здесь началась реальная терапевтическая работа): она не потому прячется, что пьет, а пьет потому, что прячется! Она пила потому, что была совсем не связана с миром. Затем Ева говорила о том, как чувствует себя потерянной и одинокой, приходя домой, и в этот момент делает одно из двух: либо погружается в мечты, воображая себя очень юной и окруженной заботой больших людей, либо облегчает алкоголем боль потерянности и одиночества. Постепенно Ева начала понимать, что вступает в отношения с другими ради определенной функции – быть защищенной и окруженной заботой и что при обслуживании этой функции она вступала в отношения лишь частично. Она воспринимала другого индивида лишь частично и предпочитала открывать только те части себя, которые, как она чувствовала, не оттолкнут защитника.
Получив ясное представление о том, каким видится другим ее поведение, Ева также смогла узнать, какие чувства вызывает ее поведение у других. (Это одна из действительно сильных сторон групповой терапии: хотя индивидуальный терапевт тоже может предоставить пациенту такие сведения, огромное разнообразие обратной связи от большой группы намного информативнее и сильнее.) Она поняла, что ее нужда не вызывает столь желанную заботу, совсем наоборот, ее нежелание вступать в контакт с другими всем своим существом приводит к тому, что другим нет до нее дела. Еве не удается получить то, что она хочет, потому что она слишком в этом нуждается.
Как иллюстрирует эта виньетка, понимание текущих отношений обладает значительным терапевтическим потенциалом; наиболее доступными для исследования и терапевтически чрезвычайно эффективными в аспектах, о которых речь пойдет дальше, являются отношения терапевт‑пациент. Однако всегда следует изучать и отношения пациента с другими. Отношения между пациентами в ходе лечения (терапевтическая группа, реабилитационное учреждение для бывших пациентов стационара, дневной стационар и т.п.) редко перерастают в длительную значимую дружбу вне терапии. Тем не менее, через такие отношения демонстрируется межличностная патология. Как я уже описывал, терапевт может использовать эту непосредственно получаемую информацию как ориентир для понимания специфических форм искажения отношений у своих пациентов и помочь им осознать природу их межличностного поведения, его воздействие на других и их ответственность за собственную изоляцию. Отношения в ходе терапии также представляют собой «генеральную репетицию» будущих отношений пациента в «реальном мире» – предприятие с низкой степенью риска, где они могут испытать новые способы отношений.
До сих пор я говорил об использовании отношений, возникающих в терапии. Но отношения в терапии – это не только сцена для демонстрации патологии или генеральная репетиция: это также реальные отношения с реальными людьми, которые сами по себе содержат нечто осмысленное и целительное. Некоторые пациенты, поступающие в психиатрический стационар, не склонны инициировать контакт с другими. Они говорят лишь когда к ним обращаются, остаются в своих комнатах, когда только возможно, занимаются размышлением, «сортировкой вещей» в уме, вышиванием ковриков, чтением и т.п.
Пациенты объясняют свою обособленность различными причинами (например, депрессией, страхом отвержения, отсутствием «чего‑либо общего» с другими), но есть одно общее основание – ощущение бессмысленности вложения энергии в то, что волей‑неволей будет недолговечным. Пациент говорит, что отношения с другим пациентом не могут длиться, что он и другой вращаются в разных «кругах» (забывая об общих «кругах» – земной орбите, жизненном цикле), – а тогда зачем вовлекаться? Другие подчеркивают, что не могут выносить утраты и предпочитают культивировать только те отношения, у которых есть потенциальная возможность стать долгой дружбой.
Эти аргументы в известной мере убедительны. В конце концов, одна из проблем современной жизни непостоянство, отсутствие стабильных институций и социальных сетей. В самом деле, какой смысл завязывать еще одни непродолжительные отношения в духе «отпускного круиза»?
Приведенный ниже клинический случай позволяет нам глубже проникнуть в эту проблему. Анна, пограничная пациентка, госпитализированная после суицидальных действий, была исключительно изолированной, ожесточенной молодой женщиной. Она постоянно задавалась одним фундаментальным вопросом: «Для чего мне другие люди?» На встречах группы она избегала контакта с другими, потому что, как она говорила, отказывается участвовать в фальши окружающих ее поверхностных отношений. Стоило Анне потянуться к другому, выразить какое‑либо чувство, как внутренний голос напоминал ей, что она обманщица, а значит, в действительности она не чувствует так, как говорит. Анна чувствовала себя одинокой и напуганной. Она всегда была аутсайдером, бредущим по холодной темной улице, смотрящим на теплые огни и уютные компании в домах других людей и желающим того же. На сессиях в ее малой группе я постоянно побуждал Анну к попыткам вступать в контакты с другими. «Перестань анализировать, перестань размышлять о себе, – говорил я ей. – Просто попытайся раскрыть себя другим в группе. Попытайся войти в мир их переживаний. Попробуй открыться настолько, насколько возможно, и не спрашивай почему». Однажды на особенно интенсивной групповой встрече Анна глубоко сопереживала нескольким участникам; один из них тронул ее настолько, что она даже плакала с ним, о нем. В конце встречи Анну попросили описать, какими были ее переживания в течение прошедшей сессии. (Эффективное использование в терапии принципа «здесь‑и‑сейчас» всегда влечет за собой два процесса: непосредственное переживание и последующее исследование этого переживания.) Анна сказала, что в течение этого часа была живой, находилась в потоке жизни, была вместе с другими, не осознавала себя и свое безысходное одиночество. В течение часа она была внутри жизни, вместо того чтобы наблюдать ее снаружи через холодное оконное стекло.
То, что Анна пережила в группе, позволило ей ответить на вопрос: «Для чего мне другие люди?» В течение короткого времени она смогла увидеть, что отношения обогащают внутренний мир человека. Я не сомневался, что она вскоре попытается обесценить этот опыт, объявив все подделкой; но тем не менее она успела испытать на себе, что отношения могут перекинуть мост через пропасть изоляции. Человек меняется в результате встречи с другим, даже короткой встречи. Это переживание интернализуется, становится внутренним референтным пунктом, вездесущим напоминанием о возможности и ценности истинной встречи.
Поразительный пример длительного воздействия, которое оказала короткая встреча, приводит Бертран Рассел, в 1913 г. познакомившийся с Джозефом Конрадом:
«Мы разговаривали во время самой первой встречи в атмосфере постоянно нарастающей близости. Казалось, мы проходили слой за слоем того, что было поверхностным, пока постепенно оба не достигли центрального огня. Это был опыт, не похожий на какой‑либо другой известный мне. Мы смотрели друг другу в глаза, наполовину испуганные, наполовину опьяненные тем, что оказались вместе в таком пространстве. Чувство было таким же сильным, как страстная любовь, и в то же время всеобъемлющим, я вышел изумленным и едва способным справляться с обычными делами».
Хотя Рассел провел с Конрадом всего несколько часов, он утверждает, что уже не мог оставаться прежним, что нечто от их соприкосновения осталось с ним навсегда и сыграло определяющую роль в формировании его позиции по отношению к войне, второстепенным неудачам и его последующим человеческим отношениям.
Бывают заблуждения противоположного рода – избегание длительных близких отношений, вкладывание себя лишь в короткие встречи; терапевт должен иметь в виду эту возможность. Но следует также помнить, что никакие отношения не дают гарантии постоянства. Из‑за того, что отношения могут не иметь будущего, стоит ли лишать их нынешней реальности? На самом деле люди, предпочитающие иметь отношения лишь с немногими избранными, – это обычно те, кому особенно трудно вступать в контакт с другими. Их страх изоляции настолько велик, что, как я уже описал, они саботируют возможность отношений. Другая ситуация складывается у человека, который может постоянно и подлинно расширять себя до других: «заселяя» свой внутренний мир, он испытывает облегчение экзистенциальной тревоги, становясь способным обращаться к другим с любовью, а не с нуждой.
КОНФРОНТИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА С ИЗОЛЯЦИЕЙ
Еще один важный шаг терапии заключается в том, чтобы помочь пациенту напрямую обратиться к экзистенциальной изоляции, исследовать ее, окунуться в его или ее чувства потерянности и одиночества. Один из фундаментальных фактов, который пациенты должны открыть в терапии, заключается в том, что, хотя межличностная встреча может смягчить экзистенциальную изоляцию, она не в состоянии уничтожить ее. В процессе психологического роста в психотерапии пациенты познают не только ценность близости, но и ее границы: они узнают о том, чего не могут получить от других. Несколько лет назад в исследовательском проекте, который я описал в главе 6, мы с коллегами изучали выборку успешных психотерапевтических пациентов и пытались определить, какие аспекты их терапевтического опыта были наиболее полезными для них. Из шестидесяти пунктов, предлагаемых для ранжирования (Q‑сортировки), одному, где речь идет об ограниченности близости («Осознание того, что какова бы ни была близость с другими людьми, все равно я должен справляться с жизнью в одиночку»), многие пациенты дали очень высокий ранг, а в совокупности он оказался двадцать третьим из шестидесяти пунктов.
Конечно, у проблемы изоляции нет «решения». Она является частью существования, и мы должны смотреть ей в лицо и найти способ принять ее. Духовная общность с другими важное доступное нам средство смягчить страх изоляции. Все мы одинокие корабли в темном море. Мы видим огни других кораблей – нам до них не добраться, но их присутствие и сходное с нашим положение дают нам большое утешение. Мы осознаем свое абсолютное одиночество и беспомощность. Но если нам удается вырваться из своей клетки без окон, мы начинаем осознавать других, встречающихся с тем же ужасом одиночества. Наше чувство изолированности открывает нам путь к сочувствию другим, и мы уже не так сильно боимся. Невидимая связь соединяет индивидов, причастных к одному и тому же переживанию, будь то опыт жизни, общий по времени или месту (например, посещение одной и той же школы), или просто опыт свидетелей одного и того же события.
Но сочувствие, как и его двойник – эмпатия, требуют определенной степени равновесия, их невозможно построить на панике. Человек должен начать переживать и терпеть изоляцию, чтобы получить доступ к ресурсам, позволяющим более полно справляться со своей экзистенциальной ситуацией. Бог предлагает избавление от изоляции для многих, но в то же время, как утверждал Альфред Норт Уайтхед, изоляция есть условие подлинной духовной веры: «Религия – это то, что индивид делает с собственным одиночеством… и если вы не бываете одиноки, вы не бываете религиозны». Отчасти задача терапевта состоит в том, чтобы помочь пациенту встретиться с изоляцией, осуществить то, что вначале порождает тревогу, но в конечном счете катализирует личностный рост. В «Искусстве любви» Фромм писал, что «способность быть в одиночестве это условие способности любить», и уже в те дни в Соединенных Штатах, до 1960‑х и трансцендентальной медитации, предлагал методы одинокой концентрации на содержании своего сознания.
Кларк Мустакас (Clark Moustakas) в своем эссе об одиночестве указывает на то же самое:
"Индивид, будучи одиноким и приняв это, реализует себя в одиночестве и формирует узы, или переживание глубокой связи с другими людьми. Одиночество не изолирует индивида, не влечет раскола или расщепления "я"; напротив, оно усиливает индивидуальную целостность, восприимчивость, чувствительность и человечность".
Многие другие подтверждают, что изоляция должна быть пережита, чтобы она могла быть преодолена. Например, Камю говорил. «После того, как человек научился – и не по книгам – оставаться наедине со своим страданием, преодолевать жажду бегства, ему мало чему остается учиться». Роберт Хобсон утверждал: «Быть человеком означает быть одиноким. Продолжать становиться личностью значит исследовать новые способы опираться на свое одиночество».
Мне нравится выражение «исследовать новые способы опираться на свое одиночество». Это выразительное описание терапевтической задачи. Однако в этом выражении содержится и зародыш клинической проблемы: пациент психотерапевта скорее не «опирается» на одиночество, а терзается в нем. Проблема, по‑видимому, заключается в том, что богатый становится богаче, а бедный беднее. Те, кто могут пережить свою изоляцию и исследовать се, способны научиться отношениям зрелой любви с другими; однако лишь тот способен терпеть изоляцию, кто ухе может устанавливать связь с другими и сколько‑нибудь продвинулся в направлении зрелого роста. Роберт Боллендорф (Robert Bollendorf), например, показал, что чем выше уровень индивидуальной самоактуализации (оцененный с помощью Опросника личностной ориентации – Personal Orientation Inventory), тем ниже тревога изоляции (измеренная по шкале тревоги опросника IGРЕ), возникающая у испытуемого при помещение на шестнадцать часов в одиночное заключение.
Отто Уилл (Otto Will), исходя из долгого опыта терапии нарушений у подростков и молодых взрослых, отметил, что индивиды из семей, где присутствовали любовь и взаимное уважение, способны относительно легко выйти из семьи, перенести сепарацию и одиночество ранней взрослости. Что же происходит с теми, кто вырастает в мучительно трудных, высоко конфликтных семьях? Казалось бы, они должны, танцуя от радости, покинуть свою семью. Но происходит противоположное: чем более нарушена семья, тем труднее подрастающему поколению ее оставить – оно плохо подготовлено к сепарации и цепляется за семью, ища убежища от тревоги изоляции.
Терапевт должен найти способ помочь пациенту пережить изоляцию в дозах и с системой поддержки, подходящих для этого пациента. Некоторые терапевты на продвинутых стадиях терапии (когда другие источники тревоги проработаны и терапевтические отношения становятся позитивными и здоровыми) советуют или предписывают пациенту пройти через период «самоналоженной» изоляции. Подобный опыт может принести потенциальную пользу двух видов. Во‑первых, может быть получен важный для терапии материал. Вспомните Брюса, пациента, описанного в главе 5, который в результате нескольких часов изоляции осознал свой страх одиночества и смерти, которого он всю жизнь избегал с помощью трудоголизма и компульсивной сексуальности. Во‑вторых, пациент обнаруживает в себе скрытые ресурсы и мужество. Линда Шерби (Linda Sherby) описывает пациентку, симптомами которой были бешеная активность и позиция неудовлетворенной зависимости, связанная с желаемыми отношениями". В попытке выбраться из тупика терапевт предложил пациентке провести двадцать четыре часа в одиночестве в мотеле, отрезанной от всех развлечений (людей, телевизора, книг и т.п.), и только записывать в дневник свои мысли и чувства. Главным результатом – и весьма важным для пациентки – оказалось ее открытие, что она может выносить изоляцию без паники. В этом отношении заметки пациентки не оставляют сомнений. «Я все изумляюсь, какой сосредоточенный у меня, оказывается, ум, – возможно, мне еще рано декомпенсироваться. но ведь прошло уже девять часов, и не похоже, чтобы я собиралась развалиться». К концу суток он написала своему терапевту: «Ясно, что я не сойду с ума, и вы, полагаю, знали это. Печаль становится частью меня, и я сомневаюсь, что сбежать от нее снова будет так уж легко!»
Несколько лет назад мы с коллегами провели эксперимент, который случайно продемонстрировал, насколько изоляция катализирует личный рост. Желая исследовать влияние возбуждения аффекта (в процессе занятия в группе встреч, проводимой в течение уик‑энда) на долгосрочную индивидуальную терапию, мы бесплатно провели в течение уик‑эндов в деревенской гостинице три группы: две экспериментальные, усиливающие аффект гештальт‑группы и одну контрольную группу дзэн‑медитации. Мы хотели оценить воздействие на испытуемых опыта гештальт‑группы, предполагая, что не повышающая аффект группа медитации даст нам контрольную выборку с относительно стабильным состоянием. Результаты показали обратное. Обнаружились неожиданные «неспецифические» переменные, оказавшие огромное влияние на результат. Одной из таких важных переменных было переживание изоляции. Многие индивиды и в экспериментальных, и в контрольной группах рассказали, что существенной частью их опыта было удаление из привычного окружения и встреча с изоляцией. В самом деле, несколько испытуемых‑женщин сообщили, что они впервые за много лет (в одном случае за двадцать лет) были отделены от своих семей и провели ночь в одиночестве, без мужа рядом в постели и детей, спящих поблизости. Воздействие встречи с одиночеством было столь сильным, что для некоторых оно снизило значимость повышения аффекта – изучаемой переменной.
Практика медитации предлагает другой путь к осознанию изоляции. Хотя терапевты и учителя медитации нечасто указывают именно эту пользу медитации, но на мой взгляд, одним из главным факторов личностного роста в медитации является то, что она позволяет человеку в состоянии сниженной общей тревоги (то есть в уменьшающем тревогу состоянии мышечной релаксации, определенной позы и дыхания, очищения ума) встретить и преодолеть тревогу, связанную с изоляцией.
В медитации люди научаются смотреть в лицо тому, чего они больше всего боятся. Им предлагается погрузиться в изоляцию и – что еще важнее – войти в нее открытыми, без привычных защит отрицания. Им предлагается «отпустить» (а не достичь и получить), опустошить свой разум (а не схематизировать и анализировать опыт), отвечать миру и быть в согласии с ним (а не контролировать и подчинять его). Несомненно, одна из явных целей состояния медитации или одно из состояний, которого человек должен достичь на пути к просветлению (сатори), – это осознание того, что физическая реальность на самом деле является завесой, затемняющей подлинную реальность, и только погрузившись в глубину собственной изоляции, человек способен устранить эту завесу. Но понимание иллюзорной природы реальности или, как я сформулировал в главе 6, осознание собственной конституирующей функции, неизбежно приводит нас к переживанию экзистенциальной изоляции, к осознанию того, что мы изолированы не только от других людей, но – на самом фундаментальном уровне и от мира.
ВСТРЕЧА ПАЦИЕНТ‑ТЕРАПЕВТ И ИЗОЛЯЦИЯ
Исцеляет не что иное, как отношения
Помню две максимы психотерапии, которые я узнал в самом начале своего обучения. О первой из них речь уже шла в разделе о свободе: «Цель психотерапии – подвести пациента к той точке, где он может сделать свободный выбор». Вторая «исцеляют отношения» – это тот самый важный урок, который психотерапевт должен усвоить. В психотерапии нет более самоочевидной истины; каждый терапевт в ходе клинической практики вновь и вновь убеждается в том, что для пациента целительна сама по себе встреча, причем независимо от теоретической ориентации терапевта.
Если есть хоть что‑то, доказанное психотерапевтическим исследованием, так это тот факт, что позитивные отношения между пациентом и терапевтом позитивно связаны с результатом терапии. Эффективный терапевт реагирует на своих пациентов в искренней манере; он устанавливает отношения, которые пациент ощущает как безопасные и принимающие; он проявляет лишенную налета собственничества теплоту и высокую степень эмпатии; наконец, он способен «быть с» пациентом и «схватывать смысл» пациента. В этих выводах сходятся несколько обзоров, в которых суммированы сотни исследовательских работ.*
* В этой книге я уже ссылался на эмпирические исследования, но обычно с большим отбором и значительными оговорками. Имеющихся исследовании недостаточны, они плохо разработаны или осуществлены либо имело место сомнительное от ношение к обсуждаемой экзистенциальной проблеме. В связи с отношениями терапевт‑пациент я также не буду широко цитировать исследовательскую литературу, но совсем по другой причине количество высококачественных исследовании, свидетельствующих о критической роли этих отношений, огромно.
В главе 1 я уподобил психотерапию процессу, который наблюдал на курсах кулинарии: по‑видимому, критически важные отличия как в армянских блюдах из баклажанов, так и в психотерапии, обусловлены «вбрасываниями», добавками «вне протокола». Эти добавки наиболее часто относятся именно к сфере отношений терапевт‑пациент. Эффективная психотерапия отличается тем, что терапевт часто контактирует с пациентом человечным и глубоко личностным образом. Нередко этот контакт является решающим моментом в терапии, однако он не укладывается в официальную идеологическую доктрину, не описывается в психиатрической литературе (обычно из стыда или боязни цензуры), ему не учат студентов (и потому, что он не охвачен формальной теорией, и потому, что такое обучение могло бы способствовать «эксцессам»).
Прекрасную иллюстрацию важности подлинной встречи терапевта и пациента мы находим в книге, которая называется «Решающие эпизоды в психотерапии» (1959), где описан ряд эпизодов, рассматриваемых терапевтами как поворотные пункты в терапии. В значительном большинстве этих решающих эпизодов терапевт выходит из своей профессиональной роли и контактирует с пациентом глубоко человечным образом. Вот несколько примеров:
В этот момент Том [пациент] посмотрел мне в глаза и очень ясно и медленно сказал: «Если вы меня бросите, у меня не останется надежды». В это мгновение меня захлестнули сложные и сильные эмоции, состоящие из печали, ненависти, жалости и чувства некомпетентности. Эта фраза Тома стала для меня «решающим эпизодом». В это мгновение я был к нему ближе, чем к кому‑либо на свете.
Терапевт принял пациента в связи с острым состоянием днем в субботу, и хотя терапевт был голоден и устал, он продолжал сессию несколько часов. 3. Терапевт принимал пациентку, у которой во время курса терапии развились симптомы, вызвавшие подозрение на рак. Пока она ожидала результатов лабораторных анализов (которые оказались отрицательными), он обнимал ее, как ребенка; она рыдала и находилась в кратковременном психотическом состоянии, вызванном страхом.
Мужчина‑терапевт работал с пациенткой, молодой женщиной, у которой развился такой мощный позитивный эротизированный перенос на него, что терапевтическая работа была бы невозможной, если бы он не раскрыл ей некоторые стороны своей личной жизни, что позволило пациентке отделить в своем восприятии терапевта реалистические моменты от искажений.
На протяжении нескольких сессий пациент оскорблял терапевта, нападая на него лично и ставя под сомнение его профессиональную компетентность. Наконец терапевт взорвался: "Я начал колотить по столу кулаком и закричал: «Черт возьми, послушайте, почему бы вам просто не прекратить словесный понос, перестав нападать на меня, и не перейти наконец к делу – попытаться понять себя. Какие бы недостатки у меня ни были, а у меня их хватает, они не имеют отношения к вашим проблемам. Я тоже человек, и сегодня был плохой день…»
Пациентка была оставлена в заброшенном доме на обрыве, куда можно было добраться только по шаткому деревянному мостику. В этой крайней ситуации она позвонила своему терапевту, который подъехал к дому, прошел по мостику, успокоил ее и отвез домой.
Другие решающие эпизоды похожи на эти: суть каждого состоит во встрече двух людей и в отходе от искусственного или идеологически предписанного «обращения» с пациентом.
Литература изобилует иллюстрациями, подтверждающими этот феномен. В главе 2 я говорил о том, что в 1895 г. в «Исследованиях истерии» Фрейд и Брейер не обратили внимания на существенный материал, относящийся к смерти. Поразительно также, что в своей оценке терапевтических механизмов Фрейд мог не обратить внимания на значимость встречи пациента и терапевта. Он приписывал терапевтическое изменение целиком гипнотическому внушению и работе по интерпретации, которая делает возможными «отреагирование» и освобождение «задавленного аффекта». Отметим однако характер терапевтической включенности Фрейда, отраженной в его описаниях случаев. Он регулярно делал массаж некоторым из своих пациентов и однажды высказал досаду оттого, что менструальный период пациентки может сделать массаж в этот день невозможным. В других случаях он «смело входит» (используя термин Бубера) в жизнь пациента, беседуя с членами семьи и выясняя финансовые и брачные планы пациента. Временами Фрейд бывал авторитарным и резким. В одной памятной встрече он непреклонно заявил пациентке, что дает ей двадцать четыре часа на то, чтобы она изменила свои взгляды (по поводу непсихологических причин симптома), иначе ей придется покинуть больницу.
Несколько лет назад я установил договор (по причинам, о которых неуместно рассказывать в этом обсуждении) с пациенткой, условившись, что мы оба будем писать краткое резюме своих впечатлений после каждого часа индивидуальной терапии, передавать их в запечатанном виде моему секретарю и каждые несколько месяцев читать записи друг друга. (Позже мы опубликовали эти заметки в книге «Каждый день – чуть ближе. Терапия, рассказанная дважды» («Every Day Gets a Little Closer: A Twice‑Told Therapy»)). Меня поразило расхождение между моим восприятием сессии и восприятием пациентки. Мы с пациенткой отмечали и ценили очень разные аспекты терапевтического опыта. Кому нужны были мои точные и элегантные интерпретации? Увы! Она их даже не слышала! В ее памяти сохранились маленькие личные соприкосновения теплые взгляды, комплименты по поводу ее внешнего вида, мой неизменный интерес к ней, мои вопросы о ее мнении относительно фильма, который она посмотрела.
Что нам делать с этими наблюдениями? По‑видимому, ясно, что каким‑то еще не определенным образом личностные отношения терапевта и пациента играют критическую роль в процессе изменения, а также что терапевт часто недооценивает значение этого фактора и переоценивает свои когнитивные заслуги.
Как исцеляют терапевтические отношения? В предыдущем разделе я высказал мысль, что «внутритерапевтические» отношения пациента (его или ее отношения в обыденной жизни, или с другими членами терапевтической группы, или с соседями по палате в психиатрической больнице) обладают двумя типами терапевтического воздействия: (1) они играют «опосредующую» роль, поскольку способствуют улучшению качества будущих отношений – на их материале пациент узнает о своем дезадаптивном межличностном поведении и проводит «генеральную репетицию» новых моделей отношений; (2) они имеют ценность сами по себе и для себя – как вполне «реальные» отношения, они приводят к межличностным переменам.
Все это можно отнести и к отношениям терапевт‑пациент. Они исцеляют, потому что проясняют другие отношения, а также в силу того, что представляют собой реальные отношения пациента. Давайте рассмотрим поочередно оба фактора.
Отношения пациент‑терапевт. Прояснение и облегчение других отношений. Помогая пациенту исследовать свои отношения с ним, терапевт проясняет и улучшает прошлые или нынешние отношения пациента с теми, кого на символическом уровне напоминает терапевт.
Использование отношений для прояснения прошлого – это традиционный подход к отношениям пациент‑терапевт, основанный на представлении о переносе, в котором пациент «переносит» чувства и позиции, касающиеся значимых фигур, особенно родительских, на личность терапевта. Пациент «надевает» на терапевта, который служит манекеном, чувства, «снятые» с других. Отношения с терапевтом – игра теней, отражающая превратности драмы, которая происходила давно. Аналитическая терапевтическая задача воссоздания и прояснения событий прошлой жизни хорошо обслуживается этим подходом.
Против такого способа работы с отношениями есть два основных аргумента. Первый, как уже обсуждалось в главе 7, это неочевидность того, что раскрытие и понимание прошлого содействуют изменению в терапии. Второй состоит в том, что рассмотрение отношений терапевт‑пациент прежде всего в терминах переноса отрицает истинно человечную и истинно изменяющую природу отношений. Имеется достаточно доказательств того, что исцеляют реальные отношения; рассматривать отношения терапевт‑пациент как упаковочный ящик для транспортировки орудий исцеления (инсайта, раскрытия события прошлой жизни и т.п.) значит ошибочно принимать емкость за содержимое. Отношения и есть орудие исцеления, и, как я уже подчеркивал, поиск инсайта, копание в прошлом – все это интересные и по видимости полезные занятия, занимающие внимание пациента и терапевта в то время, пока созревает подлинный фактор изменения – их отношения.
Еще одно применение отношений пациент‑терапевт состоит в том, чтобы помочь пациенту понять нынешние или будущие отношения. Пациент почти всегда искаженно видит какие‑то аспекты своих отношений с терапевтом. Опытный терапевт, отталкиваясь от собственного знания себя и богатого опыта того, как видят его другие, способен помочь пациенту отделить искажение от реальности. Для разных пациентов терапевт может олицетворять разные вещи, но для большинства он воплощает образы власти – учителя, начальника, родителя, судьи, инспектора и т.д. Помогая пациенту улучшить его отношения с этими индивидами, терапевт оказывает ему реальную услугу.
"Реальные "отношения между терапевтом и пациентом. В том, что пациент развивает реальное (в противоположность перенесенному) отношение к терапевту, заключается огромная потенциальная польза. Вместо того чтобы оставаться в рамках феномена «как будто» – который, если его должным образом проанализировать, приведет к улучшению других отношений – терапевт помогает пациенту исцелиться, развивая с ним подлинные отношения.
Кайзер, как я рассказывал выше, считал, что индивид, терзаемый изоляцией («универсальным конфликтом»), пытается преодолеть ее путем «слияния» с другим. Возникающий «универсальный симптом», как называет его Кайзер, прокладывает дорогу слиянию. «Универсальный симптом» – это «двойственность», или «неподлинность», или «перенос»; его составляют искаженное восприятие пациентом терапевта и искаженное поведение по отношению к нему. Таким образом, пациент не включает в отношения свое подлинное "я", но взаимодействует с терапевтом таким образом, чтобы избегнуть изоляции и осуществить слияние.
Каково противоядие этому универсальному конфликту и симптому? Ответ Кайзера – «коммуникация». Он утверждал, что «именно способность свободно общаться не позволяет универсальному конфликту вовлечь человека в ограничительный обманчивый стереотип невроза». Кайзер полагал, что терапевт исцеляет, просто будучи с пациентом. Успешная терапия требует, «чтобы пациент проводил достаточно времени с человеком, обладающим определенными личностными характеристиками».
Какими личностными характеристиками? Кайзер называет четыре: (1) интерес к людям; (2) теоретические взгляды на психотерапию, которые не блокируют заинтересованность терапевта в том, чтобы помочь пациенту свободно общаться; (3) отсутствие невротических стереотипов, которые помешали бы установлению коммуникации с пациентом; (4) «восприимчивый» психический склад – чувствительность к двойственности и некоммуникативным элементам поведения пациента.
У Кайзера для терапевта есть всего одно правило: «находиться в коммуникации». Все другие требования касаются не того, что терапевт должен делать, а того, каким терапевт должен быть. Возможно, Кайзер чрезмерно преувеличивает, но тем не менее он привлекает наше внимание к существенному элементу механизма терапевтического изменения. Для многих пациентов психотерапия – это процесс циклического движения от изоляции к отношениям. Когда пациент стал способен на глубокие отношения с терапевтом (и на отношение к нему как к реальной личности, а не как к образу, созданному определенным «методом»), – он уже изменился. Пациент узнает, что потенциал любви существует внутри него самого, и испытывает чувства, которые годами и десятилетиями спали в диссоциированных внутренних пространствах. Вспомним комментарии Бубера по поводу отношении Я‑Ты: когда "Я" по‑настоящему находится в отношениях с другим, оно меняется, становится отличным от "Я", которое было до Ты. Оно переживает новые аспекты себя, открывается не только другому, но и самому себе. Неважно, что отношение пациента к терапевту «временно», опыт близости постоянен. Он существует во внутреннем мире человека как постоянная точка отсчета, напоминание о потенциале близости. Открытие себя, которое происходит в результате близости, также постоянно.
Едва ли нужно говорить, что опыт близости с терапевтом имеет для индивида смысл, выходящий за пределы опыта отношений со многими другими людьми. Во‑первых, терапевт это обычно тот, кого пациент особенно уважает. Но что еще важнее, терапевт – это человек (и часто единственный), который действительно знает пациента. Возможность рассказать другому все свои самые темные тайны, все свои запретные мысли, поведать о своем тщеславии, своих горестях, своих страстях и все же быть этим другим полностью принятым – оказывает невероятно самоутверждающее воздействие.
Выше я сказал: «Психотерапия – это процесс циклического движения от изоляции к отношениям». Он цикличен потому, что пациент, страшась экзистенциальной изоляции, вступает в глубокие и осмысленные отношения с терапевтом, а затем, укрепленный этой встречей, вновь возвращается к переживанию экзистенциальной изоляции. Терапевт из глубины их отношений помогает пациенту пережить изоляцию и осознать свою единоличную ответственность за собственную жизнь – то, что он сам создал свою затруднительную жизненную ситуацию, и лишь сам, а не кто‑то другой, может изменить ее.
Ведомый терапевтом, пациент возвращается к ощущению изоляции, но иным путем, чем прежде. Выше я подчеркивал, что одна из бесценных вещей, которую пациент узнает в процессе терапии, это границы отношений. Он узнает, что может получить от других, но также – и это гораздо важнее чего не может получить от других. Когда пациент и терапевт встречаются на человеческом уровне, иллюзии первого неизбежно страдают. В конце концов конечный спаситель при полном свете дня оказывается всего лишь другим человеком. Это изолирующий момент, но одновременно, как утверждает Кеннет Фишер, и просветляющий момент, «когда пилигриму случается подумать: может быть, нет знающего, – наверное, мы все пилигримы». Как минимум, пациент освобождается от поисков не в том месте. Как максимум – из полноты встречи он узнает, что и пациент и терапевт, и любой другой человек – собратья по своей человечности и своей неизменной изоляции.
Идеальные отношения терапевт‑пациент
Если основная задача терапевта – глубокие и полные отношения с пациентом, означает ли это, что терапевт формирует отношения Я‑Ты с каждым пациентом? «Любит» ли (в том смысле, какой придавали этому слову Маслоу и Фромм) терапевт пациента? Есть ли разница между терапевтом и близким другом?
Едва ли терапевт может читать (или писать) такие вопросы без некоторого дискомфорта. Без какой‑то неловкости именно это слово здесь напрашивается. В мире терапевта присутствует неизбежный диссонанс: «дружба», «любовь», «Я‑Ты» – с одной стороны; «пятидесятиминутная сессия», «шестьдесят пять долларов в час», «обсуждения случаев», «оплата третьей стороной» – с другой. Никакой лакировкой и смазкой не подогнать одно к другому так, чтобы получилось гладко. Это несоответствие встроено в «ситуации» как терапевта, так и пациента, его нельзя отрицать или игнорировать.
Один важный аспект составляет особенность «любовной дружбы», или Я‑Ты отношений между терапевтом и пациентом аспект паритетности. Пациент приходит к терапевту за помощью. Терапевт не приходит к пациенту. Терапевт должен иметь мотивацию, склонность и способность со всей возможной полнотой воспринимать пациента как личность. Пациент по определению обладает ослабленной способностью воспринимать другого человека во всей полноте, более того, он имеет совершенно иной мотив – избавление от страданий. Таким образом, терапевт обладает тем, что Бубер называет «объективным присутствием»: терапевт способен быть одновременно в двух местах – на своей стороне и на стороне пациента. «Терапевт способен быть там, где он есть, и там, где находится пациент; пациент может быть только там, где он есть».
Терапевта интересует «ты» пациента, не только нынешнее «ты», но и его потенциальное, спящее «ты». Терапевт, руководствуясь своим интуитивным ощущением открытости пациенту и близости с ним, постоянно стремится углублять отношения. Пациент же в начале терапии не имеет ресурсов для паритетных отношений с терапевтом. Он может задавать или обдумывать вопросы, касающиеся терапевта, но эти вопросы обычно не вызваны стремлением «узнать» терапевта или актуализировать его полный потенциал, они скорее отражают интерес к регалиям терапевта или к тому, намерен ли он удовлетворять потребности пациента. Иногда вопросы пациента – это часть борьбы за контроль в отношениях пациент. может чувствовать себя менее уязвимым в самораскрытии, если терапевт также готов открываться.
Карлос Секуин (Carlos Sequin) в «Любви и психотерапии» описывает отношения терапевт‑пациент как особую форму любви, «психотерапевтический эрос». Она имеет несколько отличительных признаков. Она, как я уже указывал, не паритетна. Но должен заметить, что это не является обязательным признаком по ходу терапии пациент, состояние которого улучшается, обнаруживает все больше понимания и заботы (понуждающейся заботы) по отношению к личности терапевта. Психотерапевтический эрос неразрушим, или, по словам Карлоса Секуина, «безусловен». Другие виды любви уязвимы. Влюбленный в конце концов перестает любить, если его любовь остается без ответа. Друзья расстанутся, если между ними станет мало общего. Существует много обстоятельств, которые могут привести к отчуждению между родителями и ребенком, учителем и учеником, поклоняющимся и объектом поклонения. Но зрелый терапевт будет заботиться о своем пациенте, несмотря на непослушание, нарциссизм, депрессию, враждебность и лживость. Более того, можно сказать, что эти черты побуждают терапевта к заботе, обнаруживая силу потребности пациента в том, чтобы о нем заботились.
Еще один аспект психотерапевтического эроса состоит в том, что он подразумевает подлинную заботу о личности пациента. По словам Секуина, «это не „гуманная“ любовь, которую врач должен испытывать к больному человеку, потому что он болен. Терапевт скорее должен испытывать подлинное чувство любви к определенному индивиду, находящемуся перед ним, который является этим человеком, а не другим, который является не „больным человеком“, а просто человеком». Фромм, Маслоу и Бубер подчеркивали, что истинно заботиться о другом означает заботиться о росте другого и вызывать нечто к жизни в другом. У терапевта должна быть именно такая установка по отношению к пациенту. Raison d'etre терапевта – «акушерская помощь» при рождении еще не прожитой жизни пациента.
Задача «вызывать нечто к жизни» в другом играет важную роль в определении стратегии терапевта. Бубер выделяет два основных пути воздействия на жизненные установки другого. Можно пытаться навязать другому собственную позицию и взгляды (причем таким образом, чтобы другой считал их собственным мнением), либо пытаться помочь другому раскрыть свои собственные тенденции, испытать собственные «актуализирующие силы». Первый путь Бубер называет «навязыванием», и это путь пропагандиста. Второй путь «раскрытие», это путь просветителя и терапевта. Раскрытие подразумевает проявление в человеке того, что в нем исходно было. Само понятие «раскрытия» имеет богатые оттенки смысла и находится в резком контрасте с другими понятиями, описывающими терапевтический процесс, – «воссоздание», «разобусловливание», «поведенческое формирование», «восстановление в родительстве».
Человек помогает другому раскрыться не наставлением, а «встречей», «экзистенциальной коммуникацией». Терапевт – не руководитель, не формирующий агент, а «дающий возможность». Аналогичным образом Хайдеггер говорит о двух разных путях заботы, или «попечения».* Мы можем «заместить» другого вариант отношений, подобный навязыванию, – и таким образом освободить его от тревоги экзистенциальной встречи (и тем самым низвести другого к неподлинному существованию). Либо мы можем «забежать вперед» (не вполне удовлетворительный термин) и «освободить» другого, конфронтировав его с его экзистенциальной ситуацией.
* Хайдеггер различает заботу о вещах («беспокойство») и заботу о других daseins, то есть конституирующих бытиях («попечение»).
Резюмируя, можно сказать, что терапевт относится к пациенту по‑настоящему заботливо и стремится достигать моментов подлинной встречи. В этом стремлении терапевту следует быть незаинтересованным в самости, то есть заботиться о росте пациента, а не об удовлетворении его личностных нужд. Забота терапевта должна быть неразрушимой и независимой от ответной заботы пациента. Терапевт должен быть способен находиться одновременно с самим собой и с пациентом, и следовательно уметь, заботясь, войти в мир пациента и воспринять его так, как воспринимает сам пациент. Поэтому он должен подходить к пациенту без предубеждений, настроенный на соприкосновение с миром опыта пациента, не пытаясь судить его или подгонять под стандарт.
Многие из этих аспектов терапевтических отношений были описаны Роджерсом и его коллегами в их триаде терапевтических характеристик – эмпатия, искренность и позитивный непредвзятый взгляд. Во многих исследованиях подтверждается, что данные характеристики способствуют позитивному терапевтическому результату. Моя неудовлетворенность этими характеристиками поведения терапевта связана главным образом с тем, что нередко несмотря на упор самого Роджерса на то, что терапевтические отношения должны быть искренними и глубоко личностными* другими авторами они рассматриваются как метод, как то, что терапевт делает в терапии. Соответственно, существуют технические руководства, призванные научить будущих терапевтов методам проявления эмпатии, искренности и позитивного взгляда Когда «техника» выходит на первый план, ни о какой экзистенциальной терапии уже нет речи сама суть подлинных отношений состоит в том, что человек не манипулирует, а обращается к другому всем своим существом
* Роджерс недвусмысленно высказался на эту тему в примечательном разговоре с Бубером из которого ясно что эти два самостоятельных мыслителя сходятся в вопросе о наилучшем роде отношений терапевт‑пациент.
Диагноз. Предубеждения и стереотипы мешают многим терапевтам быть подлинными в отношениях с пациентами. При подготовке терапевтов акцент делается на диагнозе и классификации: их учат объективировать пациента, устанавливать его диагностический код согласно диагностической классификации АПА (Американской психиатрической ассоциации), которым он «пришпиливается» к данным обследования при поступлении в стационар или к страховому полису Разумеется, ни один добросовестный терапевт не станет отрицать значимость диагностической оценки. Например, нужно выяснить, не влияет ли на психологическое состояние пациента органическое заболевание или интоксикация. Важно также определить, не страдает ли пациент тяжелым аффективным нарушением биохимической этиологии (например, эндогенной депрессией или маниакально‑депрессивным диатезом), требующим фармакологического лечения.
Даже когда состояние пациента имеет главным образом функциональный характер, терапевту необходимы некоторые предварительные оценки. Может быть, состояние пациента является настолько тяжелым (например, серьезное социопатическое расстройство характера или параноидная шизофрения с хорошо систематизированным бредом), что вероятность пользы от психотерапии мала? Несомненно, деструктивные тенденции пациента (в отношении себя или других) должны быть оценены. Кроме того, терапевт должен составить представление о степени устойчивости пациента и его способности переносить близость, являющееся важным направляющим ориентиром в терапии.
Если эти относительно грубые оценки важны для предварительной классификации, то дальнейшие и более «тонкие» диагностические различения не только мало помогают терапевту, но часто мешают формированию отношений. Изощренные психоаналитические диагностические формулировки, описывающие специфическую психосексуальную динамическую организацию пациента, мало полезны в терапии, а в той степени, в какой они препятствуют подлинному слушанию, даже создают помеху. Например, хотя некоторые или даже большинство «истерических личностей» демонстрируют определенные специфические поведенческие стереотипы и страдают от определенных характерных для них динамических конфликтов, это касается не всех. Стандартная диагностическая формулировка ничего не говорит терапевту об уникальном человеке, с которым он имеет дело, более того, имеются существенные свидетельства, что диагностические ярлыки мешают слушанию или искажают его. Слишком часто диагностическая категоризация оказывается не более чем увлекательным интеллектуальным упражнением, единственная функция которого состоит в создании у терапевта ощущения порядка и контроля. Между тем фундаментальная задача профессионального роста терапевта – научиться переносить неопределенность. Для этого требуется значительно изменить взгляд, вместо того, чтобы пытаться упорядочить «материал» интервью в интеллектуально непротиворечивой структуре, терапевт должен стремиться к подлинному контакту.
Самораскрытие терапевта. Чтобы знать пациента, терапевт должен не только наблюдать и слушать, он также должен «переживать» пациента во всей полноте. Но полнота переживания требует, чтобы мы открыли себя другому, если мы вступаем в контакт с другим открыто и честно, мы переживаем другого в его реакции на этот контакт.
Нельзя не прийти к выводу, что терапевт, который намерен установить отношения с пациентом, должен раскрыть себя как человека. Эффективный терапевт не может оставаться отдаленным, пассивным и скрытым. Самораскрытие терапевта неотъемлемая часть терапевтического процесса. Но насколько, в чем терапевт раскрывает себя? Личные проблемы? Все чувства по поводу пациента? Скука? Усталость? Претенциозность? Умные терапевтические стратегии? Есть ли разница в самораскрытии между терапевтом и близким другом?
Немудрено почувствовать себя дискомфортно! Эта проблема в первые несколько десятилетий психотерапевтической практики вообще не рассматривалась, так как в аналитическом движении уже на ранней стадии было заявлено, что терапевту следует сохранять эмоциональную дистанцию и объективность, подобно хирургу, бесстрастно изучающему больной орган. Пациенты, предупреждал Фрейд, будут развивать сильные чувства к терапевтам, но терапевты должны быть начеку и подавлять нежные эмоции. Терапевты должны понимать, что сильные чувства пациента есть «неизбежное следствие медицинской ситуации, как обнажение тела пациента или сообщение жизненно важной тайны»
Почему терапевту так строго предписывалась бесстрастная роль? Во‑первых, Фрейд предполагал, что терапевт, который перестанет быть «объективным», потеряет контроль над ситуацией и будет увлечен скорее тем, чего пациент хочет, чем тем, чего пациент требует.
«Пациентка добилась бы своей цели, но врач никогда не добился бы своей. С врачом и пациентом могло произойти только то, что произошло в забавном анекдоте с пастором и страховым агентом. Неверующий страховой агент лежал при смерти, и родственники настояли на том, чтобы привести к нему слугу Господа, который обратил бы его перед смертью. Разговор длился так долго, что ждавшие снаружи начали надеяться. Наконец дверь комнаты больного открылась. Неверующий не обратился, но пастор вышел, приобретя страховку».
Итак, по мнению Фрейда, если терапевты откроются пациентам и включатся в нормальное человеческое взаимодействие, они принесут в жертву объективность и, следовательно, эффективность. Второй, более глубокий аргумент за «непрозрачность» терапевта основан на мнении, что перенос является ядром психотерапии. Фрейд считал, и огромное большинство сегодняшних психоаналитиков по‑прежнему считают анализ переноса важнейшей задачей терапевта. Как я говорил раньше, для Фрейда перенос был непосредственной репрезентацией того, что пациент испытал в начале жизни, в годы слишком ранние, чтобы быть полностью доступными памяти. Следовательно, наблюдая, понимая и помогая пациенту «проработать» перенос (то есть пережить его, признать его несоответствие нынешней ситуации и обнаружить в детстве источники переносимого чувства), терапевт открывает глубочайшие пласты жизненного опыта индивида.
Из признания ключевой роли переноса следует, что терапевт должен содействовать его развитию. Чем меньше проявляется реальное "я" терапевта, тем с большей готовностью пациент переносит на него чувства, относящиеся к кому‑то другому. Таково рациональное объяснение традиционно отводящейся терапевту роли «пустого экрана» и особенностей взаимного размещения участников психоаналитической сессии, где аналитик остается за кушеткой, вне поля зрения пациента. Этот запрет на самораскрытие терапевта дал нам два поколения психотерапевтов, находившихся под властью метода, не признававшего подлинной встречи между терапевтом и пациентом, согласно которому основной – и, собственно говоря, единственной – функцией терапевта является интерпретация.
Однако даже некоторые первые теоретики не соглашались с таким взглядом на роль терапевта. Шандор Ференци, один из первых и самых верных последователей Фрейда, настаивал на том, что отстраненная, всеведущая позиция терапевта снижает терапевтическую эффективность. Ференци, особенно в последние годы, открыто признавался пациентам в своих ошибках. Например, он без всякого дискомфорта в ответ на оправданную критику отвечал: «Возможно, вы коснулись области, в которой я не все знаю. Может быть, вы могли бы помочь мне увидеть, в чем я неправ».
Однако по большей части проблема реальных – «неперенесенных» – отношений не обсуждалась в литературе до 1950‑х годов. (В обширном обзоре Ральфа Гринсона и Милтона Векслера названо только два исследования, выполненных до 1950 г.) В 1954 г. в неофициальном разговоре о переносе Анна Фрейд сказала:
«При должном уважении к необходимости самого аккуратного обращения с переносом и его интерпретацией я все же чувствую, что нам следует оставить какое‑то место для признания того, что аналитик и пациент это также два реальных человека, обладающих равным взрослым статусом, находящихся в реальных личностных отношениях друг с другом. Я думаю, не является ли наше – временами полное пренебрежение этой стороной дела причиной некоторых враждебных реакций, которые мы получаем от своих пациентов и склонны объяснять исключительно „истинным переносом“. Но эти мысли могут иметь подрывной эффект, и к ним надо относиться осторожно».
В 1969 г. Гринсон и Векслер подтвердили живучесть традиционного аналитического взгляда на эту проблему:
«Хотя в аналитических кругах уже не слышно споров о том, совершаешь ли ты смертный грех, предлагая бумажный носовой платок пациенту, плачущему о недавней смерти одного из родителей, все же любые действия, напоминающие проявление доброты к пациенту, воспринимаются с крайней подозрительностью».
Хотя Гринсон и Векслер выступали за более человечные отношения терапевт‑пациент, на мой взгляд, они опирались в этом на неверные обоснования. В своем обсуждении отрицательных сторон чрезмерной отстраненности терапевта они утверждают:
«Может быть, нам следует больше отдавать себе отчет в том, что упорная анонимность и пролонгированный атеросклероз аффекта также могут быть соблазнительными, но, как правило, обычно они приводят к необратимым и не поддающимся интерпретации враждебному переносу и отчуждению».
Таким образом, эти аналитики выступали за большую включенность терапевта из технических соображений, уберечь перенос от превращения в нерабочий и способствовать его "анализируемости.*
* Между прочим, в предыдущей цитате содержится любопытное замечание, что «пролонгированный атеросклероз аффекта также может быть соблазнительным». Я понимаю ее так, что эмоциональная невключенность легче дается терапевтам и требует от них меньших затрат энергии. Возможно, это и так, но терапевты платят страшную цену, когда в конце концов действительно становятся нечувствительными. Другой профессиональный риск для терапевтов заключается в использовании встреч с пациентами для избегания конфронтирования и принятия собственной изоляции. Не осуществив такой интеграции, некоторые терапевты так и не развивают автономии, необходимой для формирования удовлетворяющих и длительных любовных отношений, напротив, их личная жизнь превращается в стаккато интенсивных, но мимолетных пяти‑десятиминутных встреч.
Подводя итог, скажем: сосредоточенность единственно на переносе мешает терапии, потому что устраняет подлинность из отношений терапевт‑пациент. Во‑первых, она отрицает реальность отношений, рассматривая их исключительно как ключ к пониманию других, более важных отношении. Во‑вторых, она предоставляет терапевту разумное обоснование для сокрытия себя – сокрытия, блокирующего способность искреннего отношения к пациенту. Означает ли это, что терапевты, которые хранят верность отстраненной, объективирующей, «только интерпретирующей» позиции по отношению к пациенту, неэффективны или даже деструктивны? Думаю, что, к счастью, такие терапевты и такая терапия чрезвычайно редки. На то и существуют терапевтические «вбрасывания»: помимо собственной воли и часто сами того не зная, терапевты проявляют «внепротокольную» человечность.
Каковы другие возражения против самораскрытия терапевта? Некоторые терапевты боятся, что если они немножко приоткроют дверь в свое "я", пациент вынудит открыть ее шире и потребует большего саморазоблачения. Мой личный опыт говорит, что этот страх неоправдан. Я часто нахожу важным сообщить пациенту мои непосредственные чувства «здесь‑и‑сейчас». Мне редко кажется необходимым или особенно полезным сообщать множество подробностей о своей личной жизни в прошлом и настоящем. Я почти не встречал пациентов, настаивающих на подобном требовании. Желание пациента состоит не в том, чтобы терапевт обнажился, а в том, чтобы терапевт относился к нему как к человеку и целиком присутствовал в их встрече.
Насколько полно следует открываться? Какими ориентирами пользоваться? Важно помнить об основной цели – подлинных отношениях. Одна из важнейших характеристик «психотерапевтического эроса» – забота о становлении другого. Ролло Мэй предлагает употреблять для обозначения этого понятия греческое слово agape или латинское cantas, означающие любовь, преданную благу другого. Иными словами, важно, чтобы самораскрытие терапевта служило росту пациента. Самовыражение терапевта, или его полная честность, или спонтанность могут представлять ценность сами по себе, но они являются второстепенными по отношению к основному – наличию agape. Отсюда следует, что терапевт должен удерживать какую‑то информацию при себе, не говоря ничего, что может оказаться деструктивным для пациента, уважая принцип своевременности и внимания к динамике терапии – к степени готовности пациента услышать то или иное.
Временами нам необходимо ограничивать себя в самораскрытии в связи с еще одной проблемой, которая может сопутствовать отношениям пациента и терапевта как реальной личности, – проблемой потери терапевтической объективности, обусловленной различными эксцессами и безответственным поведением. Наверное, самый вопиющий эксцесс – вступление терапевта как «реальной личности» в половую связь с пациентом. Я видел много пациентов, раньше имевших половую связь с терапевтом. У меня создалось впечатление, что такой опыт всегда деструктивен для пациента и что в этих случаях терапевт неизменно нарушал принцип agape – любви к бытию (и становлению) другого. Такие терапевты заботились не о нуждах своих пациентов, а о своих собственных, предлагая при этом весьма прозрачные рационализации, такие как потребность пациента в сексуальном самоутверждении. Однако мне что‑то не приходилось слышать о половых связях терапевтов с такими пациентами, которые, может быть, действительно нуждаются в сексуальном самоутверждении, непривлекательными, страдающими врожденными или приобретенными физическими уродствами.
Еще одна причина для терапевта оставаться скрытым – это страх, что самораскрытие приведет к столкновению с диссонансами терапевтической ситуации, о которых я говорил раньше, связанными с платой за услуги, пятидесятиминутной сессией, плотным рабочим графиком. Не спросит ли пациент. «Вы любите меня?»; «Вам действительно есть дело до меня значит, вы принимали бы меня, если бы у меня не было денег?», «Терапия – это ведь купленные отношения?» Действительно, эти вопросы опасно близки к сфере самого сокровенного секрета психотерапевта, состоящего в том, что встреча с пациентом играет относительно небольшую роль в жизни терапевта в целом. Как в пьесе Тома Стоппарда «Розенкранц и Гильденстерн мертвы», ключевая фигура одной драмы становится тенью в кулисах, в то время как терапевт немедленно выходит на подмостки другой драмы. Действительно, отрицание исключительности – одна из жестоких истин и плохо хранимых секретов терапии: у пациента один терапевт, у терапевта много пациентов. Терапевт намного важнее для пациента, чем пациент для терапевта. У меня есть только один ответ на подобные вопросы пациента: когда терапевт находится с пациентом, он полностью находится с ним; терапевт стремится дать другому все свое присутствие. Вот почему выше я подчеркивал важность непосредственного момента встречи. В то же время терапевту необходимо знать, что, хотя целью должна быть полная встреча, постоянный контакт на этом уровне невозможен. (Вспомните Бубера: «Мы не можем жить в чистом присутствии [то есть в Я‑Ты], это уничтожило бы нас».) Однако в течение сессии он неоднократно должен возвращать себя к полной вовлеченности в настоящий момент.
Я слушаю пациентку. Она говорит и говорит. Она кажется непривлекательной в любом смысле слова – физически, интеллектуально, эмоционально. Она раздражает. Многие ее жесты отвратительны. Она говорит не со мной, она говорит передо мной. А как она может говорить со мной, если я не здесь? Мои мысли бродят. Голова у меня трещит. Который час? Сколько еще осталось? Внезапно я упрекаю себя. Я даю встряску своему уму. Когда я думаю о том, сколько времени еще осталось до конца сессии, я всякий раз знаю, что обманываю свою пациентку. Тогда я пытаюсь прикоснуться к ней своими мыслями. Я пытаюсь понять, почему уклоняюсь от нее. Каков ее мир в этот момент? Как она себя чувствует на сессии? Как она воспринимает меня? Я задаю ей эти самые вопросы. Я говорю ей, что последние несколько минут чувствовал себя далеким от нее. Чувствовала ли она то же самое? Мы говорим об этом и пытаемся понять, почему мы потеряли контакт друг с другом. Вдруг мы становимся очень близкими. Она перестает быть непривлекательной. Я очень сочувствую ее личности, тому, что она есть, тому, чем она еще может стать. Часы спешат; сессия кончается слишком быстро.
«ОГЛАВЛЕHИЕ»
Часть IV БЕССМЫСЛЕННОСТЬ
10. КРИЗИС БЕССМЫСЛЕННОСТИ
"Представьте себе группу счастливых идиотов, занятых работой. Они таскают кирпичи в чистом поле. Как только они сложат все кирпичи на одном конце поля, сразу начинают переносить их на противоположный конец. Это продолжается без остановки, и каждый день, год за годом они делают одно и то же. Однажды один из идиотов останавливается достаточно надолго, чтобы задуматься о том, что он делает. Он хочет знать, какова цель перетаскивания кирпичей. И с этого момента он уже не так сильно, как раньше, доволен своим занятием.
Я идиот, который хочет знать, зачем он таскает кирпичи".
Эта предсмертная записка, эти последние слова, принадлежащие отчаявшейся душе, человеку, который убил себя, потому что не видел смысла в жизни, служат достойным введением в проблему, действительно представляющую собой вопрос жизни и смерти.
Этот вопрос принимает множество форм. В чем смысл жизни? В чем смысл моей жизни? Для чего мы живем? Чем мы живы? Если мы должны умереть, если ничто не сохраняется, то какой смысл имеет хоть что‑нибудь?
Мало кто мучился этими вопросами так, как Лев Толстой, который большую часть своей долгой жизни боролся с бессмысленностью. Его опыт (описанный в «Исповеди», автобиографическом отрывке) послужит для нас отправной точкой:
«Пять лет назад странное состояние ума начало овладевать мною: у меня были моменты растерянности, остановки жизни, как будто я не знал, как я должен жить, что я должен делать…Эти остановки жизни всегда возникали с одним и тем же вопросом: „почему?“ и „зачем?“…Эти вопросы со все большей настойчивостью требовали ответа и, как точки, собирались в одно черное пятно».
Во время такого кризиса смысла или, как он это называл, «остановки жизни» Толстой задавался вопросом о значении всего, что он делает. Какой смысл, спрашивал он, управлять поместьем, учить сына? «Зачем? У меня сейчас шесть тысяч десятин в Самарской губернии и три тысячи лошадей – что дальше?». Он действительно хотел знать, для чего ему писать: «Ну, что если я буду более знаменитым, чем Гоголь, Пушкин, Шекспир, Мольер – чем все писатели в мире – ну и что? Я не мог найти ответа. Такие вопросы требуют немедленного ответа, без него невозможно жить. Но ответа не было никакого».
При распаде смысла Толстой переживал распад основ, на которые опиралась его жизнь: «Я чувствовал, что земля, на которой я стою, крошится, что мне больше не на чем стоять, то, ради чего я жил, оказалось ничем, что у меня нет причин жить… Правда была в том, что жизнь бессмысленна. Каждый день жизни, каждый шаг в ней подводил меня все ближе к пропасти, и я ясно видел, что нет ничего, кроме гибели».
В пятьдесят лет Толстой склонялся к самоубийству:
"Вопрос, который на пятидесятом году привел меня к намерению самоубийства, был самым простым из вопросов, лежащим в душе каждого человека от недоразвитого ребенка до мудрейшего из мудрецов: «Что произойдет из того, что я делаю сейчас и могу делать завтра? Что произойдет из всей моей жизни?» Выражая это иначе: «Почему я должен жить? Почему я должен чего‑то желать? Почему я должен что‑либо делать?» Снова иными словами: «Есть ли в моей жизни какой‑то смысл, который не будет разрушен неизбежной смертью, ждущей меня?».
К Толстому присоединяется легион других, переживших кризис смысла, терзаемых «остановкой жизни». Сошлемся на другой пример. Альбер Камю придерживался мнения, что единственный серьезный философский вопрос состоит в том, продолжать ли жить, когда бессмысленность человеческой жизни полностью постигнута. Он утверждал: «Я видел, как много людей умирает потому, что жизнь для них больше не стоила того, чтобы жить. Из этого я делаю вывод, что вопрос о смысле жизни – самый насущный».
Насколько часто пациенты с недугом, подобным боли Толстого, стремятся к терапии? Хотя не существует строгих и исчерпывающих статистических исследований, многие опытные клиницисты, восприимчивые к проблеме бессмысленности, утверждают, что этот клинический синдром встречается очень часто. К.Г.Юнг, например, считал, что бессмысленность препятствует полноте жизни и является «поэтому эквивалентом заболевания». Он писал: «Отсутствие смысла в жизни играет критическую роль в этиологии невроза. В конечном счете невроз следует понимать как страдание души, не находящей своего смысла… Около трети моих случаев – это страдание не от какого‑то клинически определимого невроза, а от бессмысленности и бесцельности собственной жизни».
Виктор Франкл утверждает, что 20 процентов неврозов, которые он встречает в клинической практике, – «ноогенного» происхождения, то есть возникают из‑за отсутствия смысла в жизни. Выводы Франкла основаны на его личных клинических впечатлениях и статистических исследованиях, к сожалению, оставшихся неопубликованными. Кризис бессмысленности, который еще не кристаллизовался в дискретную невротическую симптоматическую картину («экзистенциальный кризис») даже более распространен – по утверждению Франкла, он наблюдался у более чем 50 процентов его пациентов в венской больнице. Более того, Франкл, посвятивший свой профессиональный путь изучению экзистенциального подхода к терапии, с несомненностью пришел к выводу, что отсутствие смысла первостепенный экзистенциальный стресс. По его мнению, экзистенциальный невроз – синоним кризиса бессмысленности.
Другие психотерапевты придерживаются той же позиции. Сальваторе Мадди (Salvatore Maddi), например, в своем великолепном эссе о поиске смысла утверждает, что «экзистенциальная болезнь» происходит от «всеобъемлющей неудачи поиска смысла жизни». Мадди описывает «экзистенциальный невроз», когнитивным компонентом которого является «бессмысленность», или хроническая неспособность проникнуться истинностью, важностью, полезностью или интересностью чего‑либо, в чем человек участвует или может представить себя участвующим". Бенджамин Уолман (Behjamin Wolman) определяет экзистенциальный невроз аналогичным образом: «Неспособность найти смысл в жизни, чувство, что человеку не для чего жить, не за что бороться, не на что надеяться… он не может найти цель или направление в жизни, ощущение, что как ни выдыхайся на работе, вдохновляться нечем». С этим соглашается Николас Хоббс (Nicholas Hobbs): «Современная культура часто порождает вид невроза, отличный от описанного Фрейдом. Современные неврозы характеризуются не столько вытеснением и конверсией… отсутствием инсайта, но отсутствием цели, смысла в жизни».
Хотя такие клинические впечатления не могут считаться твердым доказательством, они, несомненно, наводят на мысль, что проблема смысла в жизни – значимая проблема, с которой терапевт должен часто встречаться в повседневной клинической работе. Психотерапия – дитя Просвещения. В основании ее всегда лежит задача неуклонного самоисследования. Терапевт должен честно принимать и исследовать фундаментальные вопросы, и вопрос смысла, этот самый неразрешимый, более всего ставящий в тупик вопрос, также не может отрицаться в терапии. Проявлять к нему селективное невнимание, отворачиваться от него или трансформировать его в какой‑то меньший, но более управляемый вопрос – все это «не работает». Но в каких пунктах программы профессиональной подготовки терапевт может узнать о развитии ощущения осмысленности жизни, о психопатологии бессмысленности или о психотерапевтических стратегиях, позволяющих помочь пациенту, переживающему кризис смысла?
Небольшая когорта терапевтов обращалась к этим вопросам в неофициальных работах или в литературе, находящейся вне основного потока терапевтической теории и практики. Данная глава поставит этих малоизвестных теоретиков в центр внимания и пополнит их ряды теми философами и художниками, чьи размышления о смысле жизни обладают клинической релевантностью. Ни одному великому мыслителю на всем протяжении истории не удалось удовлетворительно разрешить загадку смысла жизни. Неудивительно, что на этих страницах не содержится ни решения, ни синтеза многочисленных попыток найти решение, который был бы полностью оптимальным. Я пытаюсь лишь поднять сознание терапевта до вопроса смысла жизни и сделать обзор основных подходов, предпринятых другими. Я надеюсь, что терапевт, вооруженный знаниями об испытанных и прочных тропинках через трясину бессмысленности, будет действовать как информированный и творческий проводник пациента, страдающего от кризиса смысла.
ПРОБЛЕМА СМЫСЛА
Наша дилемма заключается в том, что два нижеследующих положения, оба истинные, представляются непримиримо противоположными:
Человеческое существо, по‑видимому, нуждается в смысле. Мы видели, что отсутствие в жизни смысла, целей, ценностей и идеалов вызывает значительные страдания. В острой форме они могут привести человека к решению покончить с собой. Франкл отмечает, что в концентрационном лагере индивид без ощущения смысла практически не выживал. Перед лицом смерти человек способен проживать «лучшую» жизнь, способен жить с полнотой и жаром, если он обладает определенной целью. Возникает впечатление, что нам нужны некие абсолюты – устойчивые идеалы, к которым мы можем стремиться, и направляющие ориентиры, на основании которых можно выстраивать жизнь.
Однако экзистенциальная концепция свободы, описанная в главах 6 и 7, утверждает, что единственный подлинно абсолютный факт заключается в отсутствии абсолютов. Согласно экзистенциальной точке зрения, мир случаен: все, что есть, могло быть иначе; человеческие существа конституируют себя, свой мир и свою ситуацию в мире; никакого «смысла», никакого великого замысла вселенной, никаких направляющих жизненных ориентиров жизни не существует, за исключением тех, которые создает сам индивид.
Проблема в самой элементарной форме звучит так: как существо, нуждающееся в смысле, находит смысл во вселенной, не имеющей смысла?
СМЫСЛ ЖИЗНИ
Определения
«Смысл» и «цель» – это несколько разные вещи. «Смысл» обозначает ощущение значения, целостности, связности, некоего порядка. Это общий термин для того, что должно чем‑то выражаться. Поиски смысла подразумевают поиски связи. «Цель» относится к намерению, задаче, функции. Когда мы интересуемся целью чего‑либо, мы спрашиваем о его роли или функции. Что оно делает? Зачем?
Однако в традиционном понимании «цель» жизни и «смысл» жизни взаимозаменяемы, и соответственно я буду использовать их как синонимы. Еще один близкий термин – «значение». В одном понимании «значение» – то же самое, что и «смысл»; другое понимание этого слова несколько дезориентирует, поскольку подразумевает «важность», «значительность».
Вопрос о смысле жизни – это вопрос о космическом смысле, о том, существует ли для жизни в целом или хотя бы для человеческой жизни некая общая связная модель. Вопрос о смысле моей жизни – это другое, здесь речь идет о том, что некоторые философы называют «земным смыслом». Земной смысл («смысл моей жизни») включает в себя цель: человек, обладающий ощущением смысла, воспринимает жизнь как обладающую какой‑то целью или функцией, которую нужно выполнить, некой ведущей задачей или задачами для приложения себя.
Космический смысл подразумевает некий замысел, существующий вне и выше личности и обязательно предполагающий какое‑либо магическое или духовное упорядочение вселенной. Земной смысл может, как мы увидим, иметь совершенно секулярное основание – иначе говоря, у нас может быть личное ощущение смысла, не имеющее под собой никакого космического смыслового фундамента.
Если мы обладаем ощущением космического смысла, то обычно испытываем и соответствующее ощущение земного смысла, тогда смысл нашей жизни состоит в воплощении космического смысла, или гармонизации с ним. Например, можно представлять себе «жизнь» как симфонию, в которой каждой индивидуальной жизни предначертано сыграть партию какого‑то инструмента. (Конечно, может быть и так, что индивид верит в космический смысл, но не способен увидеть собственное место в этом грандиозном замысле или даже полагает, что в результате своего поведения утратил место в космическом порядке, в этих случаях индивид страдает в большей мере от переживания личной вины, или падения, чем от ощущения бессмысленности.)
Космический смысл
Иудео‑христианская религиозная традиция дала западному миру всеобъемлющую смысловую схему, основанную на принципе, что мир и человеческая жизнь являются частью божественно предопределенного плана. Божественная справедливость естественное следствие этого постулата, жизнь, прожитая как должно, будет вознаграждена. Смысл в жизни отдельного существа божественно предопределен задача каждого человека – понять и исполнить Божью волю. Как человеку узнать эту волю? Те, кто привержен фундаменталистскому подходу, верят, что Божий смысл содержится в святом слове, и следуя точному, буквальному толкованию Писания, можно прожить праведную жизнь. Другие уверены только в том, что человек должен иметь веру, что никому не дано точно знать определенный Богом смысл и остается довольствоваться намеками и догадками об этом или мыслью, что простои смертный не может надеяться познать Божественное провидение. «Ветвь, – сказал Паскаль в XVII веке, – не может надеяться узнать смысл дерева». Виктор Франкл развивает эту точку зрения с помощью аналогии с обезьяной, которую использовали в медицинском исследовании, чтобы найти эффективную противополиомиелитную сыворотку. Обезьяна страдала от сильной боли и, в силу своих когнитивных ограничений, не могла обнаружить смысл ситуации. То же самое, утверждает Франкл, происходит и с человеком – мы не можем рассчитывать на полное знание смысла, существующего в измерениях вне нашего понимания.
Другой взгляд на космический смысл акцентирует идею о том, что человеческая жизнь должна быть посвящена цели подражания Богу. Бог олицетворяет совершенство, следовательно, цель жизни – стремиться к совершенству. Из различных типов совершенства, к которому надо стремиться, высшей формой совершенства Аристотель (и начавшаяся с него рациональная интеллектуальная традиция) считал интеллектуальное совершенство. В понятиях Аристотеля, Бог – это «мысль, думающая сама себя», и человек приближается к божеству через совершенствование возможностей своего разума. В XII веке Моисей Маймонид в «Руководстве для растерянных» описал четыре принципиальных способа стремления к совершенству. Он отверг первый из них – совершенствование материальной собственности – как дело воображаемое и ненадежное, и второй – совершенствование тела – как не позволяющий провести различие между человеком и животным. Третий путь – нравственное совершенствование он находил заслуживающим похвалы, но ограниченным в том смысле, что он служит больше другим, чем самому человеку. Четвертый – совершенствование разума он считал «подлинно человеческим совершенствованием», через которое «человек становится человеком». Интеллектуальное совершенство конечная цель, оно позволяет человеку постичь Бога.
Представление о космическом смысле, основанное на религиозном видении мира, допускает огромное множество толкований цели жизни индивидуума – некоторые из них доктринерские, некоторые чрезвычайно образные. Например, в нынешнем веке Юнг, имевший глубоко религиозное мировоззрение, верил, что никто не может исцелиться или обрести смысл, пока вновь не обретет религиозную позицию. Юнг видел свою личную цель жизни в завершении Божественной работы творения.
«Человек совершенно необходим для завершения творения, по сути, он является вторым создателем мира, он один дает миру его объективное существование, без которого, неслышимый, невидимый, в молчании поглощающий пищу, дающий рождение, умирающий, дремлющий сквозь сотни миллионов лет, мир двигался бы в глубочайшей ночи небытия к своему неведомому концу».
Идея Юнга о том, что человек завершает работу творения и «ставит на него печать совершенства» – вывод, к которому приходили и другие. Раньше Гегель писал: «Без мира Бог не бог…Бог является Богом постольку, поскольку знает себя, а его знание себя – это его самосознание в человеке и человеческом знании о боге». А вот слова поэта XX века P.M. Рильке:
Что будешь делать без меня, Господь?
Сосуд я твой (ты можешь расколоть)
И дать мне сгнить (твоя я плоть).
Я твой наряд (ты можешь распороть),
Но ты при этом свой утратишь разум.*
Прагматический комментарий Томаса Манна откликается на эту мысль: «При образовании жизни из неорганического вещества конечным замыслом был именно человек. С ним начат великий эксперимент, неудача которого стала бы неудачей самого творения…Так это или нет, человеку хорошо бы вести себя так, как если бы это было правдой».
* Перевод А.И.Немировского.
Мысль Манна о том, что «конечным замыслом был именно человек», является центром системы представлений о творческом смысле, постулированной Пьером Тейяром де Шарденом, теологом XX века, который в своей замечательной книге «Феномен человека» сформулировал идею эволюционного синтеза. Тейяр де Шарден в своем законе «контролируемой сложности» высказал предположение о космической согласованности: жизнь – это единая сущность, весь живой мир – это "единый и гигантский организм,* подвергающийся воздействию эволюционного процесса, направление которого предопределено. Таким образом, вся эволюция является ортогенетическим процессом, и как конечный результат этого процесса для одиночного развивающегося организма детерминирован внутренними факторами организма, так же обусловлен предопределенными факторами и конечный результат космического эволюционного процесса – процесса, которому предназначено завершиться человеком в абсолютном состоянии любви и духовного единства.
* Идеи мира как единого организма придерживались многие первобытные куль туры; такой взгляд на мир преобладал в Западной Европе до XVI века. Подобное представление о космическом смысле давало прочное и вполне практическое ощущение земного смысла: каждый человек с рождения знал, что он является частью большей целостности и должен жить во благо мегаорганизма. Это позволило в XVIII веке Александру Поупу в его «Эссе о человеке» провозгласить, что «частичное зло служит универсальному добру».
Согласно Тейяру де Шардену, каждый индивид, играя свою особую роль в общем предприятии, обладает личным ощущением смысла: «Хотя только малая часть тех, кто пытается добраться до высот человеческого достижения, подходит сколько‑нибудь близко к вершине, крайне необходимо, чтобы поднимающихся было много. Иначе вершины может не достигнуть никто. Многочисленные заблудившиеся и забытые прожили не зря, ведь они тоже совершили попытку подняться». Следовательно, существует совместный, общий вход в царство сверхчеловеческого. «Врата будущего примут только всех вместе, продвигающихся в направлении, где все вместе смогут соединиться и осуществить себя в духовном обновлении земли».
Секулярный личный смысл
Личный смысл в отсутствие космического смысла. Людей чрезвычайно утешает вера в существование некоего высшего целостного плана, в котором каждый индивид играет свою особую роль. Она дает человеку не только цель и роль, но также набор инструкций о том, как ему следует прожить жизнь. Космические религиозные взгляды составляли фундаментальную часть системы верований в западном мире в период времени, закончившийся примерно триста лет назад, когда эти воззрения начали подвергаться натиску как со стороны расцветающего научного подхода, так и с позиций кантовского сомнения в существовании фиксированной объективной реальности. Чем больше ставилось под сомнение существование чего‑либо непостижимого для человека сверхъестественного или иного абстрактного абсолюта, – тем труднее становилось людям воспринимать космическую смысловую систему.
Но смысловые системы нельзя отвергать без какого‑либо заменителя. Вероятно, мы можем обойтись без ответа на вопрос, почему мы живем, но нам нелегко было бы так же поступить с вопросом о том, как нам жить. Современные светские люди должны решать задачу нахождения некоего направления в жизни в отсутствие внешнего маяка. Как человеку построить для себя смысл, достаточно прочный, чтобы поддерживать его жизнь?
Смысл в абсурдном мире. Камю и Сартр. Позвольте мне начать с исследования вклада Альбера Камю и Жан‑Поля Сартра, двух выдающихся мыслителей, которые сумели «вписать» нас в угол бессмысленности в XX веке. Как они обращались с проблемой смысла жизни?
Камю использовал слово «абсурд» для описания фундаментальной ситуации человека в мире – ситуации запредельного миру ищущего смысл существа, которое вынуждено жить в мире, не имеющем смысла. Камю утверждал, что мы нравственные существа, требующие от мира основы для нравственного суждения, то есть смысловой системы, в которой есть эксплицитная калька ценностей. Но мир ее не предоставляет, он полностью безразличен к нам. Напряжение между устремлением человека и безразличием мира и есть то, что Камю называл «абсурдной» человеческой ситуацией.
Но что нам тогда делать? Нет ориентиров? Нет ценностей? Ничего правильного и неправильного? Нет добра и зла? Если нет абсолютных критериев, тогда ничто не является более важным или менее важным, все безразлично. В своих романах «Счастливая смерть» и «Посторонний» Камю изобразил индивидов, живущих в состоянии ценностного нигилизма. Мерсо из «Постороннего» существует вне нравственного мира. «Мне все равно», – то и дело говорит он. Он присутствует на похоронах своей матери, спаривается, работает и убивает араба на пляже все в том же состоянии глубокого безразличия.
Раньше, в своем эссе «Миф о Сизифе» Камю исследовал свою внутреннюю напряженность между нигилизмом и этическими требованиями и постепенно начал создавать новое, секулярное, основанное на гуманизме видение личного смысла жизни и вытекающую из него систему жизненных ориентиров. Согласно его новой позиции, мы можем созидать новый смысл жизни, любя свои «ночи отчаяния», погружаясь в водоворот бессмысленности и достигая позиции героического нигилизма. Камю считал, что человек может полностью осуществиться, лишь живя с достоинством перед лицом абсурдности. Безразличие мира может быть преодолено бунтом, гордым бунтом человека против собственной ситуации. «Нет ничего равного зрелищу человеческой гордости». «Нет судьбы, которую нельзя победить презрением».
Дальнейшее формирование взглядов Камю происходило под влиянием второй мировой войны, когда он участвовал во французском Сопротивлении; подлинный бунт против абсурда он видел как братский бунт – бунт во имя солидарности людей. В романе «Чума» Камю описал множество человеческих реакций на чуму (эпидемия чумы, о которой идет речь в книге, является метафорой нацистской оккупации Франции и, сверх того, всех форм несправедливости и бесчеловечности). Персонаж, который, по‑видимому, наилучшим образом олицетворяет идеализированный образ "я" автора – доктор Риэ, неутомимый борец с чумой, неизменно проявляющий мужество, энергию, любовь и глубокую эмпатию по отношению к многочисленным жертвам чумы.
Подводя итог, скажем, что Камю начал с позиции нигилизма – позиции, на которой его приводило в отчаяние отсутствие смысла (и следовательно, отсутствие цели и ценностей) в мире – и скоро добровольно принял систему личного смысла, систему, которая включает в себя ясные ценности и руководства для поведения: мужество, гордый бунт, братскую солидарность, любовь, светскую святость.
Сартр провозглашал бессмысленность мира с большей безоговорочностью, чем какой‑либо другой философ нынешнего века. По поводу смысла жизни он высказывается лаконично и жестко: «Все сущее рождено без причины, продолжается в слабости и умирает случайно…Бессмысленно то, что мы рождаемся, бессмысленно, что умираем». Взгляд Сартра на свободу (обсуждавшийся мною в главе 6) не оставляет места ни для ощущения личного смысла, ни для каких‑либо ориентиров в выборе поведения; неудивительно, что многие философы сильно критиковали философскую систему Сартра прежде всего из‑за отсутствия в ней этического компонента. Смерть Сартра в 1980 г. завершила его чрезвычайно продуктивный профессиональный путь, и давно обещанный им трактат по этике уже никогда не будет написан.
Однако в своей беллетристике Сартр часто изображал индивидов, находящих, для чего им жить и на что опираться в жизни. Сартровское изображение Ореста, героя пьесы «Мухи» (Les Mouches), особенно поучительно в этом смысле. Орест, выведенный из Аргоса, совершает путешествие домой, чтобы найти свою сестру Электру, и они вместе мстят за убийство своего отца (Агамемнона), убивая его убийц – их мать Клитемнестру и ее мужа Эгисфа. Несмотря на открытые заявления Сартра о бессмысленности жизни, эту пьесу можно воспринимать как повествование о паломничестве к смыслу. Давайте последуем за Орестом, находящимся в поиске ценностей, которые могли бы стать основой для жизни. Сначала Орест ищет смысла и цели в возвращении к дому, корням и товариществу:
«Попытайся понять: я хочу быть человеком, который принадлежит какому‑то месту, человеком среди товарищей. Только подумай. Даже раб, согнувшийся под своим грузом, падающий от усталости и тупо смотрящий на землю у своих ног, ведь даже этот бедный раб может сказать, что он в своем городе, как дерево в лесу или лист на дереве. Вокруг него Аргос, теплый, плотный и утешительный. Да, Электра, я бы с радостью был этим рабом и наслаждался этим чувством натягивания на себя города, как одеяла, и заворачивания себя в него».
Позже он начинает сомневаться в том, что управлял своей жизнью, и осознает, что всегда делал так, как они (боги) хотели, потому что стремился обрести покой в существующем положении вещей.
"Значит, это правильно. Жить в покое, всегда в совершенном покое. Понимаю. Всегда говорить «простите меня» и «благодарю вас». Этого хотят, а? Правильно. Их «Правильно».
А вот момент пьесы, когда Орест расстается со своей прежней смысловой системой и входит в кризис бессмысленности:
«Какая перемена произошла во всем… До сих пор я чувствовал что‑то теплое и живое вокруг меня, как дружеское присутствие. Это что‑то только что умерло. Какая пустота. Какая бесконечная пустота».
Орест в этот момент совершает скачок, который совершил Сартр в своей личной жизни – не в веру (хотя его аргументы едва ли можно назвать более здоровыми, чем при скачке в веру), но во «включенность», в действие, в проект. Он прощается с идеалами комфорта и безопасности и со свирепостью крестоносца устремляется к своей новообретенной цели:
«Слушай, есть другой путь – мой путь. Разве ты не видишь его? Он начинается здесь и ведет в город. Я должен спуститься в глубины к вам. Потому что вы все живете на дне ямы… Подожди. Дай мне сказать „прощай“ всей легкости, воздушной легкости, которая была моей…Идем, Электра, смотри на наш город…Он отгоняет меня своими высокими стенами, красными крышами, запертыми дверьми. И все же он моя добыча. Я превращусь в топор и изрублю эти стены на куски…»
Новая цель Ореста быстро обретает форму, и он принимает на себя бремя, подобное бремени Христа:
«Слушай, все эти люди, трясущиеся от страха в своих темных комнатах, – предположим, я беру на себя все их преступления. Предположим, я намерен снискать имя „похитителя вины“ и взвалить на себя все их угрызения совести»
Позже Орест, бросая открытый вызов Зевсу, убивает Эгисфа. Его слова в это время указывают на ясное ощущение цели, он выбирает справедливость, свободу и достоинство и показывает, что знает, что в жизни «правильно».
«Какое мне дело до Зевса? Справедливость – дело человеческое, и у меня нет Бога, который учил бы меня ей. Это правильно – истребить тебя, как грязную скотину, какой ты являешься, и освободить людей от твоего злого влияния. Это правильно – вернуть им их чувство человеческого достоинства».
И он рад обрести свою свободу, свою миссию и свой путь. Хотя на Оресте теперь лежит бремя убийства собственной матери, это все же лучше, чем не иметь никакой миссии, никакого смысла, бессмысленно брести по жизни.
«Чем тяжелее его нести, тем приятнее мне будет, потому что это бремя моя свобода. Только вчера я наудачу бродил по земле, я топтал тысячи дорог, которые вели меня в никуда, потому что были дорогами других людей…Сегодня у меня только один путь, и лишь небу известно, куда он ведет. Но это мой путь».
Потом Орест находит еще один – согласно Сартру, важный смысл: абсолютного смысла нет, он одинок и должен творить свой собственный смысл. Зевсу он говорит:
«Вдруг из синевы на меня обрушилась свобода и сбила меня с ног. Моя юность улетела с ветром, и я знаю, что я один… и ничего не осталось на небесах, ни правильного, ни неправильного, ни того, кто отдавал бы мне приказания…Я обречен не иметь закона, кроме своего собственного…Каждый человек должен найти свой путь».
Он предлагает открыть глаза горожанам, но Зевс возражает, если Орест сорвет пелену с их глаз, «они увидят свою жизнь такой, как она есть – отвратительной и ничтожной». Но Орест настаивает, что они свободны, что для них правильно взглянуть в лицо своему отчаянию, и произносит знаменитый экзистенциальный манифест: «Человеческая жизнь начинается на дальнем конце отчаяния».
И о последней цели – самореализации – речь заходит тогда, когда Орест берет за руку свою сестру, чтобы начать их путешествие. Электра спрашивает: «Куда?» и Орест отвечает.
«К самим себе. За рекой и горами Орест и Электра ждут нас, и мы должны проделать свои упорный путь к ним».
Таким образом, Сартр – тот самый Сартр, который говорит, что «человек – это бесполезная страсть» и «бессмысленно, что мы живем, бессмысленно, что умираем», – в своей беллетристике явно признает ценность поиска смысла и даже иногда предлагает определенные пути этого поиска. К таким путям относятся нахождение «дома» и товарищей в мире, действие, свобода, бунт против угнетения, служение другим, просвещение, самореализация и включенность – всегда и прежде всего включенность.
Но почему эти смыслы нужно воплощать? На этот вопрос у Сартра нет ответа. Несомненно, смыслы не имеют божественного предопределения, они не приходят «оттуда», ведь Бога нет, и ничто не существует «там», вне человека. Орест просто говорит: «Я хочу принадлежать», «Это правильно» – служить другим, восстановить достоинство человека или избрать свободу, каждый человек «должен» найти собственный путь, должен совершить путешествие к самому себе, к полностью осуществившемуся Оресту, который ждет его. Слова «хочу», «это правильно» или «должен» совершенно произвольны и не могут служить фундаментом человеческого поведения, однако, по‑видимому, ничего лучшего Сартр не нашел. Он, вероятно, согласен с прагматической позицией Томаса Манна в процитированном раньше отрывке: «Так это или нет, человеку хорошо бы вести себя так, как если бы это было правдой».
И для Сартра, и для Камю важно, чтобы люди осознали, человек должен создать свои собственный смысл (а не обнаружить смысл, данный Богом или природой) и затем полностью посвятить себя его воплощению. Это требует того, чтобы человек был, как говорит Гордон Олпорт, «уверен наполовину и предан всем сердцем» нелегкого подвига. Этика Сартра требует скачка во включенность. В этом единственном пункте сходятся многие западные теологические и эстетические экзистенциальные системы: погрузиться в поток жизни – это хорошо и правильно.
Теперь я хотел бы перейти к рассмотрению тех секулярных действий, или состояний действия, которые дают человеку ощущение жизненной цели. Эти состояния основаны на тех же аргументах, какие Сартр выдвинул для Ореста, они представляются правильными, добрыми, они дают внутреннее удовлетворение и не нуждаются в оправдании с помощью какой‑либо иной мотивации.
Альтруизм. Сделать мир лучше для жизни, служить другим, участвовать в благотворительности (величайшая добродетель из всех) – эти действия правильны и хороши и дают жизненный смысл многим людям. Доктор Риэ у Камю и Орест у Сартра осуществили себя через служение один – ухаживая за жертвами чумы, а второй – выполняя роль похищающего вину дудочника, который открывает другим глаза на достоинство, свободу и благословенное отчаяние.
Моя клиническая работа с пациентами, умирающими от рака, дала мне возможность убедиться в важности смысловых систем для человеческого существования. Я то и дело замечал, что пациенты, испытывающие глубокое ощущение смысла своей жизни, живут более полно и встречают смерть с меньшим отчаянием, чем те, чья жизнь лишена смысла. (Юнг как‑то заметил: «Смысл делает переносимым великое множество вещей – может быть, все».) В своей критической ситуации мои пациенты опирались на несколько родов смысла, как религиозного так и светского, но ничто не оказалось более важным, чем альтруизм. Некоторые клинические случаи весьма показательны.
Сэл, тридцатилетний пациент, был энергичным и спортивным человеком, пока у него не развилась множественная миелома, болезненная, инвалидизирующая форма рака костей, от которой он умер два года спустя. В некотором смысле последние два года были самыми богатыми в жизни Сэла. Хотя он постоянно испытывал сильные боли и все его тело было заковано в гипс (из‑за множественных переломов), Сэл нашел великий смысл в жизни, став полезным многим молодым людям. Сэл ездил по окрестным школам и рассказывал подросткам о риске злоупотребления наркотиками, используя свой рак и вид своего явно разрушающегося тела в качестве мощного средства воздействия для выполнения своей миссии. Он был просто неотразим, вся аудитория трепетала, когда Сэл, в инвалидной коляске, застывший в своем гипсе, взывал: «Ты хочешь разрушить свое тело никотином, алкоголем или героином? Ты хочешь разбить его вдребезги в автомобилях? Ты в депрессии и хочешь сбросить его с моста Золотые ворота? Тогда отдай свое тело мне! Пусть оно будет моим! Я хочу его! Я возьму его! Я хочу жить!»
Ева, пациентка, умершая от рака яичников в возрасте немного за пятьдесят, жила необыкновенно наполненной жизнью, в которой альтруистическая деятельность всегда давала ей сильное ощущение жизненной цели. Так же она встретила и свою смерть, и хотя мне неловко использовать такое словосочетание, ее смерть можно охарактеризовать только как «хорошую смерть». Почти каждый, контактировавший с Евой в последние два года ее жизни, почувствовал себя обогащенным. Когда она впервые узнала, что у нее рак, и позже – когда ей сказали, что он распространяется и прогноз фатален, ее охватило отчаяние, но она быстро справилась с ним и погрузилась в альтруистическую деятельность. Она делала волонтерскую работу в больничной палате для безнадежно больных детей. Ева подробно изучила ряд благотворительных организации, чтобы принять обдуманное решение, как распорядиться своим имуществом. Многие старые друзья избегали тесного общения с ней, после того как у нее развился рак. Ева регулярно обращалась к каждому из них, чтобы сказать, что понимает причину их отчуждения, не таит никакого недовольства, но все же им было бы полезно, перед лицом собственной смерти, поговорить об их чувствах к ней.
Последний онколог Евы, доктор Л. был холодным человеком в металлических очках, который сидел за столом размером с футбольное поле и печатал историю болезни Евы, пока она говорила с ним. Хотя доктор Л. был исключительно умелым технически, Ева подумывала о смене врача, чтобы найти кого‑нибудь более теплого и более заботливого. Однако она решила остаться с ним и сделать своей последней жизненной задачей «очеловечивание доктора Л.». Она требовала от него больше времени, просила, чтобы он не печатал, когда слушает ее. Она сочувствовала его положению: как, наверное, тяжело видеть, что многие пациенты умирают – у врачей его специальности умирают почти все пациенты. Незадолго до смерти она видела два сна, о которых рассказала мне и доктору Л. В первом из них он был в Израиле, но не мог набраться решимости посетить музей Холокоста. Во втором сне она находилась в больничном коридоре, и группа врачей (в том числе доктор Л.) очень быстро уходила от нее. Она побежала за ними и сказала им: «Ладно. Я понимаю, что вы не можете справиться с моим раком. Я прощаю вас, все в порядке. Вполне нормально, что вы так себя чувствуете». Настойчивость Евы победила, и в конце концов она получила награду, сломав барьеры доктора Л. и установив с ним глубокий человеческий контакт.
Она была в группе поддержки пациентов, страдающих метастатическим раком, и до самого конца видела смысл жизни в том, что ее отношение к собственной смерти может представлять ценность для многих других пациентов, для которых ее жажда жизни и мужественное отношение к смерти могут послужить образцом в собственных жизни и смерти. Одна из этих пациенток, Маделейн Сомон, чудесная поэтесса, написала эти стихи, чтобы прочесть в память Евы:
Дорогая Ева,
Всякий раз, когда с моря дует ветер,
Соленый и сильный,
Ты здесь.
Воспоминание о твоей любви к вершинам холмов
И сильном прибое твоего смеха
Смягчает мою печаль о твоем уходе
И успокаивает в мысли о моем.
«Успокаивает в мысли о моем» – это прекрасно выражает важный источник смысла для многих людей перед лицом смерти. Задача быть моделью для других, особенно для своих детей, помочь им уменьшить или устранить страх смерти может наполнять жизнь смыслом до самого момента смерти. Человек продолжается в своих детях и детях детей и так далее в великой цепочке бытия. Несомненно, Ева оказала на меня глубочайшее влияние, и тем самым стала причастна к процессу, в котором я нахожу свой смысл, передавая ее дар моим читателям.
Альтруизм составляет важный источник смысла для психотерапевтов – и, конечно, для всех помогающих профессионалов, – которые не только вкладывают себя, помогая росту своих пациентов, но и понимают, что рост одного человека вызывает эффект цепной реакции – выигрывают многие, имеющие отношение к этому пациенту. Этот эффект наиболее очевиден, когда пациент обладает широкой сферой влияния (является учителем, врачом, писателем, работодателем, администратором, управляющим персоналом, другим терапевтом), но правду сказать, это относится к каждому пациенту, потому что в своей повседневной жизни никто не может избежать множества встреч с другими. В собственной терапевтической работе я всякий раз пытаюсь исследовать это, изучая межличностные контакты пациентов, как тесные, так и случайные, обсуждая с ними, чего они хотят от других и как участвуют в жизни других.
Убежденность в том, что отдавать, быть полезным другим, делать мир лучше для других – хорошо, обеспечивает мощный источник смысла. Она имеет глубокие корни в иудеохристианской традиции и принимается как априорная истина даже теми, кто отвергает теистический компонент.
Преданность делу. «Тем, чем является человек, он стал благодаря делу, которое он сделал своим». Слова Карла Ясперса указывают другой важный секулярный источник жизненного смысла – преданность делу. Уилл Дюран (Will Durant), философ и историк, написал книгу «О смысле жизни», которая состоит из высказываний выдающихся людей об их собственном понятии смысла жизни. «Сквозная» тема этих высказываний – работа во имя некоего «мотива», или «дела».
В заключительных выводах Дюран излагает свою личную позицию:
«Соединиться с целым, трудиться для него телом и душой. Смысл жизни заключен в возможности, которую она нам дает, – создать нечто большее, чем мы сами, или способствовать его созданию. Это не обязательно семья (хотя это прямая и самая широкая дорога, какую природа в своей слепой мудрости предоставила даже самой простой душе), это может быть любая группа, способная пробудить к жизни все скрытое благородство индивида и явиться для него мотивом для работы – делом, которое не будет уничтожено его смертью».
Для человека эту роль могут играть различного рода мотивы – семья, государство, политическая или религиозная идея, светская религия вроде коммунизма и фашизма, научное предприятие. Но, как утверждает Дюран, важно, что «он [мотив] как источник жизненного смысла должен поднимать индивида над самим собой и включать его в сотрудничество внутри более широкого контекста».
«Преданность делу» как источник личного смысла многокомпонентна. Утверждение Дюрана содержит несколько аспектов. Во‑первых, возможен альтруистический компонент, когда человек находит смысл в содействии другим. Многие мотивы имеют альтруистический фундамент, причем могут быть непосредственно связаны со служением, а могут выливаться в более сложные тенденции, в конечном счете имеющие утилитарную направленность («наибольшее благо для наибольшего числа людей»). Представляется важным, чтобы смыслопорождающая деятельность «поднимала индивида над самим собой», даже если в ней нет явного альтруизма. Эта концепция превосхождения себя, «самотрансцендирования» – центральная в конструктах смысла жизни и будет обсуждаться на ближайших страницах. Однако когда Дюран говорит о мотиве, который «не будет уничтожен смертью», или о становлении человека как части «чего‑то большего, нежели он сам», он адресуется преимущественно к другим проблемам (превосхождению смерти, тревоге изоляции и беспомощности), чем к бессмысленности как таковой.
Творчество. Как большинство из нас согласится с тем, что служение другим и преданность мотиву дают ощущение смысла, так мы согласимся и с тем, что творческая жизнь осмысленна. Создание чего‑то нового, чего‑то, отмеченного новизной или красотой и гармонией – мощное противоядие ощущению бессмысленности. Творчество оправдывает само себя, оно игнорирует вопрос «зачем?», оно само есть «оправдание собственного существования». Это правильно – творить, и правильно посвящать себя творению.
Ирвинг Тэйлор (Irving Taylor) утверждает, что творческие личности, работавшие в ситуациях огромных личных трудностей и величайших социальных ограничений (достаточно вспомнить Галилея, Ницше, Достоевского, Фрейда, Китса, сестер Бронте, Ван Гога, Кафку, Вирджинию Вульф), вероятно, обладали настолько развитой способностью саморефлексии, что острее большинства из нас ощущали экзистенциальную ситуацию человека и космическое безразличие вселенной. Вследствие этого они острее переживали кризис бессмысленности и с яростью, рожденной отчаянием, погружались в творческие усилия. Бетховен с определенностью говорил, что искусство удерживает его от самоубийства. В возрасте тридцати двух лет, в отчаянии из‑за своей глухоты, он написал: «Мало что удерживает меня от того, чтобы положить конец моей жизни. Только искусство держит меня. Увы, кажется, мне невозможно покинуть мир раньше, чем я сделаю все, что чувствую себя предрасположенным сделать, и поэтому я влачу эту жалкую жизнь».
Творческий путь к смыслу никоим образом не является уделом лишь художников. Научное открытие – это творческий акт высшего порядка. Даже к бюрократии можно подходить творчески. Ученый‑исследователь, сменивший область деятельности, описал важность и осуществимость творческого подхода на административном посту.
«Если вы вступаете в область администрирования, вы должны верить, что оно само по себе есть творческая деятельность и что ваша цель – это нечто большее, чем содержание в чистоте своего письменного стола. Вы посредник и арбитр, вы пытаетесь справедливо обходиться со множеством разных людей, но вам также случается иметь идеи, случается убеждать людей, что ваши идеи важны, и видеть их воплощающимися в реальность…Во всем этом есть нечто волнующее. И в исследовательской работе, и в администрировании источником душевного подъема, волнения является творческая энергия. Без нее ничего не происходило бы. Что касается меня, то я думаю, что администрирование более волнующая вещь, чем научное исследование».
Творческий подход к обучению, к приготовлению пищи, к игре, к учебе, к бухгалтерии, к садоводству добавляет к жизни нечто ценное. Условия работы, подавляющие творчество и превращающие человека в автомат, всегда порождают неудовлетворенность вне зависимости от уровня зарплаты.
Когда мою знакомую, скульптора, спросили, находит ли она радость в своей работе, она указала еще на одну грань творчества – открытие "я". Ее произведения отчасти создавались бессознательными силами, находящимися внутри нее. Каждая новая вещь была творческой вдвойне: как произведение искусства и как открытые ею новые внутренние перспективы.
Этот расширенный взгляд на творчество оказался исключительно полезен композитору, обратившемуся за терапией, потому что приближение пятьдесят пятого дня рождения побудило его исследовать свою жизнь – и в результате прийти к заключению, что он мало что сделал в своей области. У него было глубокое ощущение бесцельности и убеждение, что ни одно из его достижений не имеет прочной ценности. Он искал терапии, чтобы повысить свои профессиональные творческие возможности, в то же время зная, что его талант композитора ограничен. Терапия была непродуктивной, пока я не расширил концепцию творчества, включив в нее всю его жизнь. Он стад осознавать, насколько задавленной была его жизнь во многих сферах. Во‑первых, более тридцати лет он был связан неудачным браком, не будучи в состоянии ни изменить, ни расторгнуть его. Терапия сдвинулась с места, когда мы переформулировали его первоначальный запрос: «Как можно проявить творчество в создании нового стиля жизни для себя?»
Творчество и альтруизм частично перекрываются во многих людях, которые стремятся быть творческими, чтобы улучшить состояние мира, открыть красоту, не только ради нее самой, но и для удовольствия других. Творчество также может играть важную роль в любовных отношениях: вызвать к жизни нечто в другом – это одновременно проявление зрелой любви и творческого процесса.
Гедонистическое решение. Преподаватель философии попросил студентов написать эпитафии самим себе. Часть наиболее характерных высказываний оказались следующего рода:
"Здесь лежу я, не нашедший смысла,
но чья жизнь все время была удивительной"
или
"Пролейте слезы о том, кто живет умирая,
Не лейте слез обо мне, потому что я умер живя".
Здесь выражена точка зрения, согласно которой цель жизни состоит просто в том, чтобы жить полно, сохранять свое чувство удивления чудом жизни, погрузиться в естественный ритм жизни, искать удовольствия в глубочайшем возможном смысле. Недавно вышедший учебник гуманистической психологии резюмирует эту идею так: «Жизнь – это подарок. Возьмите его, разверните его, поблагодарите за него, пользуйтесь и наслаждайтесь им».
У этой точки зрения богатая, традиция. В «Филебусе» Платона содержится дискуссия о надлежащей цели каждого человека. Согласно одной точке зрения, человек должен стремиться к уму, знанию и мудрости. Противоположное воззрение состоит в том, что удовольствие является единственной истинной целью в жизни. Такая гедонистическая точка зрения имела множество сторонников со времен Эудокса и Эпикура в третьем и четвертом веках до н.э., до Локка и Милля в семнадцатом и восемнадцатом веках и до наших дней. Гедонисты приводят сильные аргументы в пользу того, что удовольствие как самоцель является удовлетворительным и достаточным объяснением человеческого поведения. По их мнению, человек строит планы на будущее и предпочитает один образ действий другому, если и только если он думает, что так ему будет приятнее (или менее неприятно). Гедонистическая схема обладает большой мощью, потому что она эластична и может включить в себя любую другую смысловую схему. Такая активность, как творчество, любовь, альтруизм, преданность мотиву могут рассматриваться как значимые благодаря тому, что они в конечном счете доставляют удовольствие. Даже поведение, казалось бы. нацеленное на боль, неудовольствие или самопожертвование, может быть гедонистическим, поскольку человек может рассматривать его как «капиталовложение» в удовольствие. Это пример дани, которую принцип удовольствия платит принципу реальности – временный дискомфорт, обещающий дивиденды удовольствия в будущем.
Самоактуализация. Еще один источник личного смысла убеждение, что люди должны стремиться актуализировать себя, что они должны посвящать себя реализации своего врожденного потенциала (см. главу 6, где я обсуждаю концепцию самоактуализации в контексте ответственности.)
Понятие «самоактуализации» – это современная формулировка древней идеи, высказанной еще Аристотелем в четвертом веке до н. э. в связи с его системой телеологической причинной связи. У Аристотеля эта идея выглядела как доктрина внутренней обусловленности, согласно которой надлежащая цель или задача каждого объекта и каждого существа заключается в том, чтобы осуществиться, реализовать собственное бытие. Так, желудь реализован в дубе, а ребенок – в полностью актуализированном взрослом.
Позднее христианская традиция поставила акцент на самосовершенствовании и предложила образ Христа богочеловека – как образец для подражания тем, кто стремится усовершенствовать свою богоданную сущность. «Подражание Христу» – религиозный труд Фомы Кемпийского, написанный в XV веке, по влиянию на верующих вторая после Библии книга, – а также многочисленные книги о жизни святых давали примеры для жизни целым поколениям христиан, особенно тем из них, кто был образован, вплоть до нашего времени.
В сегодняшнем секулярном мире понятие самоактуализации принадлежит гуманистической индивидуалистической теории. Персонаж Сартра Орест отправляется в путешествие не к Богу, а к потенциальному, полностью актуализированному Оресту, ждущему его.
Особенно значимую роль самоактуализация играет в подходе Абрахама Маслоу, который исходит из того, что человек обладает склонностью к росту и целостности личности, а также неким врожденным «личностным профилем», состоящим из уникального набора характеристик, и инстинктивным устремлением к их проявлению. Согласно Маслоу, у человека имеется иерархия встроенных мотивов. С точки зрения выживания, первоочередными из них являются физиологические. Если они удовлетворены, индивид может заняться удовлетворением потребностей более высокого порядка – в надежности и безопасности, любви и причастности, самобытности и самоуважении. Когда и эти потребности удовлетворены, то индивид обращается к удовлетворению потребностей в самоактуализации, состоящих из когнитивных потребностей – в знании, инсайте, мудрости – и эстетических потребностей – в симметрии, согласованности, интеграции, красоте, медитации, творчестве, гармонии.
Теоретики самоактуализации выдвигают представление об эволюционной нравственности. Например, Маслоу утверждает, что «человек устроен так, что стремится ко все более полному бытию, а это означает стремление к тому, что многие люди назвали бы „хорошими ценностями“: к спокойствию, доброте, мужеству, честности, любви, бескорыстию и добродетели». Таким образом, Маслоу отвечает на вопрос «Для чего мы живем?», утверждая, что мы живем для того, чтобы осуществить свой потенциал. Он отвечает заодно и на вопрос «Чем мы живем?», заявляя, что хорошие ценности, по существу, встроены в человеческий организм и если человек доверится мудрости своего организма, он интуитивно обнаружит их.
Таким образом, согласно Маслоу, актуализация – это естественный процесс, единственный основной, «организменный» процесс в человеке, и для ее осуществления не требуется какая‑либо социальная структура. Более того, Маслоу рассматривает общество как препятствие для самоактуализации – слишком часто оно заставляет индивидов отказываться от своего уникального личностного развития, получая взамен плохо подходящие социальные роли и удушающую конвенциальность. Я вспоминаю один старый психологический текст, в котором я когда‑то видел две помещенные рядом картинки. Одна изображала детей, играющих друг с другом, во всей свежести и спонтанности, невинности и полноты жизни детства; вторая – толпу пассажиров нью‑йоркского метро с пустыми взглядами и пятнистыми серыми лицами, безжизненно качающимися под ремнями и поручнями вагона. Под картинками была общая простая подпись: «Что случилось?»
Самотрансцендирование. Последние два типа смысла (гедонизм и самоактуализация) отличаются от предыдущих (альтруизм, преданность мотиву и творчество) в одном важном аспекте. Гедонизм и самоактуализация выражают заботу о собственном "я", тогда как остальные связаны с глубинной жаждой человека превзойти самого себя и устремиться к чему‑то или кому‑то вовне или «выше» самого себя.
Давняя традиция западной мысли предостерегает нас от не‑трансцендентной жизненной цели. Например, Бубер при обсуждении хасидского мировоззрения отмечает, что, хотя человек должен начинать с самого себя (обратиться к собственному сердцу, обрести внутреннюю цельность, найти свой индивидуальный жизненный смысл), он не должен заканчивать собой. Далее необходимо, утверждает Бубер, лишь задать вопрос «Зачем?» Зачем мне находить свой особый путь? Зачем мне делать цельным свое бытие? Ответ таков: «Не ради себя самого». Человек начинает с себя, чтобы потом забыть себя и погрузиться в мир; мы постигаем себя не для того, чтобы стать полностью поглощенными собой.
Критически важная концепция в еврейской мистической традиции – «поворот». Если человек грешит, а затем отворачивается от греха – к миру и к осуществлению какой‑то богоданной задачи, он считается несравненно просветленным, превосходящим даже самого благочестивого и праведного человека. Если же, напротив, человека продолжают одолевать чувства вины и сожаления, он считается погрязшим в эгоизме и низости. Бубер пишет: «Отойти от зла и делать добро. Ты поступил дурно? Так нейтрализуй это, сделав добро».
Существенный момент у Бубера состоит в том, что в жизни человека содержится смысл, включающий много больше, нежели спасение его отдельной души. Более того, чрезмерная заинтересованность в получении «видного» персонального места в вечности может привести к утрате этого места.
Виктор Франкл приходит к аналогичной точке зрения и высказывает серьезные возражения против современного акцента на самоактуализации. По его мнению, чрезмерная озабоченность самовыражением и самоактуализацией приходит в противоречие с подлинным жизненным смыслом. Он часто иллюстрирует эту идею с помощью метафоры бумеранга, возвращающегося к охотнику, метнувшему его, только в том случае, если не попадает в цель: точно так же люди возвращаются к занятости собой, только если они упустили свой жизненный смысл. Он использует также метафору человеческого глаза, который видит себя или что‑то в себе (то есть видит какой‑то объект в хрусталике, или в водянистом теле, или в стекловидном теле) только тогда, когда неспособен видеть вовне себя.
Опасности позиции, не предполагающей самотрансцендирования, выхода за пределы, преодоления своих границ, особенно очевидны в межличностных отношениях. Чем больше человек сосредоточивается на себе, например, в половых отношениях, тем меньше его конечное удовлетворение. Тот, кто наблюдает за самим собой, беспокоится прежде всего о собственном возбуждении и разрядке, является вероятным кандидатом на сексуальную дисфункцию. Франкл считает – я полагаю, вполне верно, – что идеализируемое ныне «самовыражение», если оно превращается в самоцель, часто делает осмысленные отношения невозможными. В любовных отношения главное – не свободное самовыражение (хотя оно может быть важным ингредиентом), а выход за пределы самого себя и забота о бытии другого.
Маслоу использует другой язык, чтобы выразить ту же мысль. По его мнению, полностью актуализированная личность (малый процент популяции) не слишком занята «самовыражением». Такой человек обладает прочным ощущением своего "я" и скорее «заботится» о других, чем использует их в качестве средства самовыражения или для заполнения личной пустоты. Самоактуализированные индивиды, согласно Маслоу, посвящают себя целям, которые находятся за их пределами. Они могут, например, работать над крупномасштабными глобальными проблемами – такими, как бедность, фанатизм или экология – или, в меньшем масштабе, заботьться о росте тех, с кем они живут.
Самотрансцендирование и жизненный цикл. Различные смыслообразующие виды жизненной активности отнюдь не являются взаимоисключающими; многие индивиды извлекают смысл из нескольких. К тому же, как много лет назад теоретически предсказал Эрик Эриксон (его теория полностью подтверждена проведенными в 1970‑х годах исследованиями жизненного цикла взрослых), в ходе индивидуального жизненного цикла происходит постепенная эволюция смыслов. Если в юности, в периоды ранней и средней взрослости наши интересы сконцентрированы на собственном "я" – мы стремимся обрести устойчивые представления о себе, сформировать близкие отношения и овладеть профессиональными навыками, – то на пятом или шестом десятке мы (если не потерпели неудачу в реализации более ранних задач развития) вступаем в стадию, когда жизненный смысл смещается за пределы нашего собственного "я". Эриксон определил эту стадию («генеративности») как «заинтересованность в формировании следующего поколения и направляющем руководстве им»; она может принять форму конкретных забот о своем потомстве или – шире – проявлений заботы и милосердия по отношению ко всему роду.
Джордж Вейлант (George Vaillant) в своем блестящем лонгитюдном исследовании студентов Гарварда сообщает о том, что успешные мужчины после сорока‑пятидесяти «меньше беспокоились о себе и больше о детях». Например, один пятидесятипятилетний испытуемый весьма характерно заявил: «Для меня всегда было важно передать эстафету и показать детям цивилизованные ценности, но с каждым прожитым годом это становится все важнее». Другой человек говорил:
«Мои проблемы сейчас гораздо меньше сосредоточены на мне самом. В 30‑40 лет они были вынужденно связаны со слишком большими запросами и слишком малыми деньгами, с тем, добьюсь ли я чего‑то в профессии, и т.п. После 45 проблемы становятся более философскими, более долгосрочными, менее личными…Меня волнует состояние человеческих отношений, а особенно наше общество. Я хотел бы, насколько могу, учить других тому, что знаю и умею».
Еще один испытуемый: «Я не планирую оставить за собой большой след, но становлюсь более упорным в своих попытках побудить город построить новую больницу, поддерживать школы и учить детей петь».
Смещение интересов в сторону самотрансцендирования отражается на профессиональных занятиях некоторых субъектов Вейланта. Один ученый, в возрасте между двадцатью и тридцатью придумавший новый метод изготовления отравляющего газа, в пятьдесят предпочел заняться поиском способов уменьшения загрязненности воздуха. Другой в молодости работал на военно‑промышленный комплекс и помогал рассчитывать радиус взрыва атомных боеголовок; в пятьдесят он первым создал учебный курс по гуманизму для колледжей.
В крупном лонгитюдном исследовании в Беркли, Калифорния, проведенном Нормой Хаан и Джеком Блоком (Norma Haan amp; Jack Block), тридцати– и сорокапятилетние индивиды сравнивались с самими собой в юности, и были получены те же выводы. Альтруизм и другие формы самотрансцендирующего поведения со временем усиливались. Индивиды в сорок пять были «более сочувствующими, дающими, продуктивными и надежными», чем в тридцать.
Многие исследования развития были посвящены прежде всего мужскому жизненному циклу и не уделяли достаточного внимания специфическим обстоятельствам жизни женщин. Недавно феминистская наука внесла важную коррективу. Женщины средних лет, например, предшествующие годы своей жизни посвятившие браку и материнству, стремятся осуществить иные смыслы, чем мужчины того же возраста. Традиционно ожидается, что женщины обслуживают прежде нужды других, чем свои собственные, живут отраженно, через мужей и детей, и играют в обществе материнские роли в качестве сиделок, медсестер, волонтеров* и благотворительниц. Альтруизм скорее навязывается им, чем является свободным выбором. Поэтому в то время, когда их ровесники‑мужчины добились успеха в миру и готовы обратиться к альтруистическим интересам, многие женщины средних лет оказываются заняты прежде всего собой, а не другими.
* Имеется в виду безвозмездное выполнение работы, связанной с уходом за кем‑либо и различной другой помощью нуждающимся. – Прим. переводчика.
Вклад Виктора Франкла
Самотрансцендирование, выход за пределы себя – одна из фундаментальных черт подхода Виктора Франкла к проблеме смысла, и поэтому сейчас весьма уместно рассмотреть некоторые взгляды Франкла на смысл и психотерапию.
Мало кто из клиницистов внес существенный вклад в понимание и использование роли смысла в психотерапии и фактически никто в своих публикациях не сохранил длительный интерес к этой сфере. Виктор Франкл – единственное исключение; с начала профессионального пути он сосредоточил свой интерес главным образом на роли смысла в психопатологии и психотерапии. Уроженец Вены и экзистенциально ориентированный психиатр, Франкл впервые использовал слово «логотерапия» (logos = «слово» или «смысл») в 1920‑е годы. Позже он в качестве синонима использовал термин «экзистенциальный анализ», но, чтобы избежать путаницы с другими экзистенциальными подходами (особенно подходом Людвига Бинсвангера), в последние годы стал называть свой подход, как в теоретическом, так и в терапевтическом контексте, «логотерапией». Хотя Франкл признает, что многие клинические проблемы обусловлены другими экзистенциальными конечными факторами, во всей своей работе он сохраняет исключительный акцент на смысле жизни. Говоря об экзистенциальном отчаянии, он имеет в виду состояние отсутствия смысла, говоря о терапии – процесс помощи пациенту в обретении смысла.
Прежде чем я начну обсуждать вклад Франкла, уместно сказать несколько слов о его методах и стиле презентации своих выводов. Несмотря на продуктивные результаты его работы и важный вклад в психотерапевтическую теорию, он не добился от академического сообщества того признания, какого заслуживает.
Отчасти такое пренебрежение может быть обусловлено содержанием идей Франкла – подобно многим вкладам в экзистенциальную терапию. они не могут найти признание в своем «респектабельном» академическом окружении. Логотерапия не принадлежит ни к психоаналитически ориентированным школам, ни к официальной психиатрии, ни к бихевиористски ориентированной академической психологии, ни даже к "поп "‑движению личностного роста. (Тем не менее у его книг широкая общая аудитория: продано более двух миллионов экземпляров его первой книги «Человек в поисках смысла».)
Кроме того, многие ученые считают метод Франкла чересчур наступательным. Его аргументы часто апеллируют к эмоциям, он убеждает, делает ex cathedra заявления, часто повторяется и бывает резким. Затем, хотя он заявляет, что секулярно подходит к проблеме смысла (утверждая, что как врач, давший клятву Гиппократа, он обязан разрабатывать методы лечения, применимые ко всем пациентам, в равной степени атеистам и верующим), нет сомнения, что подход Франкла к жизненному смыслу в основе своей религиозный.
* ex cathedra – непререкаемый (лат.).
Серьезным читателям при чтении Франкла нередко досаждает множество отступлений. Практически в каждой работе много места занимает самовозвеличивание: самоцитирование; напоминания о многих университетах, где он читал лекции, широте его знаний, множестве видных людей, поддерживающих его подход, количестве профессионалов, помогающих ему; приводятся случаи, когда аудитория студентов‑медиков бурно аплодировала ему во время интервью, заданные ему дурацкие вопросы и его сильные возражения. Работы последователей Франкла особенно малоинформативны: в них повторяются его замечания и идеализируется его личность.
Тем не менее я просил бы читателя проявить упорство. Франкл многое сделал, поставив проблему смысла перед терапевтом и высказав множество глубинных интуитивных идей о терапевтическом значении поиска смысла.
Он впервые изложил свои взгляды на роль смысла в психотерапии в книге «От лагеря смерти к экзистенциализму» (позднее переименована в «Человек в поисках смысла: введение в логотерапию»). В первой части этой книги Франкл описывает свое ужасное существование в Аушвице в 1943‑1945 гг., а во второй – систему терапии, возникшую из инсайта о том, что устойчивое ощущение жизненного смысла является решающим для выживания в концентрационном лагере. Его книга была написана на клочках бумаги, которые он добывал в лагере, она придавала смысл его жизни и тем самым являлась причиной для выживания. С того времени смыслом жизни Франкла стало «помогать другим найти свой смысл».
Базисные положения. Франкл начинает с оспаривания фрейдовских базисных законов мотивации, принципа гомеостаза, согласно которому человеческий организм непрестанно стремится сохранять внутреннее равновесие. Принцип удовольствия действует в направлении сохранения гомеостаза и имеет своей фундаментальной целью устранение напряжения. В начале жизни принцип проявляется в непосредственной, свободной от стыда форме; позже, по мере взросления индивида, когда принцип реальности требует отсрочки или сублимации вознаграждения, работа принципа удовольствия становится менее заметной.
Проблема теории, постулирующей некое врожденное влечение (в данном случае «влечение к удовольствию» или к «ослаблению напряжения»), состоит в том, что она в конечном счете является разрушительно редукционистской. С точки зрения такой теории, человек – это «не что иное, как…» (здесь может следовать любая из безграничного множества формулировок). Излюбленная формулировка Франкла такова: «Человек – не что иное, как сложный биохимический механизм, управляемый системой внутреннего сгорания, энергия которой питает компьютеры с огромными приспособлениями для хранения информации, оставшейся закодированной». Соответственно любовь, или альтруизм, или поиск истины, или красота – это «не что иное, как» выражение того или иного базового влечения в дуалистической теории. С этой редукционистской точки зрения, подчеркивает Франкл, «все культурные творения человечества становятся в буквальном смысле побочными продуктами влечения к личному удовлетворению».
Тяга к редукционизму в психологии имеет серьезные последствия для терапии. Человеческое поведение часто мотивируется бессознательными силами, и задача терапевта – выявить основополагающие психодинамики пациента. Но Франкл утверждает (и я полагаю, вполне корректно), что наступает время, когда это срывание масок необходимо прекратить. Материализм (то есть объяснение высшего низшим) часто разрушителен. Волонтеры Корпуса мира, например, не всегда поступают в него по причинам, связанным с обслуживанием собственного "я". Их желание служить не нуждается в «более низком» или «более глубоком» оправдании; оно отражает волю к смыслу, выход за пределы "я" к обретению и осуществлению цели жизни.
Франкл, как и многие другие (например, Шарлотта Бюлер и Гордон Олпорт), считает, что гомеостатическая теория неспособна объяснить множество существенных аспектов человеческой жизни. Человеку нужно, говорит Франкл, «не избавление от напряжения, а стремление к какой‑то достойной цели и борьба за нее». «Конституирующая характеристика бытия человека состоит в том, что оно неизменно указывает и направлено на что‑то отличное от него самого».*
*Позиция Франкла поддерживается длинной чередой феноменологов, начиная с Франца Брентано и позже Эдмунда Гуссерля, открывшего, что сознание всегда «интенционально» оно всегда направлено на что‑то вне самого себя Человек постоянно сознает что‑то вне самого себя.
Другое серьезное возражение, выдвигаемое Франклом против нетрансцендирующего, основанного на принципе удовольствия обоснования человеческой мотивации, состоит в том, что в таком случае мы всегда терпели бы поражение в своих усилиях. Чем больше мы ищем счастья, тем больше оно от нас ускользает. Это обстоятельство (многие профессиональные философы называют его «гедонистическим парадоксом») побудило Франкла сказать: «Счастье происходит; нет смысла за ним гнаться». (Алан Уоттс выразил это так: «Только когда вы его ищете, вы его теряете».) Таким образом, удовольствие – это не конечная цель, а побочный продукт поиска человеком смысла.
Франкл называет свою ориентацию «третьей» венской школой психотерапии:
«Согласно логотерапии, стремление найти смысл в человеческой жизни – это основная мотивационная сила человека. Вот почему я говорю о „воле к смыслу“ в противоположность принципу удовольствия (или, как мы еще могли бы его назвать, „воле к удовольствию“), на котором построен фрейдовский психоанализ, а также в противоположность „воле к власти“, на которой ставится акцент в адлерианской психологии».
В другой работе он утверждает (следуя мысли Аарона Унгерсма (Aaron Ungersma)), что главная мотивирующая сила в человеке закономерно меняется в ходе индивидуального развития, и три венских школы в своей последовательности отражают эту эволюцию: «Фрейдовский принцип удовольствия это ведущее мотивирующее начало для маленького ребенка, адлеровский принцип власти – для юноши, а воля к смыслу ведущая мотивация зрелого взрослого». Франкл аккуратно проводит различие между влечениями (например, половым или агрессивным), толкающими человека изнутри (или, как мы обычно переживаем это, снизу) и смыслом (вместе с ценностями, заложенными в смысловой системе), действующим на человека извне подобно силе тяготения. Это разница между влечением и стремлением. В самой сути нашего бытия, в тех характеристиках, которые делают нас скорее людьми, чем животными, мы не подвержены влечению, но активно стремимся к некой цели. Стремление, в противоположность влечению, подразумевает не только то, что мы ориентированы на что‑то вне собственного "я" (и, следовательно, трансцендируем себя), но также и то, что мы свободны, – свободны принимать или отвергать цель, которая манит нас. «Стремление» означает ориентацию на будущее: нас не толкают неумолимые силы прошлого и настоящего, а притягивает то, чему еще только предстоит быть.
Смысл существен для жизни, заявляет Франкл. Он был существен для выживания в Аушвице и существен для всех людей во все времена. Он ссылается на опрос общественного мнения во Франции, который показал, что 89 процентов всего населения считает, что людям нужно «что‑то», ради чего жить, и 61 процент чувствует, что есть что‑то, ради чего они готовы умереть. Франкл с удовольствием добавляет, что «хотя некоторые психиатры утверждают, что смысл жизни – это всего лишь защитный механизм и формирование реакции, говоря о себе, скажу, что я не хотел бы жить просто ради моих защитных механизмов и был бы еще менее склонен умереть за мое формирование реакции».
Три категории смысла жизни. Хотя Франкл подчеркивает, что у каждого индивида есть смысл в жизни, которого никто другой не может воплотить, все же эти уникальные смыслы распадаются на три основные категории: (1) состоящие в том, что мы осуществляем или даем миру как свои творения; (2) состоящие в том, что мы берем у мира в форме встреч и опыта; (3) состоящие в нашей позиции по отношению к страданию, по отношению к судьбе, которую мы не можем изменить.
Всех этих трех смысловых систем – творческой, выраженной в терминах опыта и позиционной – мы касались в предыдущем обсуждении различных систем личного смысла. Франкл определяет творчество в традиционных терминах то есть как творческую работу, или искусство, или научное устремление, привлекающие нас как цель, которую только мы, уникально для этого оснащенные, можем осуществить. Ощущение Франкла, что он и только он может написать книгу, проясняющую роль смысла в психотерапии, было, по его собственной оценке, основным фактором (помимо чистой случайности), который позволил ему вынести и пережить Аушвиц. Нашу жизнь могут наполнить смыслом самые разнообразные занятия, – если к ним подойти творчески. Франкл говорит: «Значение имеет не то, насколько велик радиус вашей деятельности, а то, насколько хорошо вы наполняете ее сферу».
Франкл менее ясен в том, что касается смысла, извлеченного из опыта, но в общем он ссылается на то, что человек извлекает из красоты, из истины и особенно из любви. Вовлеченность в глубокое переживание создает смысл. «Если кто‑то легонько хлопнет вас по плечу, когда вы слушаете свою любимую музыку, и спросит, осмысленна ли ваша жизнь, разве вы не ответите „да“? – спрашивает Франкл. Тот же ответ был бы дан любителем природы на вершине горы, религиозным человеком на запоминающейся службе, интеллектуалом на вдохновляющей лекции, художником перед шедевром».
Личный жизненный опыт Франкла в Аушвице требовал, чтобы он глубоко задумался об отношениях между смыслом и страданием, между болью и смертью. Выживание в экстремальных обстоятельствах зависит от того, способен ли человек найти смысл в собственном страдании. В глубине отчаяния в концентрационном лагере Франкл искал способы придать смысл своему страданию и страданию других. Он пришел к выводу, что его мучения обретут смысл, только если он выживет. Для него выживание означало, что он сможет завершить свою работу – из ужасов, пережитых в Аушвице, создать ценный психотерапевтический подход. Некоторые заключенные хотели выжить ради других, ради детей или супруга, которые ждали их; некоторые – ради того, чтобы осуществить свой уникальный жизненный замысел; кто‑то хотел выжить, чтобы рассказать миру о лагерях; кто‑то хотел выжить для мести. (Стоит вспомнить о литовском гетто в Ковно, жители которого хотели остаться в живых, чтобы записать все зверства, творимые над ними: записанные рассказы очевидцев, сделанные художниками зарисовки лиц, серийные номера форм офицеров и солдат СС – все это, тщательно упорядоченное, хранилось в подземном склепе, откуда после войны было извлечено и использовано для того, чтобы виновные предстали перед судом.) Порой Франкл находил смысл в страданиях, вспоминая еще один афоризм Ницше: «То, что не убивает меня, делает меня сильнее». Страдание может иметь смысл, если оно меняет человека к лучшему. И наконец, Франкл утверждает, что даже когда нет надежды избежать страдания и смерти, сеть смысл в том, чтобы продемонстрировать другим. Богу и самому себе, что ты можешь страдать и умереть с достоинством.
Смысловые категории Франкла явились для него источником психотерапевтических стратегий помощи пациентам, находящимся в кризисе смысла. Ниже, при обсуждении терапии, я рассмотрю их, а сейчас обращусь к тому, что несет потеря жизненного смысла для терапии.
«ОГЛАВЛЕHИЕ»
ПОТЕРЯ СМЫСЛА: ЗНАЧЕНИЕ В ТЕРАПИИ
Наша меняющаяся культура: куда ушли смыслы?
Многие клиницисты отмечают, что пациенты все чаше приходят на терапию в связи с отсутствием ощущения смысла в жизни. Почему? Каковы факторы современной культуры, способствующие снижению ощущения смысла в жизни?
В доиндустриальном, сельскохозяйственном обществе людей окружало множество жизненных проблем, но сегодняшняя болезнь бессмысленности, по‑видимому, не является ни одной из них. Тогда смысл черпался из многих источников. Во‑первых, религиозное видение мира давало такой исчерпывающий ответ, что вопрос о смысле решался сам собой. Кроме того, люди ранних веков часто были настолько заняты удовлетворением других потребностей – например, в еде и крове, – более насущных для выживания, что думать о смысле жизни было непозволительной роскошью. Действительно, как я буду говорить дальше, бессмысленность сложно переплетена с досугом и невовлеченностью: чем больше человек вовлечен в повседневный процесс жизни и выживания, тем реже возникает эта проблема. Толстой, чей кризис бессмысленности я описал в начале этой главы, отмечал, что простой крестьянин в его поместье кажется относительно далеким от каких‑либо фундаментальных сомнений. Толстой пришел к заключению, что крестьянин знает нечто, чего он не знает, и в соответствии с этим искал освобождения от своих мучений, пытаясь подражать крестьянину, чтобы открыть его тайное знание.
Люди в доиндустриальном обществе в своей повседневной жизни имели другие смыслообразующие занятия. Они жили близко к земле, чувствовали себя частью природы, выполняли природную задачу, когда пахали землю, сеяли, жали, готовили пищу и без какого‑либо специального самосознавания выталкивали себя в будущее, рожая и растя детей. Их повседневная работа была творческой – они участвовали в творении жизни вместе со своим домашним скотом, семенами и урожаем. У них было сильное чувство принадлежности к большей целостности; они были интегральной частью семьи и сообщества и, в сущности, действовали в рамках заданных сценариев и ролей. Кроме того, их труд был по определению значимым. В конце концов, кто может усомниться в осмысленности задачи выращивания пищи, задав вопрос «Зачем?». Выращивание пищи – занятие, являющееся несомненно правильным.
Но подобно силе тяготения все эти смыслы исчезли. В сегодняшнем урбанизированном, индустриализованном секулярном мире человек должен иметь дело с жизнью без посредничества космической смысловой системы, основанной на религии, будучи вырван из элементарной цепи жизни, из сочлененное с природным миром. У нас есть время, слишком много времени для того, чтобы задавать беспокойные вопросы. Имея перспективу четырех– и трехдневной рабочей недели, мы должны быть готовы ко все более частым кризисам смысла. «Свободное» время – это проблема, потому что оно навязывает нам свободу.
Работа – то, что от нее осталось, – больше не дает смысла. Даже необычайно богатое воображение не могло бы вдохнуть творческий потенциал во многие обычные формы современной работы. Например, рабочий сборочного конвейера не только не находит в работе никакой творческой отдушины он начинает систематически воспринимать себя как бездушное колесико заводского механизма. Кроме того, большая часть выполняемых работ лишена собственной внутренней значимости. Как могут представители огромных армий чиновников, напряженно «занятые» в расточительной бюрократической системе, верить в то, что их деятельность ценна? В условиях роста населения и господства средств массовой информации как может индивид не усомниться, что рождение и воспитание детей представляет какую‑либо ценность, особенно для планеты или человеческого рода?
Клинические проявления
Как проявляется феномен бессмысленности в глазах клинициста в повседневной терапевтической работе? Мало кто из терапевтов не согласится с тем, что эта жалоба распространена среди их пациентов. Выше в этой главе я цитировал наблюдения Юнга, Франкла, Мадди, Уолмана и Хоббса, свидетельствующие о частых жалобах пациентов на ощущение бессмысленности. К сожалению, систематических клинических исследований проведено мало.
Мы с коллегами несколько лет назад выполнили проект, который в какой‑то степени подтверждает мнение о распространенности жалоб на ощущение бессмысленности, хотя в нем изучалась лишь небольшая выборка пациентов. Главные проблемы сорока пациентов, подряд обратившихся за терапией в амбулаторную психиатрическую клинику, были оценены на основании трех источников информации. письменного самоотчета пациента: описания, сделанного терапевтом: заключения трех клиницистов на основе видеозаписи клинического интервью с пациентом. Из сорока пациентов девять в числе своих проблем (большинство предъявило список из трех‑шести проблем) так или иначе указали недостаточность смысла (например, «отсутствие цели», «потребность в осмысленности моей жизни», «не знаю, почему я делаю то, что делаю», «дрейф без цели», «отсутствие направления в моей жизни»). По оценке терапевта и независимых наблюдателей, у пятерых из этих девяти пациентов действительно имелась фундаментальная проблема смысла. К этой же категории они причислили еще троих других пациентов (сформулировавших проблемы «отсутствия смысла в жизни», «бесцельности» и «неопределенности жизненных задач»). Таким образом, двенадцать пациентов из сорока (30 процентов) имели какую‑либо серьезную проблему, связанную со смыслом (насколько можно ссудить по оценкам пациентов, терапевтов и независимых экспертов).
Джилл Гарднер (Jill Gardner) изучила восемьдесят девять пациентов, обратившихся за терапевтической помощью в амбулаторную клинику*. Пациентов просили указать степень важности для них каждой из шестнадцати различных причин прихода на терапию. 68 процентов пациентов оценили «стремление к большей осмысленности жизни» как «умеренно» или «очень» важную причину. Этот пункт оказался девятым по рангу, опередив такие факторы, как «потребность изменить мои отношения с людьми» и «одиночество».
Бессмысленность редко рассматривается как самостоятельный клинический феномен – обычно ее считают проявлением какого‑либо иного, первичного и более известного клинического синдрома. Действительно, Фрейд когда‑то сказал: «В тот момент, когда человек усомнился в смысле жизни, он болен…Задаваясь этим вопросом, он делает не что иное, как подвергает действию некоего фермента, производящего печаль и депрессию, свой запас неудовлетворенного либидо, с которым на самом деле прежде случилось что‑то другое».
Таким образом, бессмысленность рассматривается как симптом какого‑то более значимого базисного состояния, такого как хронический алкоголизм или другие формы наркотической зависимости, низкая самооценка, депрессия, кризис самоосознания.
Но давайте обратимся к тому, что нам известно о клинических проявлениях бессмысленности. Во‑первых, это их повсеместность. Практически каждый пациент, с которым я работал, либо спонтанно выражает беспокойство по поводу отсутствия смысла в его или ее жизни, либо с готовностью отзывается на инициированное мной обсуждение этой проблемы.
Экзистенциальный вакуум и экзистенциальный невроз. Франкл различает две стадии синдрома бессмысленности экзистенциальный вакуум и экзистенциальный невроз. Экзистенциальный вакуум, или, как он иногда говорит, «экзистенциальная фрустрация» – распространенный феномен, характеризующийся субъективными переживаниями скуки, апатии и пустоты. Человек настроен цинично, лишен чувства направленности жизни и ставит под сомнение большинство жизненных занятий. Некоторые жалуются на пустоту и смутное недовольство, наступающие с окончанием рабочей недели («воскресный невроз»). Свободное время заставляет человека осознать, что нет ничего, что он хочет делать. Франкл утверждает, что экзистенциальная фрустрация встречается все чаще и наблюдается во всех уголках мира. Согласно одному из его исследований, «экзистенциальным вакуумом» страдают 40 процентов студентов колледжей в Вене и 81 процент студентов американских колледжей. В другой работе он отмечает быстрое распространение этой проблемы в таких регионах, как Чехословакия, другие страны за «железным занавесом» и Африка. Алоиз Хабингср (Alois Habinger) сообщает о нарастании распространенности экзистенциальной фрустрации среди молодежи в Вене за двухлетний период (1970‑1972) с 30 до 80 процентов!. Поскольку ни в одном из этих отчетов метод исследования никак не описан (за исключением указания на «импровизированный статистический обзор»), мы не можем воспринять эти невероятные цифры буквально, но они заслуживают внимания уже в том случае, если хотя бы отдаленно свидетельствуют об уровне распространения экзистенциального вакуума.
Если пациент, в дополнение к субъективным ощущениям бессмысленности, развивает явную клиническую невротическую симптоматику, Франкл называет это состояние экзистенциальным, или «ноогенным», неврозом. В его основе лежит психологический «страх пустоты»: если появляется отчетливый (экзистенциальный) вакуум, он заполняется симптомами. Согласно Франклу, ноогенный невроз может принять любую клиническую невротическую форму; создатель логотерапии называет возможные симптоматические картины – алкоголизм, депрессию, навязчивости, преступность, гиперинфляцию сексуальности, безрассудство. От традиционного психоневроза ноогенный невроз отличает то, что его симптомы манифестируют блокированную волю к смыслу. Поведенческие стереотипы также отражают кризис бессмысленности. Дилемма современного человека, утверждает Франкл, состоит в том, что инстинкты не говорят ему, что он должен делать, а традиция больше не подсказывает, что ему следует делать. Две обычные поведенческие реакции на этот кризис ценностей – это конформизм (делать то, что делают другие) и подчинение тоталитарности (делать то, что хотят другие).
Крусадерство,* нигилизм и вегетативность. Сальвадор Мадди предполагает, что значительная часть нынешней психопатологии происходит из чувства бессмысленности. (Отметим, однако, что клинический материал Мадди ограничен, а его базовой специализацией является макротеоретическая и академическая психология.) Он описывает три клинические формы «экзистенциального заболевания» (его термин для всепроникающей бессмысленности), крусадерство, нигилизм и вегетативность.
* Crusade – крестовый поход – Прим. переводчика.
Крусадерство (также называемое «идеологическим авантюризмом») характеризуется сильной склонностью выискивать для себя эффектные и важные предприятия, чтобы затем погрузиться в них с головой. Такие индивиды подобны профессиональным демонстрантам, хватающимся за любой повод «выйти на улицы», почти независимо от его содержания. Как только одно дело закончено, эти неисправимые активисты быстро должны найти другое, чтобы остаться на шаг впереди преследующей их бессмысленности.
То, что «крестоносцу» почти безразлично, за что выступать, не означает, конечно, что многие или даже большинство сторонников всякого социального движения мотивированы подобным образом. Энтузиазм по отношению к социальным переменам также не следует рассматривать как защитный механизм. Но участие в социальном движении обычно требует много времени и сил, а если оно включает в себя гражданское неповиновение, то зачастую опасно. После того как движение достигает своей цели, его участники, в отличие от «крестоносцев», обычно возвращаются к заботам повседневной жизни. Крусадерство, как описывает его Мадди, таким образом, представляет собой формирование реакции: погружение индивида в деятельность является компульсивной реакцией на глубокое ощущение бесцельности.
Нигилизм характеризуется активной, всепроникающей склонностью дискредитировать деятельность, имеющую смысл для других. Энергия и поведение нигилиста порождены отчаянием, он ищет злобного удовольствия, присущего разрушению. Процитируем Мадди.
«Он проворно докажет, что любовь не альтруистична, а эгоистична, что филантропия является способом искупить вину, что дети скорее порочны, чем невинны, что лидеры скорее тщеславны и одержимы желанием власти, чем вдохновлены великим видением, что труд не продуктивен, а скорее являет собой тонкий покров цивилизации, скрывающий монстра в каждом из нас».
Нигилизм настолько обычен, полагает Мадди, что даже не признается как проблема – более того, он часто выступает как весьма просвещенный, утонченный подход к жизни. Мадди ссылается на романиста и режиссера Алена Роб‑Грийе (Alain Robbe‑Gnllet), в фильме которого «В прошлом году в Мариенбаде» есть кажущиеся осмысленными нити, но ни одна из них не поддается попыткам кинозрителя обнаружить ее смысл. Этот фильм, полагает Мадди, построен так, чтобы фрустрировать любой поиск смысла и продемонстрировать тщетность веры в осмысленность чего бы то ни было.
Вегетативная форма экзистенциального заболевания выражает крайнюю степень бесцельности. Человек компульсивно не ищет смысла в высоких делах и благородных мотивах, он также и не насмехается над смыслом, в который верят другие. Вместо этого он глубоко погружается в переживание бесцельности и апатии – состояние, имеющее широкие когнитивные, аффективные и поведенческие проявления. Когнитивный компонент заключается в хронической неспособности поверить в полезность или ценность какого‑либо жизненного усилия. Аффективный настрой выражается в глубоком умиротворении и скуке, перемежающимися эпизодическими депрессиями. По мере того, как состояние прогрессирует, индивид погружается в безразличие, и периоды депрессии становятся все более редкими. Общий уровень поведенческой активности колеблется между низким и умеренным, но особенно характерно отсутствие избирательности поведения, для человека становится несущественным, чем он занят и занят ли чем‑либо вообще.
В современной культуре вегетативная тенденция широко распространена. Мадди полагает, что она четко выражена в таких произведениях искусства, как фильмы Антониони, «Пустая земля» Т.С Элиота, «Зоопарк» Эдварда Олби, «Балкон» Жана Жене. Современный фильм «Проходимец» дает особенно яркий пример апатии и бессмысленности.
Индивиды с развивающимся вегетативным синдромом порой ищут терапевтической помощи в связи с сопутствующими депрессией или болезненными сомнениями. Терапевт может заметить, что такого пациента не беспокоят проблемы вины, самооценки, самоопределения, так же как проявления половых или агрессивных расстройств. Вместо этого пациент высказывает сомнения такого рода: зачем утруждать себя работой всю жизнь, если все кончается смертью? Зачем тратить полжизни на хождение в школу? Зачем вступать в брак? Зачем содержать семью? Зачем переносить лишения? Разве ценности не произвольны, а цели не иллюзорны?
Если дать этому состоянию беспрепятственно прогрессировать, пациент будет все глубже погружаться в безразличие. Он может устраниться от всякой связи с жизнью, став затворником, хроническим алкоголиком или бродягой, либо приняв другую аналогичную модель жизни. Мадди полагает, что многие институализированные пациенты находятся в вегетативной форме переживания бессмысленности, но поскольку им должен быть приклеен ярлык какого‑нибудь нозологического диагноза, их состояние обычно называют простой шизофренией – термин, ныне признаваемый неправильным. Некоторым вегетативным пациентам ставится диагноз психотическая депрессия. Хотя они могут не проявлять никаких признаков и симптомов депрессии, делается допущение, что раз они вегетативны, то должны быть депрессивными. Мадди утверждает, что по меньшей мере какую‑то долю институализированных пациентов с такими диагнозами или иными паллиативными ярлыками более уместно отнести к экзистенциально больным.
Компульсивная активность. Вышеперечисленные клинические формы бессмысленности, разумеется, обычно не наблюдаются в чистом виде, а представляют клиническую парадигму. Их признаки и проявления различной степени тяжести могут наблюдаться у многих пациентов, часто в сочетании с другими клиническими симптомами. По моему опыту, одной из наиболее обычных клинических форм бессмысленности является стереотип маниакальной активности, которая настолько истощает энергию индивидуума, что проблема смысла теряет свою остроту. Этот стереоти связан с крусадерством, но его границы шире. Не только какое‑то яркое социальное движение, но любая неодолимо привлекающая человека деятельность может быть так катектирована, что послужит карикатурой на осмысленность. Если деятельность сама по себе не обладает характеристиками «добра», или «правильности», она рано или поздно разочарует индивида. Этот феномен, который Джеймс Пайк назвал «ложным центрированием» жизни, обычно становится предметом внимания клинициста тогда, когда носитель смысла обесценивается или попадает под явную угрозу обесценивания. Существует масса примеров, когда индивид, ищущий смысла жизни в достижении определенного социального положения, престижа, материального благополучия или власти, внезапно вынужден поставить под вопрос ценность этих целей как главного устремления жизни.
Клинической иллюстрацией может послужить случай Харви, сорокадвухлетнего пациента. Изначальный запрос Харви был необычным – его привела на терапию ссора с женой из‑за того, покупать ли авиабилеты первого или туристического класса. Обстоятельства оказались таковы. Отец Харви был компульсивно занятым торговцем, представителем среднего класса. Вся семья, в том числе и Харви, трудилась в семейном бакалейном магазине по много часов шесть‑семь дней в неделю. Постепенно дело расширялось, появились второй и третий магазин. Бизнес составлял для семьи, в том числе и для Харви, содержание всей жизни. Он разделял семейную трудовую этику и воспринимал процветание семейного бизнеса как смысл своей жизни. Долгие рабочие часы даже в детстве помешали ему развить важные товарищеские или гетеросексуальные отношения, и к моменту окончания средней школы он ни разу не провел ночь вне дома. Его личностьь была личностью «пай‑мальчика», который никогда не задает вопросов, никогда не бунтует, никогда глубоко не задумывается о себе или о жизни.
После окончания колледжа (бизнес‑курса) он занялся семейным бизнесом (его отец умер на своем посту) и его дела пошли весьма успешно. Благодаря различным обстоятельствам – экономически сверхудачному браку, великолепному и опытному партнеру, его собственному осторожному уму – он создал сеть магазинов по всей стране, а потом продал ее за астрономическую сумму крупной корпорации. К тридцати годам он накопил несколько миллионов (в долларах 1965 года). В этот момент Харви мог бы позволить себе короткую передышку, мог бы расслабиться и, возможно, даже задуматься: что дальше, куда и зачем? Вместо этого он немедленно погрузился в новое деловое предприятие, вскоре работал более семидесяти часов в неделю и был настолько измотан заботами о бизнесе, что его брак оказался под угрозой. Когда Харви пришел на терапию, у него были планы построения третьей империи, так как ему хотелось проверить, сможет ли он начать бизнес с нуля, с небольшим капиталом, без партнеров и советов извне (деловой эквивалент выживания в джунглях).
Харви стал осознавать определенные неприятные диссонансы. Он остался верен стилю жизни его родительской семьи, несмотря на то, что его доходы только от процентов были огромными, он выискивал по газетам распродажи и был вполне готов проехать не одну милю, лишь бы сэкономить несколько долларов на покупке телевизора.
Но понадобилась история с авиабилетом, чтобы Харви захотел повнимательнее взглянуть на свои жизненные цели. Он, его жена и еще одна супружеская пара планировали поехать в отпуск в восточные страны. Разница между ценой билета первого и туристического класса на двадцатичетырехчасовой полет составляла несколько сот долларов за каждый билет. Жена Харви, его друг (который, кстати, работал у Харви) и жена друга хотели лететь первым классом. Харви отказался тратить лишние деньги на более широкие кресла и бесплатное шампанское (как он это выразил) и заказал билет туристического класса, тогда как остальные трое, в том числе и его жена, летели первым классом. Харви обладал хорошим чувством юмора и понимал комизм ситуации; все же он был глубоко обеспокоен создавшимся положением, о чем свидетельствовали тревога, бессонница и ипохондрические жалобы. Тогда он и обратился за психотерапевтической помощью.
В терапии эпизод с авиабилетом стал опорной точкой глубокой дискуссии о ценностях. Если деньги существуют для того, чтобы щедро расточать их в обмен на мелкие удобства, то почему Харви убивался, стараясь заработать больше денег? Зачем посвящать свою жизнь деньгам? У него уже есть больше, чем он может потратить, и он доказал, что может их заработать. Он начал сомневаться в том, что было для него основополагающим смыслом в течение всей жизни. Один из первых инсайтов, полученных Харви в терапии, состоял в том, что он ложно центрировал свою жизнь, поскольку материальное благополучие даже в самом лучшем случае создает лишь хрупкое ощущение жизненного смысла – ощущение, которое не выдерживает проверки.
Кризис смысла для Харви был инициирован тем, что он успешно и рано достиг своей жизненной цели (это всегда опасно в случае схемы жизненного смысла, не предполагающей самотрансцендирования). Этому кризису могут способствовать также такие события, как конфронтация со смертью или иное чрезвычайное (пограничное) переживание, сталкивающее индивида с его экзистенциальной ситуацией и открывающее ему глаза на иллюзорность многих смысловых систем. Значительный жизненный сдвиг, в результате которого внезапно утрачиваются социальные ритуалы и традиции, также может рельефно высветить определенные ценности (например, социальные обычаи «общества»): индивид не только перестает получать внешнее вознаграждение за соблюдение ритуала, но и – что важнее начинает осознавать относительность тех ценностей, которые он прежде считал абсолютными.
Некоторые пациенты претерпевают кризис смысла в ходе психотерапии. В результате глубокого самоисследования и открытия в себе новых возможностей старые компульсивные стереотипы подрываются и в конце концов декатектируются. Пациенты, большую часть своей жизни существовавшие в рамках жестких стереотипов, сталкиваются со свободой, от которой прежде их охраняла компульсивность. Например, сексуально компульсивный пациент Брюс, которого я описал в главе 5, неизменно заполнял «свободное», или доступное для рефлексии время сексуальными фантазиями либо поисками. Когда в ходе успешной терапии компульсивность Брюса ослабла, а затем полностью утратила свою власть над ним, он прошел через кризис смысла. (Не то чтобы он прежде имел удовлетворяющее ощущение смысла, но его компульсивная активность всегда обеспечивала сильное противоядие бессмысленности – он был вовлечен. Однако содержание компульсивной вовлеченности Брюса было настолько ограниченным и суженным, что он не мог в нем реализовать многие из своих глубинных человеческих возможностей. Поэтому, не испытывая осознанного кризиса смысла, он вместо него переживал огромную экзистенциальную вину – вину за то, что не стал тем, чем призван был стать.)
Когда Брюс впервые встретился с жизнью непосредственно, без компульсивной активности, она показалась ему плоской, неинтересной и прежде всего бессмысленной. И вот тогда много времени на терапии было уделено обсуждению целей исследованию того, что, согласно голосу собственной внутренней мудрости Брюса, должно было стать фундаментом его жизни.
КЛИНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Тест жизненной цели. В 1964 г. Джеймс Крамбау и Леонард Махолик (James Crumbaugh amp; Leonard Maholick), психологи, находящиеся под огромным влиянием работ Виктора Франкла, опубликовали психометрический инструмент, направленный на оценку жизненной цели. Составленный ими опросник «Тест жизненной цели» (PIL) состоит из двадцати пунктов, которые нужно оценить по семибалльной шкале.*
* Изначально в тесте имелось еще два раздела: тринадцать незаконченных предложений, которые нужно было завершать, и задание написать в свободной форме о личных амбициях и целях; однако в дальнейшем исследовании использовался только первый раздел.
По каждому пункту позиция 4 обозначена как «нейтральная», а позициям с 1 по 7 даны разные описательные названия. Например, первый пункт гласит: «Я обычно…» и позиция 1 определена как «ужасно скучаю», тогда как позиция 7 – как «полон жизни, энтузиазма». Остальные девятнадцать пунктов, с их двумя граничными «якорными» характеристиками таковы:
2. Жизнь кажется мне: (1) совершенно рутинной; (7) всегда волнующей.
3. В жизни у меня: (1) вообще никаких задач и целей; (7) очень ясные цели и задачи.
4. Мое личное существование: (1) крайне бессмысленно; (7) полно значения и осмысленно.
5. Мои дни: (1) все одинаковые; (7) постоянно новые и разные.
6. Если бы я мог(ла) выбирать, я бы: (1) предпочел (ла) никогда не родиться; (7) хотел(а) бы прожить еще девять жизней таких, как эта.
7. После ухода на пенсию мне хотелось бы: (1) бездельничать весь остаток жизни; (7) делать какие‑то интересные вещи, о которых я всегда мечтал(а).
8. В достижении жизненных целей я: (1) не добился(лась) прогресса ни в чем; (7) достиг(ла) полной самореализации.
9. Моя жизнь: (1) пуста, наполнена только отчаянием; (7) изобилует волнующими хорошими вещами.
10. Если бы я умер(ла) сегодня, я бы чувствовал (а), что моя жизнь была: (1) абсолютно ничего не значащей; (7) очень значимой.
11. Думая о своей жизни, я: (1) часто спрашиваю себя, зачем я существую; (7) неизменно вижу причину того, что я здесь.
12. Когда я смотрю на мир в связи со своей жизнью, мир: (1) полностью ставит меня в тупик; (7) полон значения для меня, так же, как мое место в нем.
13. Я: (1) очень безответственный человек; (7) очень ответственный человек.
14. В отношении свободы выбора я считаю, что человек: (1) полностью связан ограничениями наследственности и среды; (7) абсолютно свободен делать любой выбор в жизни.
15. В отношении смерти я: (1) не готов(а) и испытываю страх; (7) готов(а) и не боюсь ее.
16. В отношении смерти я: (1) серьезно думал (а) о ней как о выходе; (7) ни секунды не думал(а) об этом.
17. Я считаю мою способность найти смысл, цель или миссию в жизни: (1) практически нулевой; (7) очень большой.
18. Моя жизнь: (1) не управляема мной и контролируется внешними факторами; (7) в моих руках, и я управляю ею.
19. Мои повседневные задачи для меня: (1) болезненный и скучный опыт; (7) источник удовольствия и удовлетворения.
20. Я обнаружил(а): (1) отсутствие миссии или цели в жизни; (7) ясно очерченные задачи и удовлетворяющую жизненную цель.
PIL‑тест получил широкое применение. Он использован в качестве базисного средства оценки в более чем пятидесяти докторских диссертаций, посвященных теме жизненной цели, но прежде чем обсуждать некоторые результаты исследования, о котором здесь идет речь, я намерен подробно исследовать валидность этого инструмента.
Во‑первых, буквальное содержание пунктов относится к нескольким разным понятиям. Восемь пунктов (3, 4, 7, 8, 12, 17, 20) явным образом связаны со смыслом жизни (целью, миссией); шесть пунктов (1, 2, 5, 6, 9, 19) – с удовлетворенностью жизнью (жизнь скучна, рутинна, интересна или болезненна), три пункта (13, 14, 18) касаются свободы; один (15) – страха смерти, один (16) – суицидальных мыслей и последний (10) – значимости жизни человека. У меня эта концептуальная неоднородность вызывает серьезные сомнения в валидности инструмента. Например, хотя удовлетворенность жизнью или размышления о самоубийстве могут иметь отношение к смыслу жизни, все же они более очевидным образом связаны с другими психологическими факторами, прежде всего с депрессией. Авторы теста предоставляют мало информации о методах отбора высказывании для теста или о закономерностях, которым подчиняются ответы по отдельным высказываниям. Имея в виду эти методологические недостатки, один рецензент высказал мысль, что единственный пункт «Насколько осмысленна ваша жизнь?» мог бы быть столь же валидным, как и вся шкала.
Кроме того, PIL явно чрезмерно зависит от социальной желательности (корреляционный коэффициент со Шкалой социальной желательности Марлоу‑Кроуна составляет 0.57). PIL, как подчеркивали критики, отражает определенные ценности: например, он предполагает, что принятие на себя ответственности эквивалентно позитивному ощущению жизненного смысла. Хотя это интересная гипотеза, не очевидно, что ответственность и смысл связаны именно таким образом.
Чарльз Гарфилд (Charles Garfield) предъявлял PIL испытуемым из нескольких субкультур (жители гетто, инженеры, аспиранты в областях психологии и религии, члены духовных общин), а затем интервьюировал испытуемых с высокими, низкими и промежуточными оценками по тесту, чтобы выяснить, что означал для них каждый пункт. Отчасти в зависимости от принадлежности к определенной культуре испытуемые интерпретировали пункты чрезвычайно идиосинкратически. Например, в связи с пунктом 9 («Моя жизнь: пуста… [или] изобилует волнующими хорошими вещами») жители гетто думали о пустых желудках, жители общин связывали слово «пуста» с потерей Эго в медитации и блаженстве, инженеры приравняли «пустоту» к тупости, а аспиранты‑психологи не считали «волнующее» чем‑то хорошим, а связывали это понятие с возбуждением и нервной активностью. Аналогичное расхождение реакций и на другие высказывания свидетельствует не только о влиянии словесной многозначности, но и о том, что тест несет высокую ценностную нагрузку и основан на положениях, заложенных в протестантской трудовой этике, акцентирующих целенаправленное поведение, ориентацию на будущее, предпочтение активности перед пассивностью и положительную оценку высоких уровней стимуляции.
Эта критика не просто существенна, она разрушительна, и исследователи, использующие PIL, не дали на нее удовлетворительного ответа; в связи с этим высокий уровень доверия к опроснику едва ли оправдан. С другой стороны, заменить его нечем: это единственный психологический инструмент, широко используемый для систематического изучения бессмысленности. Не забывая о высказанных соображениях. рассмотрим теперь некоторые выводы исследования.
Во‑первых, несколько проверок валидности указывают, что результаты теста удовлетворительно коррелируют с оценками терапевтами жизненной цели у пациентов (корреляция 38) и с оценками священниками прихожан (47). В целом у популяции пациентов оценки PIL ниже, чем у непациентов (хотя некоторые исследования заставляют в этом усомниться; например, одно из них показало удивительно малую разницу показателей нуждающихся психиатрических пациентов и студентов – 108 против 106).* Кроме того, PIL, по‑видимому, измеряет независимую личностную переменную, он не имеет высокой корреляции с другими шкалами (не считая Шкалы депрессии MMPI, Шкалы распада социальных ролей (Srole Anomie), с которой отмечается умеренное перекрытие показателей, и. как я уже отмечал, Шкалы социальной желательности).
* Отметим, что пунктов двадцать, и каждый из них имеет семибалльную шкалу; следовательно, высший счет – 140, низший – 20.
PIL используют во многих клинических ситуациях, с различными популяциями. Обнаружено, что у малолетних правонарушителей и учеников старших классов, злоупотребляющих наркотиками, низкие показатели PIL. У пациентов, госпитализированных по поводу хронического алкоголизма и психотических расстройств, уровни PIL ниже, чем у невротических амбулаторных пациентов. Показатели PIL как у госпитализированных, так и у амбулаторных пациентов значительно ниже, чем в выборке непациентов. Сообщается, что у алкоголиков особенно низкий уровень PIL. Согласно другому исследованию, показатели госпитализированных алкоголиков находились в нижней области нормы, но существенно не повышались в результате выполнения месячной лечебной программы. Исследование амбулаторных больных в одной из британских клиник продемонстрировало, что более невротичные и социально интровертированные пациенты (измерения проводились с помощью Личностного опросника Айзенка – Eysenk Personality Inventory) имеют более низкий уровень PIL. В группе нормальных студентов изучалась половая адаптация и было обнаружено, что у более сексуально фрустрированных и дезадаптированных студентов уровень PIL ниже. В одном исследовании сравнивались показатели PIL физически больных пациентов и был получен интересный результат: у критически больных пациентов уровень PIL выше, чем у страдающих незначительными недугами и у непациентов. По предположению авторов, эти результаты указывают на то, что для критически больных пациентов близость смерти явилась стимулом к тому, чтобы прийти к согласию с собственной жизнью, «проработать» свои сомнения и достичь некоторого внутреннего мира.
Много исследовалась связь между социальными и религиозными установками и ценностями (Ценностный обзор Rokeach – Rokeach Value Survey). Оказалось, что низкий уровень PIL коррелирует с высокой значимостью гедонизма, острых ощущении и комфорта. Оказалось, что высокий уровень PIL коррелирует с сильными религиозными убеждениями, играющими центральную роль в жизни индивидуума. (Однако в другом исследовании этот результат не был воспроизведен.) Еще одно исследование демонстрирует корреляцию между высоким уровнем PIL и консерватизмом, антигедонизмом, религиозно‑пуританскими ценностями и идеализмом. Успешно поступающие в высшее учебное заведение доминиканские монахини имеют более высокий уровень PIL, чем их менее успешные коллеги. Два исследования демонстрируют, что высокая цель в жизни связана с низкой тревогой смерти.
Выше уже шла речь о том, что принадлежность к значимой группе, участие в значимом деле повышают ощущение осмысленности жизни. В нескольких исследованиях эта гипотеза проверялась, и было продемонстрировано, что высокий уровень PIL коррелирует с принадлежностью к организованным группам (религиозным, этническим, политическим, а также общинным службам), с вовлеченностью в спорт и хобби. (Однако одно исследование не обнаруживает корреляции между социальной активностью (демонстрации в защиту гражданских прав) и PIL. Может ли это быть результатом присутствия в выборке «крестоносцев» Мадди?) Австралийское исследование сообщает о корреляции между высоким уровнем PIL и позитивным видением мира, целеустремленностью и наличием целей, предполагающих самотрансцендирование (то есть интересами, выходящими за пределы материального и психического благополучия индивида). Еще одно исследование указывает, что студенты с высоким уровнем PIL значительно увереннее делают профессиональный выбор, чем те, у кого низкий уровень PIL. Однако исследование административных работников сферы бизнеса и медсестер не показало связи между уровнем PIL и отношением к работе или рабочей мотивацией.
Наконец, было показано, что жители гетто, черные или американцы мексиканского происхождения, имеют более низкий уровень PIL. Данные относительно связи показателей PIL с социально‑экономическим статусом, а также с полом противоречивы, хотя в основном обнаруживалось, что у мужчин уровень PIL выше.
Индекс ценности жизни. Прежде чем перейти к обсуждению значения этих результатов, я хотел бы кратко рассмотреть еще один психологический инструмент, направленный на оценку жизненного смысла. «Индекс уважения к жизни» (Джон Батиста и Ричард Олмонд – John Battista amp; Richaid Almond) концептуально более проработан, чем PIL, но, к сожалению, не нашел последующего применения. Его пункты делятся на «референтные» (такие как «У меня есть ясное представление о том, что я хотел бы сделать со своей жизнью») и относящиеся к самореализации (таких как «Я чувствую, что живу полной жизнью»). Авторы полагают, что для ощущения нами жизненного смысла необходимо как наличие у нас референтной смысловой структуры, так и вера в то, что мы воплощаем эту структуру. Этот тест был успешно валидизирован посредством интервью с испытуемыми, хорошо коррелирует с PIL и, по‑видимому, свободен от нивелирующих эффектов социальной желательности. Исследовалось отношение между самооценкой и ценностью жизни (смыслом жизни). Авторы пришли к заключению, что удовлетворительный уровень самооценки необходим, но не достаточен для наличия развитого ощущения смысла: индивид с высокой самооценкой может иметь низкий показатель смысла жизни, но тот, у кого низкая самооценка, не может иметь высокий показатель смысла. Как и полагал Эрик Эриксон, человек должен решить задачу обретения чувства собственной самоценности и самобытности, прежде чем он будет способен развить удовлетворяющее ощущение жизненного смысла.
Это исследование позволяет предположить, что позитивный жизненный смысл зависит от наличия определенной гармонии между целями и ценностями человека, с одной стороны, и ролями и нуждами социальной структуры, в которую он включен – с другой. Наконец, авторы продемонстрировали, что человек чувствует свою жизнь более осмысленной, когда ощущает себя приближающимся к достижению своих целей с удовлетворительной скоростью.
Резюме результатов исследований. Эмпирическое исследование смысла жизни подтверждает следующее:
Отсутствие ощущения смысла жизни способствует психопатологии грубо линейным образом: чем меньше ощущение смысла, тем больше тяжесть психопатологии.
Глубоко укорененные религиозные верования способствуют позитивному ощущению смысла жизни.
Ценности, предполагающие самотрансцендирование, способствуют позитивному ощущению смысла жизни.
Принадлежность к группам, преданность какому‑либо делу и наличие четких жизненных целей способствуют позитивному ощущению смысла жизни.
Жизненный смысл необходимо рассматривать в развивающейся перспективе: типы жизненного смысла на протяжении жизни индивидуума меняются, кроме того, формированию жизненного смысла должно предшествовать решение других задач развития.
Предостережение: важно обратить внимание на формулировки этих выводов. В них повторяется слово «способствует»: например, низкое ощущение смысла в жизни «способствует» психопатологии. Но это не означает наличия каких‑либо свидетельств в пользу того, что отсутствие смысла вызывает психопатологию. Все исследовательские работы коррелятивны: они демонстрируют лишь то, что сниженное ощущение жизненного смысла и патология встречаются вместе. С тем же успехом на основании этих исследований можно утверждать, что сниженное чувство жизненного смысла является функцией, то есть симптомом – патологии. Кстати, одно исследование действительно обнаружило, что у депрессивных пациентов ощущение смысла жизни резко повысилось после электрошоковой терапии!
11. БЕССМЫСЛЕННОСТЬ И ПСИХОТЕРАПИЯ
В предыдущей главе я рассматривал вопрос о жизненном смысле в его традиционных формулировках. Смысл жизни – важный психологический конструкт, который prima facie глубоко касается всех нас. Я коснулся его «лобового» значения, соответственно описав виды смыслообразующей активности и патологические клинические проявления феноменологического состояния бессмысленности.
Теперь я обращусь к проблемам повседневной практики терапевтов, имеющих дело с пациентами, которые заявляют, что их жизнь лишена смысла. Принимая предложенную пациентом формулировку проблемы, терапевт, по всей вероятности, разделит его ощущение тупика. Он получит напоминание о собственном незавершенном поиске смысла в жизни. Как может человек, подумает этот терапевт, разрешить для другого то. что не может разрешить для самого себя? В результате он, вполне возможно, сочтет, что проблема неразрешима, и найдет способы обойти ее в терапии…
Чтобы избежать такого нетерапевтического развития событий, первым шагом терапевта должно быть неприятие предложенной пациентом формулировки проблемы в «лобовом» значении. Вместо этого терапевт должен строго исследовать легитимность жалобы на то, что «жизнь не имеет смысла». Проанализировав исходную позицию, с которой предъявляется эта жалоба, – то есть смысл вопроса «Какой в жизни смысл?» – терапевт обнаружит, что этот вопрос примитивен и контаминирован.
Во‑первых, в своей обычной постановке "он предполагает, что в жизни есть смысл, который данный конкретный пациент неспособен найти. Это противоречит экзистенциальному видению человека как смыслопорождающего субъекта. Не существует ни предначертанного замысла, ни какой‑либо цели «там», вовне. Как она может быть, если каждый из нас конституирует собственное «там»?
Еще одна важная проблема, присущая вопросам о смысле жизни, заключается в том, что их очень часто смешивают с массой других вопросов. После того, как эти другие вопросы проанализированы и сброшены со счетов, фундаментальный кризис смысла пациента становится менее фатальным и гораздо более управляемым. Я попытаюсь «очистить от примесей» терапевтический вопрос о смысле жизни, вначале прояснив, почему мы нуждаемся в смысле, а затем рассмотрев различные побочные темы, которые часто затемняют этот вопрос.
ПОЧЕМУ МЫ НУЖДАЕМСЯ В СМЫСЛЕ?
В результате эмпирических исследований, проводившихся в течение нескольких десятилетий, установлено, что, в соответствии с нейропсихологической организацией нашего мозга и нервной системы, мы мгновенно включаем случайные входящие стимулы в узнаваемые шаблоны восприятия. Гештальт‑направление в психологии, основанное Вольфгангом Кохлером, Максом Вертхаймером и Куртом Коффкой, породило огромное количество исследований по восприятию и мотивации, продемонстрировавших, что мы организуем молекулярные стимулы, а также молярные поведенческие и психологические данные в гештальты – в конфигурации, или схемы. Так, если человеку показывают случайный набор точек на обоях, он организует их в фигуру и фон; видя прерванный круг, человек автоматически воспринимает его как целый; при восприятии различных поведенческих данных – например, странного ночного шума, необычного выражения лица, бессмысленного международного инцидента – человек извлекает из них «смысл», встраивая их в знакомую объяснительную структуру. Когда какой‑либо из этих стимулов, какую‑либо ситуацию схематизировать не удается, возникают напряжение, раздражение, неудовлетворенность. Эта дисфория сохраняется, пока более полное понимание не позволит включить ситуацию в более широкую узнаваемую картину.
Значение подобных тенденций смысловой атрибуции очевидно. Так же, как мы поступаем со случайными стимулами и событиями и организуем их в нашей повседневной жизни, мы подходим и к нашей экзистенциальной ситуации. Мы испытываем дисфорию перед лицом безразличного, не укладывающегося в структуры мира и ищем какие‑либо организующие структуры, объяснения и смысл существования.
Когда человек неспособен составить для себя некую ясную картину, он чувствует себя не только раздраженным и недовольным, но и несчастным. Вера в то, что смысл расшифрован, неизменно несет с собой ощущение контроля. Даже если открытая человеком смысловая схема содержит представление о его слабости, беспомощности или незначительности, она все же более комфортна, нежели состояние неведения.
Очевидно, что мы страстно желаем смысла и чувствуем себя дискомфортно в его отсутствие. Мы находим цель и отчаянно цепляемся за нее. Однако изобретенная нами цель недостаточно эффективно устраняет дискомфорт, пока мы помним, что сами ее изобрели. (Франкл уподобил веру в самодельный, или собственноручно «изобретенный» смысл жизни карабканию по канату, который мы же сами подкинули в воздух.) Куда утешительней верить в то, что смысл пришел «оттуда», а мы его только открыли. Виктор Франкл утверждает, что «смысл – это то, что содержится в ситуации, подразумевающее вопрос и требующее ответа…У каждой проблемы есть только одно решение, и оно правильное; у каждого решения – только один смысл, и он подлинный»'. Он возражает против точки зрения Сартра, согласно которой одна из тягот свободы – это необходимость изобрести смысл. Во всех своих работах Франкл утверждает: «Смысл – это скорее то, что надо найти, чем то, что дается. Человек не может его изобрести, а должен открыть». Позиция Франкла по сути религиозна и основывается на представлении о существовании Бога, предначертавшего смысл для каждого из нас, который мы должны обнаружить и осуществить. Франкл настаивает: пусть мы не в состоянии постичь смысл своей жизни во всей его полноте, мы должны верить, что жизнь представляет собой связное целое, и что в человеческих страданиях есть смысл. Как подопытное животное не может понять причины своей боли, точно так же люди не в силах постичь свой жизненный смысл, потому что он находится в измерениях, лежащих за пределами их понимания. Но насколько надежен фундамент, на котором покоятся эти доводы? В конце концов, если Бог существует, почему из этого следует, что Его жизнь имеет смысл и, более того, у Него есть жизненный смысл для каждого из нас? не будем забывать, что не Богом, а человеком владеет цель.
Смысл жизни и ценности
Итак, единственный смысл смысла заключается в смягчении тревоги: он появляется в нашей жизни для того, чтобы ослабить тревогу, вызываемую конфронтацией с жизнью и миром вне какой‑либо изначально определенной структуры, которая внушала бы уверенность и чувство безопасности. Однако имеется еще одна жизненно важная причина, по которой мы нуждаемся в смысле. Ощущение жизненного смысла, возникнув, дает начало ценностям, которые, в свою очередь, синэргетичееки усиливают ощущение смысла.
Что такое ценности и почему мы в них нуждаемся? Толстой, переживая свой кризис смысла, задавался не только вопросом «Почему? (Почему я живу?)», но и «Как? (Как мне следует жить? Чем мне жить?)» – и все вопросы последнего рода выражали потребность в ценностях, в наборе ориентиров и принципов, которые подсказали бы ему, как жить.
Стандартное антропологическое определение ценности таково: «Ценность – это концепция „желательного“, эксплицитная или имплицитная, отличительная для индивида или характерная для группы, влияющая на отбор методов, средств и целей действия из доступной совокупности». Иными словами, ценности составляют некий свод законов, в соответствии с которым можно вырабатывать систему действий. Ценности позволяют нам находить место для возможных способов поведения в иерархии одобрения‑неодобрения. Например, если наша смысловая схема ставит акцент на служении другим, нам не составляет труда сформировать ориентиры, или ценности, позволяющие говорить: «это поведение правильное» или «это поведение неправильное». В предыдущих главах я акцентировал мысль о том, что мы создаем себя серией непрерывных решений. Но невозможно принимать все решения на протяжении жизни, начиная с «чистого листа»: должны быть приняты определенные метарешения, обеспечивающие организующий принцип для последующих решений. Если бы это было не так, большая часть жизни растрачивалась бы в терзаниях принятия решений.
Ценности не только дают индивиду кальку для личной деятельности, но также делают для него возможным существование в группах. «Социальная жизнь, – говорит Клайд Клюкхольм, – была бы невозможной без них…Ценности вносят в социальную жизнь элемент предсказуемости». Носители одной культуры имеют некоторое общее представление о том, «что есть», и исходя из этого, формируют общие взгляды на то, «что должно быть сделано». Социальные нормы порождаются смысловой схемой, которая разделяется всей группой, и обеспечивают предсказуемость, необходимую для социального доверия и сплоченности. Общая система убеждений говорит индивидам не только о том, что им следует делать, но и о том, что, по всей вероятности, будут делать другие.
Связь между смыслом жизни и другими конечными факторами
Потребность человека обладать всеобъемлющей перцептивной схемой и системой ценностей, служащей основой для поступков, – это и есть в чистом виде причина нашего поиска жизненного смысла. Однако обычно вопрос о смысле присутствует не в чистом виде: к нему добавляются и его замутняют другие проблемы, отличные от проблемы смысла как такового.
Вернемся к Толстому, который часто спрашивал: «Есть ли в моей жизни смысл, который не будет разрушен неминуемой смертью, ожидающей меня?» "Все мои поступки, что бы я ни делал, рано или поздно будут забыты, и меня не будет нигде. Тогда зачем занимать чем‑либо свое "я"?" Это вопросы не о смысле, а о метасмысловых заботах, они вращаются вокруг проблемы конечности жизни: оставим ли мы после себя что‑либо долговечное? Исчезнем ли мы, не оставив после себя никакого следа, и если так, как может наша жизнь иметь значение? Не является ли все бессмысленным, если, как сокрушался Бертран Рассел, «всем трудам веков, всей преданности, всему вдохновению, всему дневному свету человеческого гения суждено угаснуть во всеобщей смерти солнечной системы, и весь храм человеческого достижения неминуемо должен быть похоронен в руинах под обломками вселенной»?
Эрнест Беккер (Ernest Becker) убедительно показывает, что наша «универсальная амбиция» – «процветание» (то есть «непрерывный опыт»), а смерть – главный враг, с которым мы должны бороться. Люди пытаются стать выше смерти не только множеством способов, которые мы обсуждали в первом разделе этой книги, но также «принимаясь во внимание», знача что‑то, оставляя за собой что‑то после себя:
«Человек поднимается над смертью не только тем, что продолжает утолять свои аппетиты [то есть простодушными блаженными видениями небес], но особенно находя смысл для своей жизни, какую‑то форму более широкой схемы, в которую он вписывается…Это выражение воли к жизни, горячее желание человека быть значимым, чтобы для планеты что‑то менялось, оттого что он прожил свою жизнь на ней – появился на свет, трудился, страдал и умер».
Следовательно, желание оставить что‑то значимое после себя, – как сказал Бекер, чтобы что‑то менялось, – это выражение попытки превзойти смерть. Смысл как ощущение человеком того, что его жизнь что‑то меняет, что он был значим, что оставил частицу себя потомству, – смысл, понимаемый таким образом, по‑видимому, обусловлен желанием человека не умирать. Когда Толстой сокрушался, что в его жизни нет смысла, который не будет разрушен неминуемой смертью, он говорил не о том, что смерть разрушает смысл, а о том, что он не смог найти смысл, который разрушил бы смерть.
Мы слишком легко принимаем мысль о том, что смерть и смысл полностью взаимозависимы. Если все должно умереть, то какой смысл может иметь жизнь? Если наша солнечная система в конце концов должна сгореть – зачем к чему‑либо стремиться? Но хотя смерть добавляет еще одно измерение к смыслу, смысл и смерть отнюдь не слиты в одно целое. Если бы мы могли жить вечно, мы бы все равно были заинтересованы в смысле. Как быть с тем, что наши переживания превращаются в воспоминания, а те в конце концов исчезают совсем? Какую связь это имеет со смыслом? Такова, по‑видимому, природа переживаний. Как может быть иначе? Переживания временны, и мы не можем существовать вне времени. Когда они миновали, они миновали, и с этим ничего нельзя сделать. Исчезает ли прошлое? Правда ли, что, как сказал Шопенгауэр, «то, что было, существует в столь же малой степени, как то, чего никогда не было»? Действительно ли память не «реальна»? Франкл утверждает, что прошлое не только реально, но также постоянно присутствует. Ему жаль пессимиста, который отчаивается, видя, как его отрывной календарь становится с каждым днем все тоньше, и он восхищается человеком, сохраняющим каждый листок, соответствующий удачному дню, и с радостью размышляет о полноте дней, представленных этими страницами. Такой человек будет думать: «Вместо возможностей у меня остались реальности».
Мы имеем дело с ценностными суждениями, а не с изложением фактов. Представление о том, что ничто не важно, если оно не длится вечно или не приводит в конце концов к тому, что сохранится навек, – никоим образом не является объективной истиной. Несомненно, существуют цели, оправданные и полноценные сами по себе, не требующие бесконечного ряда внешних оправданий. Как сказал в XVIII веке Дэвид Хьюм, «невозможно движение, уходящее в бесконечность, чтобы какая‑то вещь всегда была причиной, по которой желанна другая. Что‑то должно быть желательным само по себе и благодаря своей непосредственной гармонии с настроением или чувством человека». Если бы не было целей, завершенных в себе, если бы все требовало оправдания чем‑то внешним, что, в свою очередь тоже нужно было бы оправдывать, тогда существовал бы бесконечный регресс цепь оправданий, не имеющая конца.
Под видом бессмысленности часто выступает не только тревога смерти, тревога, проистекающая из осознания свободы и изоляции также нередко принимается за тревогу бессмысленности. Взгляд на существование как на часть некоего грандиозного замысла, существующего «где‑то там», в котором человеку предназначена какая‑то роль, позволяет нам отрицать свою свободу и свою ответственность за план и структуру собственной жизни и избегать тревоги отсутствия почвы. Страх абсолютного одиночества также побуждает нас искать отождествления с чем‑нибудь или кем‑нибудь. Стать частью большей группы или посвятить себя какому‑то движению, делу, идее – все это эффективные способы отрицания изоляции.
Смысл жизни – культуральный артефакт?
К вопросу о смысле жизни примешиваются не только проблемы, обусловленные конечными факторами, связанными со смертью, свободой и изоляцией: его также чрезвычайно трудно увидеть вне культуральных предубеждений. Однажды я видел карикатуру, которая вполне иллюстрирует эту проблему. Она изображает стайку американских путешественников, напряженно внимающих тибетскому монаху на вершине отвесной горы. Подпись под картинкой гласит: «Цель жизни? Если бы я ее знал, я был бы богат».
Культуральная предвзятость, иллюстрируемая этой карикатурой, отражена и во взглядах видного психиатра, который пишет о смысле жизни и утверждает с полной убежденностью.
«Ни один человек не может всегда добиваться, всегда творить. Ни один человек не может всегда быть успешным в своих попытках. Но двигаться в правильном направлении, не для того чтобы добиться, а чтобы добиваться, не приходя на постоялый двор, а идя к постоялому двору, не почивая на лаврах, а двигаясь к лаврам, находя своим талантам самое конструктивное, продуктивное и творческое применение, – наверное, в этом и состоит главное значение жизни, единственный возможный ответ на экзистенциальный невроз, который парализует человеческие усилия и калечит человеческую психику».
С той же убежденностью Франкл описывает «достижение», или «осуществление», как «явную и самоочевидную» категорию жизненного смысла.
Но самоочевидна ли она? Является ли стремление, достижение или движение вперед частью существования, неотъемлемой частью глубочайших слоев человеческой мотивации? На этот вопрос можно с полной уверенностью ответить отрицательно. В нашей собственной культуре были другие эпохи, когда устремление к цели никоим образом не принималось в качестве заслуживающего всеобщего одобрения способа обретения смысла жизни. Надпись на диске очень древних солнечных часов гласит: «Horas non nuinero nisi seiena» («Часы ничего не значат, если они не безмятежны»). Фромм отмечает, что горячее стремление человека к славе и прочному достижению является распространенным с эпохи Возрождения до наших дней, тогда как у средневекового человека оно малозаметно. Кроме того, в странах Северной Европы одержимое стремление человека к работе не проявлялось до XVI века. Вера в «прогресс», неуклонно направляемый цивилизацией в желательную сторону, также возникла относительно недавно, до XVII века она не играло заметной роли в культуре.
Другие современные культуры не разделяют не только понимания жизненной цели, ориентированного на достижение, но и самой концепции «жизненной цели». Один из тех, кто наиболее ясно выражает альтернативную точку зрения, учитель дзэн Д.Т. Судзуки. В блестящем эссе Судзуки иллюстрирует два противоположных отношения к жизни, сравнивая два стихотворения. Первое – хайку Басе, японского поэта XVII века:
Когда я внимательно смотрю,
Я вижу цветущую назуму
У ограды!
Второе – строфа Теннисона:
Цветок в потрескавшейся стене,
Я вырываю тебя из трещин
И держу, вместе с корнями, в руке.
Маленький Цветок, но если бы я мог понять,
Что ты такое, весь, со всеми корнями,
Тогда я знал бы, что такое Бог и человек.
Басе в хайку просто внимательно смотрит на назуму (незаметное, скромное, почти ничтожное растение), цветущее у ограды. Хайку выражает (хотя, как говорит Судзуки, ее утонченность при переводе утрачена) нежное, смиренное, близкое и гармоничное отношение к природе. Басе безмятежен; его чувства сильны, но он мягко позволяет последним двум слогам (называемым по‑японски «кана», которым в английском переводе найдено адекватное соответствие в виде восклицательного знака) выразить то, что он чувствует.
Теннисон красноречив и активен. Он срывает цветок, вырывает его из природы «вместе с корнями» (а это означает, что растение может погибнуть) и внимательно изучает его (как будто для того, чтобы анатомировать). Теннисон пытается проанализировать и понять цветок, он отстраняется от него в манере научной объективности. Он использует цветок, чтобы узнать что‑то еще. Он превращает свою встречу с цветком в знание и, в конечном счете, во власть.
Судзуки полагает, что этот контраст иллюстрирует западное и восточное отношение к природе и косвенно – к жизни. Западный человек аналитичен и объективен и пытается понять природу, анализируя, а затем подчиняя и эксплуатируя ее. Восточный человек субъективен, он объединяет, суммирует и пытается не анализировать и использовать природу, но ощутить ее и войти с ней в гармонию. Таким образом, это контраст между модусом поиска‑действия и модусом гармонизации‑единства, часто выражаемый через противопоставление «действия» и «бытия».
Если мы выйдем из своей современной шкуры и оглянемся назад, то легко увидим, что установки по отношению к «цели» претерпели постепенную эволюцию. Первые христиане превыше всего ценили созерцание. Вспомним слова Христа: «Они не сеют, не жнут и не собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их»; или «Поглядите на лилии в поле, как они растут: не трудятся и не прядут». Первые христиане считали труд и благополучие не целями, которые нужно преследовать, а препятствиями, забивающими разум заботами и поглощающими время, которое следует провести в служении Богу. В первых монастырях физическим трудом занимались одни послушники; художественная деятельность (иллюстрирование рукописей) ценилась выше, а самым праведным занятием считалось созерцание. Резные изображения по камню на фасадах романских соборов недвусмысленно показывают эту иерархию.
В конце Средних веков люди начали стремиться к познанию законов природы и труду с целью активного подчинения физического мира. Центральным мотивом астрологических трактатов XIII века было то, что «мудрый человек будет властвовать над звездами». Человек Возрождения открыто принимал активное отношение к миру. Люди, подобные Леонардо да Винчи, Джордано Бруно и Бенвенуто Челлини, полагали, что мир существует, чтобы его изменить; они избавили понятие труда (и профессионального мастерства) от бытовавшего пренебрежительного отношения.
В XVI веке Джон Кальвин выдвинул теологическую систему, оказавшую сильное влияние на установки западной культуры по отношению к жизненной цели. Кальвин верил, что людям, по милости Бога, суждено быть либо избранными, либо проклятыми. Избранные интуитивно знали о своем предопределенном спасении и, по желанию Бога, должны были активно участвовать в делах этого мира. По сути, Кальвин заявил, что знаком избранности Богом является мирской успех человека. С другой стороны, проклятые были неудачниками и в земной жизни.
Испытавшая влияние Кальвина пуританская традиция, от которой мы еще не вполне освободились, ценила самопожертвование, тяжелый труд, амбиции и социальный статус. Труд считался богоугодным делом: для праздных рук дьявол находит занятие. Государство уподоблялось весельной лодке: каждый человек был членом экипажа и должен был грести своим веслом. Тот, кто не греб, считался балластом – он паразитировал на остальных. Подобные этические представления прекрасно работали на экономическую жизнеспособность молодых Соединенных Штатов, но для тех поколений, которые в чем‑то не ощущали себя «соответствующими», они создавали постоянный фон переживаний вины и ничтожности.
Таким образом, западное общество незаметно приняло такое видение мира, в котором существует некий «пункт назначения», результат всех стремлений человека. Человек стремится к цели. Усилия человека должны иметь некую конечную точку, точно так же, как проповедь имеет мораль, а рассказ – убедительный вывод. Все является подготовкой к чему‑то еще. Уильям Батлер Йетс сокрушался: «Когда я думаю обо всех книгах, которые прочел, о слышанных мудрых словах, о тревогах, доставленных родителям,…о надеждах, которые питал, вся жизнь, взвешенная на весах моей собственной жизни, кажется мне подготовкой к чему‑то, что никогда не произойдет».
Полезный язык для обсуждения этого западного видения мира можно позаимствовать у эстетики, различающей в музыкальной композиции пассажи, обладающие характером «введения» (или «подготовки») и пассажи, имеющие качество «исполнения» (или «осуществления»). Мы, западные люди, подобным образом классифицируем свою жизненную активность: прошлое и настоящее – это подготовка к тому, что должно последовать. Но что должно последовать? Если мы не верим в бессмертие, то приходим к ощущению, что вся наша жизнь является подготовкой, не завершающейся «исполнением». При этом трудно не испытывать переживания «бесцельности», «бессмысленности».
Но следует помнить, что искусство – это не жизнь. Искусство может создать равновесие между «подготовкой» и «исполнением» так, как это не может сделать жизнь. Убежденность в том, что жизнь без достижения цели не полна, – не столько трагический экзистенциальный факт жизни, сколько западный миф, культуральный артефакт. Восточный мир не допускает мысли, что у жизни есть «пункт назначения» или что она представляет собой проблему, которая должна быть решена: нет, жизнь – это тайна, которую нужно прожить. Индийский мудрец Бхагван Шри Раджниш говорит: «Существование не имеет цели. Это чистое путешествие. Путешествие жизни так прекрасно, кого волнует пункт назначения?». Жизнь просто есть, и мы просто оказались вброшены в нее. Жизнь не требует обоснования.
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ
Я начал эту главу со слов о том, что важный первый шаг для терапевта переформулировать жалобу пациента на бессмысленность, чтобы обнаружить присутствие «контаминирующих» проблем. Ощущение бессмысленности может быть «заменителем» тревоги, связанной со смертью, отсутствием почвы и изоляцией, и терапевту стоит уделить внимание этим факторам, подойдя к ним с позиций, обсуждавшихся в предыдущих главах этой книги. Часто пациенту бывает полезен взгляд терапевта, относительно независимый от культурально обусловленной точки зрения и помогающий убедиться, что понятие «смысла» весьма относительно. Представление о том, что жизнь, не имеющая четкой цели, не заслуживает того, чтобы ее жить, основана на произвольных допущениях, связанных с культурой.
Каковы еще возможные технические подходы в терапии? Я сделаю обзор литературы, касающейся терапевтических подходов к бессмысленности, но сначала отмечу, что эта литература бедна. Кроме нескольких разрозненных клинических заметок, описывающих техники наставлений, и некоторых неглубоких подходов, описанных Франк‑лом, она не дает ничего.
В чем причина этого? Может быть, в том, что бессмысленность слишком часто оказывается проблемой не первичной и элементарной, а производной или состоящей из нескольких различных компонентов, и тогда используются уместные терапевтические техники, разработанные и описанные в иных соответствующих контекстах. Возможно, бессмысленность так обескураживала, что это препятствовало разработке успешной терапевтической технологии; терапевтам же оставалось научиться селективному невниманию к этой проблеме, обращая внимание только те вопросы, на которые у них есть ответ. Ситуация не слишком победная, но для клиницистов, находящихся в поисках исследовательской задачи, она может открывать заманчивую перспективу. В этой главе собран широкий спектр соображений о проблеме бессмысленности, призванный выполнить роль контекста, который, возможно, позволит терапевтам найти новые и творческие ответы на старую проблему.
«Настрой» терапевта
Когда терапевт имеет дело с психическими конфликтами, включающими конечные факторы смерти, свободы и изоляции, одним из его первых шагов должно быть вхождение в определенный «психический настрой». То же самое требуется от терапевта, занимающегося проблемой бессмысленности. Он должен повысить свою восприимчивость к проблеме, начать по‑другому слушать, отдавая себе отчет в важности смысла в жизни индивидов. Для многих пациентов этот вопрос не является критическим, их жизнь кажется наполненной смыслом. Но у других ощущение бессмысленности глубоко и всеобъемлюще. При взаимодействии с ними терапевт должен быть настроен на смысл, думать об общем фокусе и направленности жизни пациента. Выходит ли пациент каким‑либо образом за пределы собственного "я", за рамки монотонной повседневной рутины жизнеобеспечения? Я занимался терапией многих молодых взрослых, приверженных стилю жизни калифорнийских холостяков, со свойственной ему высокой чувственностью, половой активностью, а также погоней за престижем и материальными целями. И я убедился, что терапия таких пациентов редко бывала успешной, если я не помогал им обратиться к чему‑либо за пределами этих интересов.
Но как? Как добиться в терапии такой перефокусировки? Если терапевт обладает повышенной восприимчивостью к роли смысла жизни, тогда и пациент, улавливая его скрытые намеки, станет таким же чувствительным к этому вопросу. В этом случае явно и неявно терапевт интересуется взглядами пациента, глубоко изучает его любовь к другому человеку, расспрашивает о долговременных надеждах и целях, исследует творческие интересы и стремления. В частности, я нашел необычайно полезным сбор глубинной истории усилий пациента творчески выразить себя.
Вся эта активность составляет интегральные части жизни пациента. Чтобы узнать и оценить себя, он должен научиться выявлять и ценить эти части. Для того чтобы «заботиться» о пациенте, терапевт должен знать его по возможности глубоко. Это включает в себя также знание его посвященной поиску и созданию смысла активности. Я вспоминаю одного молодого инженера, чрезвычайно изолированного индивида, который в течение дня работал в уединении, а вечерами и в выходные занимался своим личным компьютером, оккупировавшим почти все его жизненное пространство. Он производил впечатление ограниченного, безжизненного, непроходимо тупого, и я часто визуализировал его как маленькую лабораторную мышь, принюхивающуюся ко мне в моем кабинете. Моя терапевтическая фантазия об этом пациенте состояла в том, чтобы взорвать этот чертов компьютер и привести в его жизнь каких‑нибудь людей. Казалось, мы зашли в тупик: я не мог развить в себе никакого чувства заботы о нем и, соответственно, не мог сдвинуть с его одиноких путей. Наконец я начал расспрашивать, что он делает каждый вечер со своим компьютером. Он отвечал неохотно, потому что очень стыдился своего уединенного, отшельнического, бесконечного сидения с паяльником, которое большую часть жизни символизировало его неспособность устанавливать отношения с другими людьми. Однако в конце концов он открылся и два часа в пленительных подробностях описывал свое занятие. Этот сеанс изменил в терапии все. Мы оба наконец поняли, что «бесчувственное» паяние на самом деле было важной формой творческого выражения, а не просто сублимирующей или замещающей деятельностью. В результате того, что он поделился со мной, наши отношения стали намного ближе и он захотел поделиться другими важными секретами. Постепенно я помог ему привести в жизнь других людей, скорее наряду с творческой работой, чем вместо нее, а в конце концов и разделить эту работу с ними.
Дерефлексия
Выше я приводил изречение Франкла, что «счастье происходит; нет смысла за ним гнаться». Чем больше мы намеренно ищем самоудовлетворения, тем больше оно будет ускользать от нас. Чем больше мы воплощаем в своей жизни некий смысл, лежащий за пределами нашего "я", тем больше последует счастья. Для пациентов в терапии необходимо, чтобы терапевт помог им отвести взгляд от самих себя. Франкл описал специфическую технику – дерефлексию, суть которой заключается в том, чтобы отвлечь пациента от собственного "я", от своей дисфории, от источника своего невроза, переключив его на сохранные части собственной личности и на смыслы, доступные для него в мире.
Техника дерефлексии в том виде, как она описана Франклом, чрезвычайно проста и заключается главным образом в том, что пациенту предписывается перестать фокусироваться на себе и заняться поиском смысла вне "я". Показательна нижеследующая запись беседы Франкла с девятнадцатилетней девушкой‑шизофреничкой.
"Франкл: Вы сейчас находитесь в таком состоянии, когда перед вами открыта перспектива реконструкции собственной жизни! Но человек не может реконструировать свою жизнь, не имея цели, не имея какой‑то задачи перед собой.
Пациентка: Я понимаю, что вы имеете в виду, доктор, но меня больше всего интересует вопрос: что происходит во мне?
Франкл: Не размышляйте над собой. Не вникайте в источник своего беспокойства. Предоставьте это нам, врачам. Мы проведем вас через кризис. Ну, разве вас не манит цель, скажем, художественного свершения? Разве нет в вас творческого брожения многих волнующих вещей – произведений искусства, не обретших еще формы, ненарисованных картин, ожидающих своего воплощения, – которые ждут, чтобы вы их создали? Подумайте об этом.
Пациентка: Но этот внутренний беспорядок…
Франкл: Не следите за своим внутренним беспорядком, а обратите взгляд на то, что вас ждет Значение имеет не то, что таится в глубинах, а то, что ждет в будущем, ждет, чтобы вы его актуализировали. Я знаю, вы переживаете нервный кризис, который вас беспокоит, но мы нальем масла на взволнованные воды Это наша работа врачей. Предоставьте проблему психиатрам. В любом случае не следите за собой, не спрашивайте, что происходит в вас, спрашивайте лучше, какие вас ждут достижения.
Пациентка: Но в чем корень моего беспокойства?
Франкл: Не сосредоточивайтесь на подобных вопросах. Каким бы ни был патологический процесс, лежащий в основе вашего психологического недуга, мы вылечим вас. Поэтому не беспокойтесь о странных чувствах, преследующих вас. Не обращайте на них внимания, пока мы не заставим вас от них избавиться. Не следите за ними. Не боритесь с ними…"
По мнению Франкла, если пациент чрезмерно поглощен собой, то долгий поиск причин тревоги в себе обычно замутняет проблему и в конечном счете становится антипродуктивным, делая пациента еще более поглощенным собой. Поэтому Франкл рекомендует терапевтам занимать в отношении терапии таких пациентов следующую позицию (которая должна быть доведена до сведения пациента), вследствие неустранимых факторов (семейная история пациента, генетически обусловленная тревога, генетический дисбаланс автономной нервной системы и т.п.) пациент имеет высокий базовый уровень тревоги, по поводу которого мало что может сделать, кроме приема лекарства, или выполнения определенных тренировок, или какой‑то подобной корректирующей деятельности. Далее терапевт может заняться установкой пациента по отношению к его ситуации и выявлением доступных для него смыслов.
Специфическая техника, проиллюстрированная данной виньеткой, выглядит настолько авторитарной, что может быть неприятной и, весьма вероятно, оказалась бы неэффективной для многих современных американских терапевтов и пациентов. Несомненно, до некоторой степени это культуральный артефакт, от среднего жителя Вены в силу традиции скорее следует ожидать почтительного отношения к профессиональным титулам и знаниям. Но есть и еще одно возражение против этой техники: обращение к авторитету («мы, врачи, проведем вас через кризис») в конечном счете подрывает личностный рост, так как блокирует путь к осознанию и принятию ответственности.
Тем не менее с целью Франкла спорить не приходится, часто бывает жизненно важно переключить внимание пациента с него самого на других. Терапевт должен найти способ помочь пациенту развить в себе любопытство и заботу о других. Особенно хорошо для этой цели подходит терапевтическая группа. Эгоцентричные, нарциссические тенденции легко проявляются, и поведенческий стереотип «брать не давая» неизбежно становится ключевой проблемой в группе. Терапевт может предложить пациенту подумать о том, как чувствуют себя в этот момент другие, в непринужденной, неструктурированной форме терапевт может провести для пациента тренинг по обучению эмпатии. В группах пациентов с острыми расстройствами я часто поручал болезненно поглощенным собой индивидам представлять группе новых пациентов и помогать «новеньким» выразить перед другими свою боль и свои проблемы.
Различение смысла
Франкл полагает, что задача терапевта – уловить некий общий узор, смысловой рисунок в том, что кажется случайными трагическими событиями жизни. Часто от терапевта требуется большая изобретательность, что иллюстрирует один из случаев Франкла. К нему обратился пожилой врач общей практики, находившийся в подавленном состоянии с тех пор, как два года назад потерял жену. Цитирую Франкла:
«Как я мог бы помочь ему? Что мне ему сказать? Так вот, я не стал говорить ничего, а вместо этого поставил перед ним вопрос: „Что произошло бы, доктор, если бы вы умерли первым, а вашей жене пришлось бы пережить вас?“ „О, – сказал он, для нее это было бы ужасно, как бы она страдала!“ Тогда я откликнулся: „Видите, доктор, она избежала этих страданий, и именно вы избавили ее от них, но вы должны платить за это тем, что пережили и оплакиваете ее“. Он не ответил ни слова, но пожал мне руку и спокойно покинул мой кабинет».
Франкл приводит еще один пример своей помощи пациенту в обнаружении жизненного смысла. Следующая запись – отрывок интервью с восьмидесятилетней женщиной, умирающей от рака, которая была глубоко подавлена, угнетена тревогой и чувством своей бесполезности.
"Франкл: О чем вы думаете, когда оглядываетесь на свою жизнь? Она стоила того, чтобы жить?
Пациентка: Ну, доктор, должна сказать, что у меня была хорошая жизнь. Действительно славная жизнь. И я должна благодарить Господа за то, что получила в жизни. Я ходила в театры, посещала концерты и так далее.
Франкл: Вы говорите о чудесных переживаниях; но теперь все это кончится, не так ли?
Пациентка (задумчиво): Действительно, теперь все кончается…
Франкл: Ну, и теперь вы думаете, что все чудесные вещи вашей жизни перестанут что‑либо значить, когда приблизится ваш конец? (И она знала, что он приблизился!)
Пациентка (еще более задумчиво): Все эти чудесные вещи…
Франкл: Но скажите мне, вы думаете, кто‑нибудь может сделать небывшим, например, счастье, которое вы испытали, кто‑нибудь может зачеркнуть его?
Пациентка (глядя мне в лицо): Вы правы, доктор, никто не может зачеркнуть его!
Франкл: Или кто‑нибудь может зачеркнуть добро, с которым вы встречались в жизни?
Пациентка (становясь все более эмоционально включенной): Никто не может зачеркнуть его!
Франкл: То, чего вы добились, что осуществили…
Пациентка: Никто не может зачеркнуть это!
Франкл: Или то, что вы мужественно и честно перестрадали. Может кто‑нибудь устранить это из вашего прошлого, где это хранится?
Пациентка (тронутая до слез): Никто не может изгладить это! (Спустя некоторое время.) Это правда, мне пришлось так много страдать, но я старалась быть мужественной и стойкой, принимая удары жизни. Знаете, доктор, я относилась к своему страданию как к наказанию. Я верю в Бога.
Франкл: Но не может ли страдание иногда быть еще и вызовом? Разве не возможно, что Бог хочет увидеть, как Анастасия будет переносить его? И может быть. Он должен был признать: «Да, она была очень мужественна». А теперь скажите мне, фрау Анастасия, может кто‑нибудь устранить из жизни такое достижение, такое свершение?
Пациентка: Конечно, никто не может это сделать!
Франкл: То, что ценится в жизни, то, что важно в ней, это чего‑то достичь и что‑то осуществить. И именно это вы сделали. Вы мужественно перенесли страдание. Вы стали примером для наших пациентов в том, как принимали свои страдания. Я поздравляю вас с этим достижением, с этим свершением, а еще поздравляю ваших соседей по комнате с тем, что им выпала возможность видеть такой пример и быть ему свидетелями".
Франкл сообщает, что благодаря этой беседе у пациентки возросло чувство осмысленности, в последнюю неделю жизни депрессия ее не беспокоила, и она умерла, полная гордости и веры.
Терри Цюлке и Джон Уоткинс (Terry Zuehike amp; John Watkins) сообщают об исследовании, в ходе которого они применили к двенадцати умирающим пациентам одинаковый терапевтический подход, в котором сильный акцент ставился на переживание смысла. Авторы давали пациентам заполнить Тест жизненной цели (PIL) до и после терапии и на основании его отметили значительное возрастание ощущения жизненной цели.
Какого рода смысл помогает терапевт найти пациенту? Франкл подчеркивает уникальность смысла каждого пациента, но, как мы видим из записей терапевтических бесед, он не избегает широких намеков и открытых формулировок смысла, предлагаемого пациенту. Предлагаемые им смыслы основаны на триаде смысловых категорий, описанной мной ранее в этой главе: творческое достижение, переживание, позиция по отношению к страданию. Ставя акцент либо на творческом достижении, либо на переживании, Франкл подчеркивает постоянство прошлого: достижения и переживания сохраняются навечно. Когда трагедия и страдание сегодняшнего дня заслоняет все остальные жизненные смыслы, тогда, подчеркивает Франкл, мы все‑таки можем находить смысл в жизни, заняв героическую позицию по отношению к своей судьбе. Наша позиция может служить вдохновляющим примером для других детей, родственников, друзей, учеников и даже остальных пациентов в палате. В принятии неизбежного страдания можно видеть принятие Бога, от которого исходит страдание. Наконец, героическое отношение человека к своей судьбе осмысленно само по себе, подобно тому, как Камю считал «гордый бунт» окончательным ответом человека на абсурд.
Как видно из этих двух примеров, весьма наглядно представляющих технический подход Франкла, его терапевтическая техника проблематична по той же причине, по какой проблематичен его подход к дерефлексии. В авторитарной манере он предлагает пациенту смысл. Но делая так, не отдаляет ли он пациента еще более от принятия полной личностной автономии? Тот же вопрос возникает, когда мы изучаем работу других терапевтов, фокусирующихся на вопросе смысла.
Например, Юнг рассказывает о случае, когда он также открыто предложил пациентке смысловую схему. Пациенткой была молодая, неверующая образованная еврейка с аналитическим складом ума, страдающая тяжелым неврозом тревоги. Расспросив о ее происхождении. Юнг узнал, что дед пациентки был раввином, широко признаваемым как цадик, святой, обладающий вторым зрением. Она и ее отец всегда посмеивались над этой ерундой. Юнг почувствовал инсайт о ее неврозе и сказал ей: «Теперь я намерен сказать вам то, что вы, можете быть, не сумеете принять. Ваш дед был цадиком…Ваш отец предал тайну и повернулся к Богу спиной. А у вас невроз потому, что в вас живет страх Бога». Интерпретация, рассказывает Юнг, «потрясла ее, как удар молнии».
В ближайшую ночь Юнг видел сон: «Прием проходил в моем доме, и девушка [пациентка] была там. Она подошла ко мне и спросила: „У вас нет зонтика? Такой сильный дождь“. Я нашел зонтик и уже готов был отдать ей его. Но что произошло вместо этого? Я вручил ей зонтик, встав на колени, как будто она была богиней».
Сон Юнга сказал ему, что пациентка была не просто поверхностной маленькой девочкой, она имела в себе задатки святой. Однако ее жизнь была направлена к флирту, сексу и материальному комфорту. У нее не было способа выразить самую существенную черту своей натуры, а именно то, что «на самом деле она была дитя Бога, предназначенная исполнить Его тайную волю». Юнг по обыкновению рассказал пациентке свой сон и свою интерпретацию его. Через неделю, сообщает он, «невроз исчез». (Между прочим, для Юнга нехарактерны сообщения о случаях успешной краткой терапии.)
Петер Кестенбаум (Peter Koestenbaum) является еще одним примером терапевта, открыто направляющего пациента к определенной цели". Пациент, мужчина немного за тридцать, испытывал нехватку чувства собственной значимости и самобытности, во многом происходящую от родительского пренебрежения в годы его формирования. У него была заметная амнезия своей жизни в возрасте до восьми лет, и в терапии он постоянно оплакивал свое потерянное детство. Терапевт почувствовал, что для этого пациента важным способом воссоздать свое потерянное детство и вновь определить себя как человека с детством может стать принятие на себя заботы о ребенке. У пациента с его женой был твердый уговор не иметь детей, поэтому терапевт и пациент разработали план, согласно которому пациент посвятил бы себя работе с организацией «Большой брат». Кестенбаум сообщает, что это чудесно сработало, контакт с ребенком помог пациенту по‑иному взглянуть на себя и свое прошлое. Год спустя пациент и его жена решили завести ребенка, и на этом этапе терапия успешно закончилась.
Программируемый смысл
Джеймс Крамбо (James Crumbaugh) рассказывает о программе регулярного двухнедельного «экспресс‑курса» логотерапии* с алкоголиками, в которой он пытался менее авторитарным способом улучшить способность пациента искать и находить смысл. Крамбо полагает, что для того, чтобы найти общую закономерность в своих сложных жизненных ситуациях, человек должен быть способен исчерпывающе охватить в восприятии детали и события, а затем заново соединить эти данные в некий новый гештальт. Соответственно, в краткосрочном курсе логотерапии делается попытка расширить перцептивное сознавание и стимулировать творческое воображение.
* Как я говорил в главе 10. «логотерапия» – это название, данное Франклом психотерапевтическому подходу, направленному на помощь пациенту в том, чтобы снова обрести смысл в жизни. Существуют «Логотерапевтический журнал», бюллетень по логотерапии (с заставкой «Здоровье через смысл»), Институт логотерапии и несколько тестов по логотерапии. Однако, как я уже говорил, по‑моему, не существует ясной логотерапевтической системы. Логотерапия заключается в импровизированных попытках помочь пациенту обнаружить смысл. Учебники по логотерапии описывают две основные техники: первую, дерефлексию, я уже обсуждал; вторая называется «парадоксальная интенция» и является по сути техникой «предписания симптома», когда пациента просят пережить и преувеличить свои симптомы. Таким образом, заику просят заикаться умышленно, пациента с фобией преувеличить свою фобию, пациента с навязчивой идеей сильнее ощутить ее навязчивость, компульсивного игрока умышленно проигрывать деньги. Парадоксальная интенция интересная техника, которую Франкл впервые описал в 1938 г., она предвосхитила похожую технику предписания симптома и парадокса, используемую школой Милтона Эриксона, Джея Хейли, Дона Джексона и Пола Вацлавика. Есть свидетельства ее эффективности для короткой терапии. Однако я не могу убедить себя, что она имеет специальное отношение к жизненному смыслу. Парадоксальная интенция помогает пациентам отделить себя от своих симптомов, отстранение и даже с юмором посмотреть на себя и главное – позволяет им убедиться, что они могут влиять на свои симптомы, – а в действительности даже создавать их. В той мере, в какой парадоксальная интенция позволяет человеку принять на себя ответственность за свои симптомы, ее можно рассматривать как относящуюся к сфере экзистенциальной терапии, но ее функция как смыслообразующей техники, мягко говоря, неясна.
Программа расширения перцептивного сознавания включала в себя упражнения по запоминанию визуальных стимулов (например, человеку предъявляли таблицы Роршаха и морские пейзажи, а потом помогали вспомнить детали). Программа по творческому воображению состояла из таких упражнений, как рассматривание картины на экране, проецирование себя в картину и соотнесение картины с каким‑либо желанием, основанным на прошлых переживаниях.
Тестирование PIL вскоре после прохождения курса (две недели спустя) обнаружило возрастание показателей Жизненной Цели. Однако прошедшее со времени терапии время было неадекватно, и не было способа установить специфичность результата: какие именно особенности интенсивного курса к каким результатам привели? Дедуктивный скачок от визуального восприятия и творческого воображения к развитию жизненно‑смысловой схемы достаточно велик и не ощущается как нечто само собой разумеющееся, но если положительные результаты на выходе окажутся воспроизводимы, то это оправдает более детальный анализ данной процедуры.
Вовлеченность: главный терапевтический ответ на бессмысленность
Позвольте мне на мгновение вернуться к предсмертной записке, с которой началась глава 10. О человеке, написавшем эту записку, известно мало, но это немногое достаточно весомо: он не в жизни, но удалился из жизни, удалился настолько далеко, что и жизнь, и активность, и переживания человеческих существ стали казаться ему ничтожными и абсурдными. Даже на протяжении его короткой притчи один персонаж (один из идиотов, таскающих кирпичи) успевает еще больше дистанцироваться, задавшись вопросом, зачем он таскает кирпичи, и с этого момента как он, так и автор записки, потеряны.
Есть что‑то неизбежно пагубное в слишком далеком отходе от жизни. Когда мы выводим себя из жизни и становимся сторонними наблюдателями, вещи перестают иметь значение. С этой точки зрения, которую философы называют «галактическим» взглядом или взглядом «из центра туманности» (а также «космической» или «глобальной» перспективой), мы и наши собратья выглядим мелкими и глупыми. Мы становимся только одной из бесчисленных форм жизни. Жизненная деятельность кажется абсурдом. Моменты полноты и богатства переживания теряются в громадной протяженности времени. Мы чувствуем себя микроскопическими пятнышками, вся жизнь которых умещается в еле заметное движение космического времени.
Галактический взгляд представляет для терапевтов огромную проблему. С одной стороны, он кажется неопровержимо логичным. В конце концов, способность к самосознаванию, к выходу за пределы "я", к взгляду на себя со стороны – одна из самых значимых черт человека. Это то, что делает его человеком. Во многих ситуациях более широкая, более исчерпывающая перспектива дает наблюдателю большую объективность, но однако именно эта перспектива отнимает у жизни витальность. Ведь тот, кто в течение длительного времени сохраняет подобный взгляд, впадает в глубокое уныние, а постоянное пребывание на этой позиции может быть фатальным.
Например, традиция философского пессимизма является естественным порождением взгляда «из центра туманности», и в XIX веке ее ведущий выразитель, Шопенгауэр, взирал на бренность с такой дистанции, что пришел к выводу, нет смысла стремиться к какой‑либо цели, от которой через мгновение (с галактической точки зрения) все равно не останется и следа. Следовательно, счастье и цель недостижимы, потому что они есть фантомы будущего или часть прошлого, которого больше не существует. Как и следовало ожидать, он заключает: «Ничто не стоит наших стремлении, наших усилий и стараний…Все хорошее – суета, мир – кругом банкрот, подобно бизнесу, не покрывающему собственных издержек».
Что можно сделать? Как терапевт мог бы компенсировать пагубные результаты галактического взгляда? Во‑первых, переход от взгляда «из глубины туманности» к шопенгауэровской позиции, «ничто не имеет значения, а поскольку ничто не имеет значения, жизнь не стоит того, чтобы жить» – логически не выдерживает критики. Например, раз ничто не имеет значения, не должно иметь значения и то, что ничто не имеет значения. В своем глубоком эссе об абсурде Томас Нейджел (Thomas Nagel) самым невозмутимым образом заявляет, что абсурдность, зримая из центра туманности, вовсе не есть prima facie катастрофа и просто не оправдывает столь сильных сигналов бедствия. Способность посмотреть на мир из туманной дали, утверждает Нейджел, это одна из наших самых прогрессивных, драгоценных и интересных способностей, и она не доставляет нам страдании до тех пор, пока мы сами не делаем ее источником страданий. То, что мы позволяем этому взгляду приобрести такой вес, указывает на нашу неспособность отдать себе отчет в космической незначительности ситуации. Нейджел полагает, что подлинное культивирование взгляда «из туманности» в сочетании со знанием о том, что наша сила именно в том и заключается, чтобы быть способными принять этот взгляд, позволит нам вернуться к своей абсурдной жизни «в одеждах иронии» вместо покрова отчаяния.
Еще один факт, заслуживающий внимания терапевта, состоит в том, что отчаяние, вызываемое «отсутствием значимостей» с галактической точки зрения, на самом деле основано на реальной значимости. Например, хотя Шопенгауэр пришел к заключению, что ничто не имеет значения, «ничто не стоит наших стремлений», для него многие вещи имели значение. Для него важно было убедить других, что вещи не имеют значения, важно было противостоять гегелевской системе мысли, активно продолжать писать до конца своей жизни, скорее философствовать, чем совершить суицид. Даже для человека, написавшего предсмертную записку о таскающих кирпичи идиотах, вещи имели значение: имело значение то, что он пытается понять состояние человечества и передать свои выводы другим. Если бы он обратился ко мне за помощью перед своим суицидом, мне бы следовало попытаться вступить в контакт с этой его частью, ищущей жизни, для которой не все безразлично.
Кент Бах (Kent Bach) предлагает другое противоядие галактическому взгляду – помнить, что, хотя такой взгляд разрушает осмысленность жизни, его действие не абсолютно: мы воспринимаем вещи как бессмысленные, только когда находимся в космической перспективе. Такие периоды – часть жизни человека, но только часть. Бессмысленность – это род переживания, и хотя оно настолько поглощает, что, кажется, делает бессмысленным все в прошлом и будущем, равно как и в настоящем, оказывать подобное действие оно может, лишь когда мы смотрим на свою жизнь с галактической точки зрения. Только с этой точки зрения вещи должны иметь смысл, чтобы иметь значение для нас. В других наших состояниях вещи имеют значение, потому что они имеют значение. Вещи имеют для нас значение постоянно. Для меня значимо передать эти мысли как можно яснее. В другие моменты имеют значение другие вещи – отношения, теннис, чтение, шахматы, разговоры. Пусть все это не соединяется в общее целое, если смотреть галактически, – перестает ли оно от этого быть значимым? Если вещи имеют значение, им не обязательно нести смысл, который бы делал их значимыми!
Из этой концепции вытекают непосредственные терапевтические следствия: терапевт должен помочь пациенту понять, что его нынешние сомнения (или принятие новой смысловой схемы) не уничтожают реальность прошлых значимостей. На память приходят три пациентки. Первая двадцать пять лет была монахиней, а затем, утратив веру, покинула орден. Ее нынешнюю депрессию и чувство неустойчивости усугубляло убеждение, что всю свою взрослую жизнь она «прожила во лжи». Другая пациентка в возрасте сорока пяти лет начала писать стихи и вскоре обнаружила, что у нее большой талант. Я занимался ее терапией, когда ей было шестьдесят и она умирала от рака. Ей было очень горько оттого, что она «впустую потратила» большую часть своей жизни, будучи женой фермера, растя детей, моя посуду, копая картошку – эта деятельность не согласовывалась с ее нынешней смысловой схемой. Еще одну пациентку в разгар жестокой бракоразводной баталии глубоко ранили слова человека, который двадцать лет был ее мужем, а теперь пытался отобрать у нее смысл, заявив, что никогда не любил ее.
Всем трем пациенткам помогло понимание того, что новая смысловая схема или глубокое состояние сомнения (то есть нынешнее видение прошлой жизни с галактической точки зрения) не уничтожает значимость, существовавшую прежде. Бывшая монахиня постепенно поняла, что ее нынешнее отсутствие веры не изглаживает веру, которая у нее когда‑то была, а также не отменяет добро, которое она тогда делала. Поэтесса также осознала в терапии, что ее прежняя жизнь в свое время имела для нее большой смысл. Она воспитывала детей, растила хлеб, жила в ритме природных циклов, и среди всего этого зародилась и потихоньку проросла ее поэзия. Ее сегодняшняя поэзия была продуктом всей ее жизни; особый характер ее стихов был сформирован ее уникальным жизненным опытом – даже архаическое занятие соскабливания грязи с картошки нашло свое место в живой ткани ее строф. Третья пациентка также узнала, что значимое в прошлом не только вечно, но и драгоценно. Она стала смело защищать то, что было ей дорого, и смогла сказать своему мужу: «Если ты двадцать лет жил со мной, не любя меня, это твоя трагедия! Что касается меня, то, хотя я не люблю тебя сейчас, когда‑то я очень тебя любила и провела с тобой много лучших лет моей жизни».
Вовлеченность в жизнь. Хотя некоторые из этих философских опровержений состояния бессмысленности содержат определенные интересные возможности для психотерапии, они недостаточно эффективны и чаще всего остаются психотерапевтическими курьезами. В этом случае, как и во всех других ситуациях терапевтического изменения, доводов разума самих по себе недостаточно. Терапевту требуется более эффективный подход. Дэвид Юм в знаменитом фрагменте своего «Трактата» указывает путь к нему. Находясь в галактической перспективе, он размышлял, и в результате его окружили облака сомнений («философическая меланхолия»):
«Это большое счастье, что, хотя разум неспособен рассеять облака сомнений, для этой цели достаточно самой природы, исцеляющей меня от философической меланхолии каким‑нибудь развлечением и живыми впечатлениями чувств, изгоняющими все эти химеры. Я обедаю, играю в трик‑трак, разговариваю, и я весел с моими друзьями, и когда через три или четыре часа развлечений возвращаюсь к этим размышлениям, они кажутся такими холодными, натянутыми и смешными, что я не могу найти в своем сердце склонности дальше погружаться в них».
Противоядием Юма против бессмысленности, заложенной в космической точке зрения, является вовлеченность. Ею же продиктовано решение Камю и Сартра – совершить скачок в обязательство и – действие. Толстой тоже выбрал это решение, когда сказал: «Можно жить лишь до тех пор, пока жизнь опьяняет нас».* Вовлеченность – самое эффективное терапевтическое средство против бессмысленности.
* Но, увы, соблазн галактической перспективы был для него слишком велик, и он закончил фразу тем, что «как только мы снова трезвы, мы видим, что все это заблуждение, и глупое заблуждение».
Выше я обсуждал гедонистический парадокс: чем больше мы намеренно ищем удовольствия, тем больше оно от нас ускользает. Франкл утверждает, что удовольствие – побочный продукт смысла, и наше искание следует посвятить обнаружению смысла. Я считаю, что поиск смысла столь же парадоксален; чем больше мы рационально ищем его, тем меньше находим; вопросы, которые человек задает о смысле, всегда переживут ответы.
Смысл, как и удовольствие, должен преследоваться косвенно. Ощущение осмысленности – побочный продукт вовлеченности. Вовлеченность на логическом уровне не разрешает фатальные вопросы, которые ставит перед нами галактическая перспектива, но она приводит к тому, что эти вопросы не имеют значения. Таков смысл изречения Витгенштейна: «Решение проблемы жизни видится в исчезновении проблемы».
Вовлеченность – это терапевтический ответ на бессмысленность вне зависимости от источника последней. Вовлеченность всем сердцем в любое из бесконечного множества жизненных действий не только устраняет вредное влияние галактической точки зрения, но и увеличивает наши шансы соединить события своей жизни в некакую целостнкю картину. Обрести дом, заботиться о других индивидах, об идеях и проектах, искать, творить, строить – эти и другие формы вовлеченности вознаграждают вдвойне: они по сути своей обогащают и, кроме того, облегчают дисфорию, возникающую у нас под влиянием бомбардировки разрозненными бессмысленными данными существования.
Значит, цель терапевта – вовлеченность. Задача не в том, чтобы создать вовлеченность или воодушевить пациента вовлеченностью – этого терапевт сделать не может. Но это и не нужно: желание вовлекаться в жизнь всегда есть внутри пациента, и терапевтические действия должны быть направлены на устранение препятствий на пути пациента. Что, например, мешает пациенту любить другого человека? Почему так мало удовлетворяют его отношения с другими? Каковы те паратаксические искажения, которые регулярно портят его отношения с другими? Почему так мало удовлетворения приносит работа? Что мешает пациенту найти работу, соответствующую его талантам, или находить приятные стороны в нынешней работе? Почему пациент не обращает внимания на свои творческие, или религиозные, или самотрансцендентные стремления?
Самое важное средство работы терапевта в этом контексте – его собственная личность, через которую он вовлекается в отношения с пациентом. Терапевт ведет пациента к вовлеченности в отношения с другими, и первый шаг на этом пути обеспечивается его личностным глубоким и подлинным отношением к пациенту. То, как это происходит, обсуждалось мною выше. Являясь образцом отношения к вовлеченности как к личностному обязательству, терапевт может служить для пациента объектом отождествления – человеком, которому небезразлична его профессиональная миссия, для которого значим рост других людей, который помогает другим – часто творчески – искать смысл.
Подведем итоги. Первый шаг терапевта в работе с проблемой бессмысленности состоит в том, чтобы проанализировать и «очистить от примесей» проблему. Многое из относимого к сфере «бессмысленности» на самом деле репрезентирует нечто другое (являясь либо культуральным артефактом, либо аспектом других конечных факторов смерти, свободы и изоляции) и должно в терапии рассматриваться соответственно. С «чистой» бессмысленностью, особенно когда она возникает из‑за принятия отстраненной галактической перспективы, лучше всего работать косвенно, через вовлеченность, которая лишает галактическую перспективу ее действия.
Этот терапевтический подход значительно отличается от терапевтических стратегий, предлагаемых мной для работы с другими конечными факторами. Со смертью, свободой и изоляцией необходимо встречаться непосредственно. Однако когда дело касается бессмысленности, эффективный терапевт должен помочь пациенту отвернуться от вопроса: принять решение вовлеченности, а не погружаться в проблему бессмысленности. Вопрос о смысле жизни, как учил Будда, решается не наставлением. Человек должен погрузиться в реку жизни и позволить вопросу уплыть.
Эпилог
Разговор о бессмысленности возвращает меня в ту точку круга, к тому определению, с которого я начал: экзистенциальная терапия – это динамический подход, в центре внимания которого находятся факторы, составляющие неотъемлемую часть человеческого существования. Каждый из нас жаждет неразрушимости, почвы, общности и структуры, и тем не менее мы все должны переживать неизбежную смерть, отсутствие почвы, изоляцию и бессмысленность. Экзистенциальная терапия основана на модели психопатологии, согласно которой тревога и ее дезадаптивные последствия представляют собой реакцию на эти четыре конечных фактора.
Хотя необходимо было обсудить каждый из конечных факторов отдельно, in vivo они сложным образом переплетены, и их взаимодействие неизменно определяет подтекст терапии. В диалоге между пациентом и терапевтом они являются и содержанием, и процессом. Конфронтация пациента со смертью, свободой, изоляцией и бессмысленностью поставляет терапевту эксплицитный интерпретируемый материал. Даже когда эти темы не возникают в терапии открыто, они все равно обусловливают modus operandi. Такие психические феномены, как воля, принятие ответственности, отношение к терапевту и вовлеченность в жизнь, являются ключевыми процессами терапевтического изменения. Именно эти решающие виды активности во многих терапевтических системах слишком часто считаются несущественными «вбрасываниями».
Притягательная сила экзистенциальной терапии обусловлена тем, что она твердо укоренена в онтологическом фундаменте, в глубочайших структурах человеческого существования. Она привлекает и тем, что имеет гуманистическую основу и, единственная среди терапевтических парадигм, полностью вмещает интенсивно личностную природу терапевтического предприятия. Кроме того, пространство экзистенциальной парадигмы является очень широким, оно принимает в себя и ассимилирует инсайты многих философов, художников и терапевтов, касающиеся мучительных и целительных последствий конфронтации с конечными факторами.
Однако это не более чем парадигма, то есть психологический конструкт, оправдываемый в конечном счете только своей клинической полезностью. Как и любой другой конструкт, он в конце концов уступит место другим конструктам, обладающим большей объяснительной силой. Каждая клиническая парадигма, если только какой‑нибудь официальный институт не высек ее на камне раньше, чем она созрела, органична выдвигая новую точку зрения, она позволяет четко описать некоторые смутные прежде факты. В свою очередь, эти новые данные модифицируют исходную парадигму. Я рассматриваю данную экзистенциальную парадигму как раннюю теорию, основанную на клинических наблюдениях, вынужденно ограниченных в своем источнике, спектре и количестве. Я надеюсь, что эта парадигма окажется органичной, то есть что она не только будет полезна клиницистам в своей нынешней форме, но послужит стимулом для дискурса, необходимого для того, чтобы модифицировать и обогатить ее.
Библиотека Фонда содействия развитию психической культуры (Киев) webmaster@psylib.kiev.ua