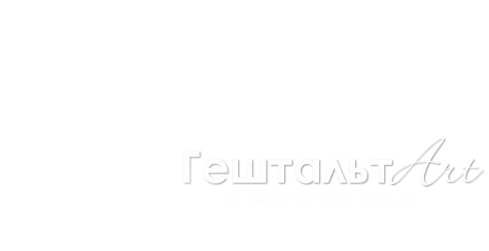Ирвин Ялом - Мамочка и смысл жизни
Ирвин Ялом
Мамочка и смысл жизни.
Ирвин Ялом.
Мамочка и смысл жизни.
Новое произведение Ирвина Ялома – это. безусловно, событие. Талант рассказчика ярко виден даже в тех его книгах, которые посвящены специальной тематике. Здесь же его писательский дар просто блещет.
Можно без конца слышать, что слово лечит, история учит, но оставаться при этом совершенным скептиком. Но стоит открыть книгу Ялома и прочесть несколько первых строк, и эти истины перестают быть банальными. Автор – замечательный рассказчик, он не только умеет рассказывать, он любит это делать. Беря а руки эту книгу, ты остаешься один на один с автором и становишься не читателем, а, скорее, слушателем. Ну, и, разумеется, учеником, потому что этот рассказчик учит. И когда он говорит: “Слушайте своих пациентов. Позвольте им учить вас”, на какой‑то миг вы меняетесь местами: ты становишься врачом, а Ялом – твоим пациентом, который учит своего терапевта. Ты только позволь ему это делать.
Широкому кругу читателей – рекомендуется, для специалистов – обязательна.
Глава 1. Мамочка и смысл жизни.
Сумерки. Возможно, я умираю. Зловещие предметы окружают мою постель: сердечные мониторы, кислородные баллоны, капельницы, провода – оборотная сторона смерти. Закрывая веки, я соскальзываю в темноту.
Но затем, спрыгнув с кровати, я вырываюсь из больничной палаты и шлепаю в сторону яркого, залитого солнцем Глен Эхо Парка, где я проводил многие летние вечера в далеком прошлом. До меня доносится музыка карусели. Я вдыхаю влажный и сладкий аромат липкого попкорна и яблок. Я направляюсь прямо, не обращая внимания на ларьки, продающие мороженое и рогалики с соусом, чтобы занять место в очереди за билетами в Пещеру Ужасов. Я оплачиваю вход и стою в ожидании, когда следующий вагончик появится из‑за угла и, зазвенев, остановится передо мною. Войдя внутрь, я пристегиваюсь ремнем и ощущаю комфорт кресла. В последний раз обернувшись вокруг, я вдруг вижу в толпе зевак ее.
Размахивая обеими руками, я зову ее так громко, что все вокруг слышат меня: “Мамочка! Мама!” Вагончик со скрежетом трогается. Я вжимаюсь в сиденье и, перед тем как меня поглощает темнота, зову снова и снова: “Как же я, мамочка? Как же я?”
И, даже подняв голову с подушки и попытавшись стряхнуть с себя видение, я ощущаю, как слова рвутся из горла: “Как же я, мамочка? Мама, как же я?”
Но мама на глубине шести метров. Холодная, как лед, вот уже десять лет лежащая в простом сосновом гробу на Анакостском кладбище в пригороде Вашингтона. Что от нее осталось? Думаю, только кости. Без сомнения, микробы отполировали их до блеска, сняв последние остатки плоти. Может быть, еще пряди тонких седых волос, сверкающие полоски хрящей, оставшиеся на концах больших костей бедра и голени. И, конечно же, кольцо. Покрытое пылью останков тоненькое серебряное обручальное колечко, купленное моим отцом в магазине на Хестер вскоре после приезда в Нью‑Йорк.
Да, прошло уже десять лет! Не осталось ничего, кроме нескольких прядей волос, хрящей, костей да серебряного филигранного колечка, И еще ее образа, тускнеющего в моих воспоминаниях.
Почему же сон опять вернул меня к мамочке? Мы отдалились друг от друга десятки лет назад. Вероятно, это произошло в тот день, почти полвека назад, когда мне было восемь лет и она взяла меня с собой в “Саливан”, кинотеатр, находящийся за углом магазина моего отца. Хотя в зале было много свободных мест, она плюхнулась в кресло по соседству с мальчишкой примерно на год старше меня. Он отреагировал немедленно и с нескрываемой злобой:
– Эти места заняты, леди!
– Ну как же! Заняты! – высокомерно ответила она, устраиваясь поудобнее в кресле. – Он занял места! Большая шишка! – добавила она во всеуслышание.
У меня было желание зарыться поглубже в бархат подушки. Спустя некоторое время, когда в зале потух свет, я, собрав всю свою храбрость, оглянулся назад, туда, где сидел он вместе со своим другом. Я безошибочно мог сказать, что они сверлили меня глазами. Один из них поднял кулак и прошипел: “Позже”.
С этих пор “Саливан” был закрыт для меня моей же мамой. Он стал вражеской территорией. “Вход воспрещен!” даже в дневное время. Чтобы не пропустить воскресные сериалы – “Бэтман”, “Зеленый Шершень”, “Фантом”, – я вынужден был заходить в зал только после начала сеанса, в темноте занимать свое место в самом конце зала поближе к выходу и выскальзывать за дверь еще до того, как зажжется свет. Ничто не помогало мне избежать несчастья быть побитым. Нетрудно представить, как это происходило, – удар в челюсть и все. Когда же это закончится? Что станет с тобой? Ты выбыл из игры, к тебе навсегда приклеился ярлык “мальчика для битья”.
И снова возвращение к мамочке? Когда из года в год я жил с ней в условиях непрерывной вражды? Она была самодовольной, назойливой, подозрительной, контролирующей, язвительной, очень самоуверенной и глубоко невежественной (но сообразительной – даже я замечал это). Ни один теплый момент моей жизни не был связан с ней, никогда я не гордился ею, никогда не был счастлив от того, что она моя мама. У нее был ядовитый язык и злобное слово про каждого и для каждого, кроме моего отца и сестры.
Я любил сестру моего отца, тетушку Ханни, ее ласку, бесконечную теплоту, ее жареные сосиски, завернутые в кусочки сыра, ее непревзойденный штрудель, рецепт которого, к сожалению, безвозвратно был для меня утерян (ее сын не выслал мне его – но это другая история). Но больше всего я любил воскресные приезды Ханны. В этот день она закрывала свою закусочную “Морской Ярд” и разрешала мне часами играть в пинбол. Она позволяла подкладывать бумажные шарики под ножки автомата, чтобы замедлить спуск шарика и набрать побольше очков. Мое обожание Ханны приводило к безумным нападкам моей мамы на невестку. У мамы был свой унылый перечень недостатков Ханны: ее бедность, отвращение к работе в магазине, глупый муж, недостаток гордости и готовность принимать любое унижение.
Речь мамы была отвратительной, с сильным акцентом и обильно приправленная словечками из идиша. Она никогда не приходила на родительские собрания в школу. И слава богу! Я приходил в ужас от мысли представить ей моих друзей. Я боролся с ней, бросал ей вызов, орал на нее, избегал ее и в конце концов перестал с ней общаться. Навсегда.
В детстве для меня большой загадкой было: как, папа выносил ее! Память хранит те воскресные дни, когда мы с отцом играли в шахматы и он весело подпевал пластинкам с русской и еврейской музыкой, в такт покачивая головой. Но рано или поздно воздух разрывался криком мамы: “Гевальт, гевальт, хватит! Vay iz mir, прекрати шуметь! Достаточно музыки!” Не говоря ни слова, мой отец поднимался, выключал граммофон и молча заканчивал игру. Сколько раз в такие моменты я молился: “Пожалуйста, папа, ну хоть сегодня дай ей хорошенько!”
Так почему же я снова вернулся к ней? И почему задаю ей этот вопрос в конце жизни? “Как же я, мамочка?” Может ли быть так (и это для меня потрясение), что всю свою жизнь я строил в соответствии с понятиями этой ничтожной женщины?! Я всегда старался вырваться из моего прошлого, сбежать от него – от третьего класса, от гетто, от ярлыков, выставления напоказ, от черных габардин и бакалейной лавки – сбежать, стремясь к независимости и росту. И возможно ли, что я так и не смог избежать ни своего прошлого, ни своей матери?
Меня преследовала зависть к тем из моих друзей, у которых были веселые, элегантные мамы, всегда готовые прийти им на выручку! И странно, что мои друзья отдалились от своих матерей: они не звонят, не навещают, не слишком часто вспоминают о них. Хотя я изо всех сил старался стереть образ матери из своей памяти, я все еще, даже спустя десять лет после ее смерти, по привычке тянусь к телефону, чтобы позвонить ей.
Да, разумом я все понимаю и по этой теме читаю лекции. Я объясняю своим пациентам, что часто детям, которых обижали в детстве, трудно вырваться из своих дисфункциональных семей, даже если это были хорошие, дружные семьи с любящими родителями. В конце концов, не является ли первостепенной задачей хороших родителей отпустить своего ребенка из дома?
Мне это понятно, но не нравится. Я не люблю, когда мама навещает меня каждый день. Меня раздражает то, что она заполнила собой все пустые места моей памяти и невозможно ее извлечь оттуда. Но больше всего я ненавижу то, что в конце жизни вынужден спрашивать: “А как же я, мамочка?”
Помню огромное мягкое кресло, стоявшее в ее комнате, которое я увидел, вернувшись домой из армии. Оно стояло возле стены, на которой висели полки, прогибающиеся под весом стоящих там книг – как минимум по одному экземпляру, а то и более книг написанных мною, масса других книг и пара дюжин словарей. Я представлял себе, что одно более или менее сильное сотрясение могло похоронить ее по самый нос под глыбой книг ее единственного сына.
Когда бы я ни заезжал в гости, она неизменно сидела на стуле с двумя‑тремя моими книгами на коленях. Она держала их в руках, вдыхала запах книг, стирала с них пыль, но никогда не читала. Она была слишком слепа. Но даже перед тем, как ее зрение ухудшилось, книги оставались для нее чем‑то непостижимым. Ее единственным образованием было – житель США.
Я – писатель. А моя мама не умеет читать. И все же я обращаюсь к ней с вопросом о смысле моей работы. В чем он? В аромате книг? В красивой обложке? Все мои кропотливые исследования, мои полеты вдохновения, мой скрупулезный поиск правильного решения, неуловимое изящество фразы – ничего этого она никогда не знала.
Смысл жизни? Смысл моей жизни. Каждая книга, стоящая в мамином стеллаже, содержит замысловатые ответы на этот вопрос. “Мы все существа, ищущие смысл жизни, – писал я, – которые испытывают беспокойство оттого, что их закинули в бессмысленную вселенную”. Чтобы избежать нигилизма, мы должны поставить перед собой двойную задачу. Во‑первых, изобрести проект смысла жизни, достаточно убедительный для поддержания жизни. Следующий шаг – забыть о факте изобретения И убедить самих себя, что мы просто открыли смысл жизни, то есть у него независимое происхождение.
Хотя я делаю вид, что безоценочно принимаю любое решение человека, я втайне делю их на медные, серебряные и золотые. Некоторых людей всю жизнь подгоняет мысль о торжестве мести; другие, полные отчаяния, мечтают лишь о мире, отрешенности и свободе от боли. Некоторые люди посвящают свою жизнь достижению успеха, богатства, власти, справедливости; другие находятся в поиске самосовершенствования, погружаясь в различные формы бытия: любовь или божественную сущность. В то же самое время еще одна группа людей находит смысл жизни в самореализации или творческом самовыражении.
“Нам необходимо искусство, – говорил Ницше, – иначе мы погибнем от правды”. Следовательно, творчество – золотая середина. Я превратил всю мою внутреннюю жизнь, весь мой опыт, все мои представления в тлеющий внутренний склад, из которого время от времени вытаскиваю нечто новое и прекрасное.
Но мой сон говорит иначе. Он показывает, что я посвятил всю свою жизнь совершенно другой цели – завоевать признание и одобрение моей умершей мамы. Обвинение из сна имеет силу – слишком большую, чтобы ее игнорировать или забыть. Но сны, и я это знаю точно, не являются ни непостижимыми, ни неизменными. Большую часть своей жизни я был ваятелем снов, приручая их, разъединяя и соединяя. Мне удается выуживать из снов различные секреты.
И снова, опуская голову на подушку, я плыву к Комнате Ужасов.
Вагончик резко останавливается напротив ограждения и через мгновение, сменив направление, медленно и покачиваясь возвращается обратно. “Мамочка! Как же я!” – зову я, размахивая обеими руками. И она слышит меня. Я вижу, как она прокладывает себе дорогу сквозь толпу, отталкивая людей направо и налево. “Оуэн! Что за вопрос!” – говорит она, открывая ворота и вытягивая меня из вагончика.
Я смотрю на нее. Кажется, ей лет пятьдесят или шестьдесят. Она высокая и коренастая. В руках у нее вышитая хозяйственная сумка. Ее вид нелеп, но, очевидно, она не знает об этом, и идет с высоко поднятой головой красавицы. Я замечаю знакомые сгибы ее локтей и чулки, подвязанные чуть выше колена. Она целует меня. Ложная любовь!
– Какой ты молодец! Можно ли просить о большем?! Все эти книги! Я горжусь тобой. Если бы только твой отец мог это видеть!
– Что значит молодец, мама? Как ты узнала? Ты же не можешь прочитать то, что я написал. Я имею в виду твое зрение.
– Я знаю, что говорю. Посмотри на все эти книги. – Она открывает свою сумку, извлекает оттуда две мои книги и начинает нежно их гладить. – Большие книги. Красивые книги.
На меня накатывает разочарование от того, что она гладит мои книги.
– Важно то, что внутри. А если внутри сплошная чушь?
– Оуэн, не говори narisheit – глупости. Великолепные книги.
– Ты носишь эти книги повсюду, даже в Глен Эхо? Ты относишься к ним как к святыням! Тебе не кажется…
– Ты знаменит! О тебе знает весь мир! Дочь моего парикмахера изучает твои книги в школе.
– Дочь твоего парикмахера?
– Я всем говорю. А почему бы и нет?
– Мама, разве тебе больше нечем заняться? Почему ты не проводишь выходные со своими друзьями: Ханной, Герти, Любой, Дороти, Сэмом, твоим братом Саймоном? И что ты делаешь здесь?
– Ты стыдишься, что я здесь? Тебе всегда было стыдно. А где мне еще быть?
– Мне просто кажется, что мы оба уже взрослые. Мне за шестьдесят. Может быть, пора иметь свои личные сны?
– Тебе всегда было стыдно.
– Я этого не говорил. Ты меня не слушаешь!
– Всегда думал, что я глупая, ничего не понимаю!
– Я не это говорил, а только то, что ты ничего не знала! Ты…
– Я – что? Ну давай, договаривай, раз начал. Я все равно знаю, что ты скажешь.
–Что?
– Нет уж, Оуэн, скажи это сам. Если я это сделаю, ты скажешь, что это не твои слова.
– Ты никогда не слышала меня. Ты говорила о вещах, про которые ничего не знала.
– Слышать тебя? Я не слышала тебя! Скажи, Оуэн, а ты слышал меня? Что ты вообще знал обо мне?
– Ты права, мама, мы оба были плохими слушателями.
– Не я, Оуэн. Я хорошо слушала и слышала. Каждый вечер, приходя из магазина, я слушала тишину в твоей комнате. Ты не беспокоился подняться мне навстречу и сказать: “Привет”. Ты не спрашивал, трудный ли был у меня день. Как я могла слушать, если ты молчал?
– Что‑то меня останавливало, между нами была стена.
– Стена? Хороший ответ для матери! Стена. Я ее построила?
– Я только сказал, что между нами была стена. Я знаю, что отдалился от тебя, но не помню почему – это было пятьдесят лет назад, – но все, что ты говорила мне, было похоже на замечание.
– Vos? Замечание?
– Критику. Мне приходилось держаться от нее подальше. Мне и так нелегко было в те годы, чтобы выслушивать от тебя критику.
– Тебе было плохо? Все эти годы мы с отцом работали в магазине, чтобы ты мог учиться. До поздней ночи! Вспомни, когда ты мне звонил и просил принести что‑нибудь для тебя – карандаши или бумагу… Помнишь Эла? Того, которому порезали ножом лицо во время ограбления?
– Конечно, я помню Эла. У него еще был шрам вдоль всего носа.
– Так вот, Эл подходил к телефону и всегда кричал, даже через переполненный магазин: “Король! Звонит Король! Пусть Король сам купит себе карандаши и тетрадки!” Эл ревновал, ведь родители ничего не дали ему. Но он был прав: к тебе относились как к королю. В какое бы время дня или ночи ты не позвонил, я оставляла магазин, полный посетителей, на папу, а сама неслась к тебе. Тебе нужны были и марки, и блокноты, и чернила. А позже шариковые ручки. Твоя одежда, измазанная чернилами. Как король. Никакой критики.
– Ма, мы просто разговариваем, и это уже хорошо. Давай не будем обвинять друг друга, а постараемся понять. Мы можем просто сказать, что мне так казалось. Я знаю, ты говорила хорошие вещи про меня. Но ты никогда не говорила их мне самому.
– С тобой было не так‑то просто разговаривать, Оуэн, и не только мне – всем. Ты все знал. Ты все читал. Скорей всего люди просто боялись тебя. А возможно, и меня. Ver veys? Кто знает. Но позволь я тебе кое‑что скажу, Оуэн. Во‑первых, ты тоже никогда не говорил мне ничего хорошего. Я следила за домом, я готовила для тебя. Двадцать лет ты ел мою стряпню. И она тебе нравилась, я точно знаю. Спрашиваешь, откуда? Вспомни пустые кастрюли и тарелки после еды. Но ты никогда мне ничего не говорил. Ни разу в своей жизни!
Пристыженный, я опускаю голову.
– Во‑вторых, ты ничего не говорил обо мне хорошего и за моей спиной. Но, по крайней мере, ты все это имел, ты знал, что я хвасталась тобой перед другими. Ты стыдился меня, стыдился всегда – и находясь рядом, и за моей спиной. Стыдился моего английского, моего акцента. Стыдился того, что я не знала чего‑то или говорила неправильно. Я знала про твои насмешки и насмешки твоих друзей: Джулии, Шелли, Джерри. Я слышала все! Ну как?!
Я еще ниже наклоняю голову.
– Ты никогда ничего не упускала, мама.
– Как я могла узнать, что в твоих книгах? Если бы у меня был шанс, если бы я только могла пойти в школу, что бы смогла я сделать своей головой! Saychel! В России я не могла ходить в школу, разрешалось учиться только мальчикам.
– Я знаю, мама, знаю. Я знаю, что ты смогла бы то же, что и я, если бы у тебя был шанс.
– Когда мы с мамой и отцом приехали сюда, мне было только двадцать. Мне приходилось работать шесть дней в неделю на швейной фабрике по двенадцать часов в день. С семи утра до семи вечера, иногда до восьми. Порой нужно было приходить на работу на два часа раньше – к пяти. Мне приходилось помогать отцу в его газетном ларьке раскрывать газеты. Братья не были большими помощниками. Саймон ходил в бухгалтерскую школу, Хайми работал водителем такси – он никогда не приходил домой, никогда не приносил денег. Потом я вышла замуж за твоего отца и переехала в Вашингтон, где до старости работала с ним бок о бок в магазине по двенадцать часов в сутки, а затем убирала дом и готовила еду. Появилась Джин, которая никогда не огорчала меня. Потом появился ты. Ты был не таким простым. Но я не переставала работать. Ты видел меня, ты помнишь! Ты слышал, как я бегала вверх и вниз по лестнице. Ну что, я вру?
– Ты права, мама.
– И все эти годы, пока были живы Буба и Зейда, я поддерживала их. У них ничего не было – лишь несколько пенни, которые, оставил им отец. Через некоторое время мы открыли для Зейды кондитерский магазин, но он не мог работать, он должен был молиться. Ты помнишь Зейда?
Я киваю. Смутные воспоминания. Мне, наверное, было четыре или пять… квартирка в Бронксе, пахнущая мылом… еще мы кидали цыплятам во дворе хлебные крошки и шарики из фольги с высоты пятого этажа… мой дед, весь в черном, с седой бородой, его руки и лоб в черных лентах, шепот молящихся. Мы не понимали его слов (он говорил только на идише), но он сильно трепал меня по щеке. Все остальные – Буба, мама, тетя Лена – работающие, бегающие вверх и вниз по лестницам магазина целый день, упаковывая и распаковывая, готовя еду, убирая цыплячьи перья, рыбью чешую, вытирая пыль. Но Зейда и пальцем не шевелил. Просто сидел и читал, как король.
– Каждый месяц, – продолжала мама, – я садилась на поезд и везла им деньги в Нью‑Йорк. А потом, когда Бубу поместили в дом престарелых, я платила за нее и навещала ее два раза в месяц. Помнишь, я как‑то брала тебя с собой. Кто еще помогал? Да никто! Твой дядя Саймон мог наведаться к ней пару раз и привести баночку газировки, а потом все свое посещение я только и слушала, что о баночке, которую привез Саймон. Даже ослепнув, она не выпускала пустую банку из своих рук. Я помогала не только Бубе, всем: моим братьям, Саймону и Хайми, моей сестре, Лене, тете Ханне, твоему дяде Эби, которого я привезла из России, – всем, вся семья кормилась от продаж в бакалейной лавке. И никто не помогал мне – никто! Никто даже не благодарил меня!
Глубоко вздохнув, я произношу:
– Спасибо тебе, мама, спасибо. – Это не так трудно. Так почему же мне понадобилось пятьдесят лет, чтобы сказать эти слова? Я беру ее за руку (может быть, впервые), чуть выше локтя, и чувствую нежность и тепло, похожее на тепло теста кихелах перед выпечкой. – Я помню, как ты рассказывала мне и Джин о газировке, которую привозил дядя Саймон. Наверное, тебе было очень трудно!
– Трудно?! О чем ты говоришь! Иногда она выпивала его газировку с моим кихелах, а ты же помнишь, что за работа приготовить его, и все равно говорила только о его гостинце.
– Мы впервые разговариваем, мама. Мы всегда именно этого и хотели. Может быть, поэтому ты не уходишь из моих мыслей и снов. Может быть, теперь я изменюсь.
– Как изменишься?
– Я стану самим собой, начну жить теми целями и делами, мысль о которых я всегда лелеял.
– Ты хочешь избавиться от меня?
– Ну, не по‑плохому. Я просто хочу, чтобы ты отдохнула.
– Отдых? Ты когда‑нибудь видел, чтобы я отдыхала? Папа каждый день находил время подремать, а меня ты видел дремлющей?
– Мне кажется, тебе нужно найти свою цель в жизни – не это, – говорю я, указывая на ее сумку, – не мои книги. И у меня должна быть своя цель в жизни.
– Но я же тебе только что все объяснила, – говорит она, перекидывая сумку на другую руку, подальше от меня. – Это не только твои книги, это еще и мои книги!
Внезапно ее рука становится холодной, и я выпускаю ее.
– Что значит, я должна иметь свою цель в жизни? – продолжает она. – Эти книги и есть цель моей жизни. Я работала для тебя и для них, всю свою жизнь я работала на эти книги. – Она достает из сумки еще две мои книги. Я съеживаюсь при мысли, что она покажет их людям, стоящим вокруг нас.
– Но ты не понимаешь. Ты заслужила независимость от других. Это то, что значит быть личностью, и об этом я пишу в своих книгах. Такими мне хотелось бы видеть моих детей, всех детей – свободными.
– Vos meinen – свободными?
– Свободными или освобожденными. Я тебе не принадлежу, мама. Например, каждый человек в мире совершенно один. Конечно же, это трудно, но так должно быть, и с этим надо смириться. И поэтому я хочу иметь свои мысли и сны. И у тебя должны быть свои, мама. Покинь мои сны.
Ее лицо становится серьезным, она отступает на шаг. Я продолжаю говорить:
– Я люблю тебя, но хочу добра и тебе и мне. Ты должна понять.
– Оуэн, ты опять думаешь, что я ничего не понимаю, а ты понимаешь все. Я также изучаю и жизнь, а теперь и смерть; о смерти я знаю, поверь, намного больше, чем ты. Так же как и об одиночестве.
– Но, мама, ты же не остаешься одна, ты со мной. Ты не покидаешь меня, блуждая в моих мыслях и снах.
– Да нет же, сынок.
“Сынок”. Я не слышал этого обращения вот уже пятьдесят лет и забыл, что так звали меня мой отец и она.
– Есть вещи, которые ты не понимаешь, которые ты перевернул с ног на голову. У тебя есть сон, в котором ты видишь меня, стоящей в толпе. Я смотрю, как ты едешь в вагончике и машешь мне рукой, зовешь и спрашиваешь про свою жизнь.
– Я помню свой сон, мама. С него все началось.
– Твой сон? Как раз об этом я и хочу тебе сказать. Ты ошибаешься, Оуэн, это не твой сон. Это и мой сон, сынок. У матерей тоже есть право на сны.
Глава 2. Странствия с Паулой.
Изучая медицину, я постигал искусство наблюдения, выслушивания и прикосновения. Я рассматривал ярко‑красные глотки, вздутые барабанные перепонки, извивающиеся артерии сетчатки. Я слушал шумы в сердце, журчанье кишечника, какофонию хрипов в легких. Я дотрагивался до скользящих краев селезенки и печени, ощущал напряженность кисты яичников и мраморную твердь рака простаты.
Изучение пациентов было делом медицинского колледжа. В высшей школе пришло понимание того, как можно учиться у них. Скорее всего это началось с профессора Джона Уайтхорна, который говорил: “Слушайте своих пациентов, позвольте им учить вас. Чтобы стать мудрее, вы должны напоминать студента”. В его словах было больше, чем банальная истина о том, что врач, умеющий хорошо слушать, узнает очень много о своем пациенте. Это буквально означало то, что пациент учит нас.
Джон Уайтхорн был незаурядным председателем отделения психиатрии Джона Хопкинса в течение тридцати лет. Официальный, неуклюжий, но изысканный, с блестящим краем привередливо подстриженных полумесяцем седых волос, он носил позолоченные очки, и в нем не было ни одной лишней черты – ни единой морщинки на лице, ни единой складки на коричневом костюме, который он надевал каждый день в течение многих лет (мы подсчитали, что в его гардеробе было, по крайней мере, два или три подобных костюма). И никаких лишних эмоций – когда он читал лекции, двигались лишь его губы, все остальное – лицо, шея, руки – оставалось удивительно неподвижным.
В течение третьего года обучения я и еще пять моих сокурсников каждый четверг делали обходы вместе с доктором Уайтхорном. Традиционно перед этим мы завтракали в его кабинете, отделанном дубом. Пища была простой и неизменной; бутерброды с тунцом, холодное филе и холодный пирог с крабами, вслед за которыми шли фруктовый салат и ореховый торт. Все накрывалось с восточным изяществом; льняные скатерти, блестящие серебряные подносы, фарфор и слоновая кость. Беседа была долгой и неторопливой. Всех нас ждали требующие внимания пациенты, но мы не прерывали доктора Уайтхорна. В конце концов, даже я, самый неусидчивый из всех, научился с пользой проводить это время. В эти два часа у нас была редкая возможность задавать профессору любые вопросы. Я спрашивал его о причинах развития паранойи, ответственности врача за самоубийство, различии между терапевтическими изменениями и детерминизмом. Его ответы были исчерпывающие, но он явно предпочитал другие темы для разговоров: точность персидских лучников, сравнение качества греческого и испанского мрамора, фатальные ошибки в битве при Геттисберге, его усовершенствованная периодическая система (по первому образованию он был химиком).
После завтрака доктор Уайтхорн проводил терапевтические сессии, за которыми мы молча наблюдали. Трудно было предсказать, сколько продлится та или иная из них. Некоторые длились пятнадцать минут, другие продолжались по два‑три часа. Я отчетливо помню, как это происходило летом. Прохладный полумрак кабинета, оранжево‑зеленые шторы, защищающие от беспощадного балтиморского солнца, ветки магнолии с кудрявыми цветами, заглядывающие в окно. Из углового окна я видел только край теннисного корта. Господи, как меня тянуло сыграть! Я мечтал об этом, пока тени непреклонно ложились на корт. И только когда сумерки полностью скрывали последние очертания, я, оставив всякую надежду, полностью посвящал свое внимание доктору Уайтхорну.
Он делал все неспешно. Его ничего так не интересовало, как профессия и увлечения его пациента. Одну неделю он мог поощрять многочасовой рассказ южноамериканского плантатора о посадках кофе, на следующей неделе профессор мог обсуждать неудачи Испанской Армады. Можно было подумать, что его первоочередной задачей было выяснение связи между высотой и качеством кофе или политических мотивов Испанской Армады. Но он поразительно тонко менял течение беседы в сторону более личной сферы. Меня всегда удивляло то, как подозрительный, параноидального склада человек внезапно начинал откровенно говорить о себе и своем внутреннем мире.
Позволяя пациенту учить себя, доктор Уайтхорн устанавливал непосредственную связь не столько с болезнью пациента, сколько с его личностью. Его тактика неизменно повышала и отношение пациента к самому себе, и желание к самораскрытию.
Его нельзя было назвать хитрым. Доктор Уайтхорн никогда не притворялся в желании научиться. Он был в определенном смысле коллекционером и собирал свои бесценные экземпляры годами. “Если ты позволяешь пациентам учить себя – это обоюдный выигрыш. Своими историями они не только наставляют тебя, они рассказывают о своей болезни”.
В 1970 году, спустя пятнадцать лет (доктора Уайтхорна уже не было в живых), я стал профессором психиатрии. Тогда в моей жизни появилась женщина по имени Паула, чтобы продолжить мое образование. У нее был рак молочной железы, о котором она предпочитала не говорить. Ее болезнь я заметил не сразу, но был твердо уверен, что она назначила себя мне в наставники.
Паула пришла на прием, узнав от социального работника в онкологическом центре, что я собирался создать терапевтическую группу для людей с терминальными стадиями заболеваний. Когда она впервые зашла в мой кабинет, я был невольно очарован ее появлением: тем, как она достойно вела себя, ее сияющей улыбкой, ее безудержным ребячеством, сверкающими белыми волосами и чем‑то таким, что я назвал для себя яркостью, льющейся из ее мудрых глубоких голубых глаз.
Я заинтересовался ею, как только она произнесла первые слова: “Меня зовут Паула Уэст, у меня терминальная стадия рака, но я не раковый больной”. И, действительно, в течение многих лет странствий с ней я ни разу не относился к ней как к пациенту. Паула коротко рассказала историю своей болезни: пять лет назад ей поставили диагноз – рак молочной железы. Затем удаление груди, рак второй груди, удаление второй груди. Наступило время химиотерапии с ее ужасающими побочными явлениями: тошнотой, рвотой, выпадением волос. Вслед за этим облучение. Но ничто не могло сдержать развитие болезни. Ее рак просил есть. И, хотя хирурги пожертвовали уже всем, чем могли: грудью, лимфатическими узлами, надпочечниками, – он требовал еще и еще.
Представляя нагое тело Паулы, я видел плоть, испещренную шрамами, без грудей, без мяса, без мышц, ребра, выпирающие как доски потерпевшего кораблекрушение галеона, ниже – покрытый хирургическими рубцами живот, и все это покоилось на широких, нескладных, раздувшихся от обилия стероидов бедрах. Короче говоря, это была пятидесятипятилетняя женщина без груди, надпочечников, матки и, я уверен, либидо.
Мне всегда нравилось в женщинах изящное, упругое тело, пышная грудь и явная чувственность. Но удивительная вещь произошла со мною, когда я в первый раз увидел Паулу: она оказалась самой прекрасной, и я влюбился.
Мы встречались каждую неделю. Напротив ее имени я ставил слово “психотерапия”. Она садилась в кресло пациента на традиционные пятнадцать минут. Наши роли были неясными. Например, никогда не поднимался вопрос оплаты. С самого начала я знал, что это был не обычный договор между психотерапевтом и пациентом. Я с большой неохотой затрагивал некоторые темы в ее присутствии: деньги, брачные узы, общественные отношения, плотские удовольствия. Мне они казались вульгарными и безвкусными.
Мы обсуждали другое: жизнь и смерть, мир, превосходство человека над другими людьми, духовность – это было то, что волновало Паулу. Мы встречались вчетвером каждую неделю. Именно вчетвером: она, я, ее смерть и моя. Она стала куртизанкой смерти: она рассказывала мне о ней, научила думать о смерти и не бояться ее. Она помогла мне понять, что наше представление о смерти неверное. Хотя это и небольшое удовольствие – находиться на краю жизни, – все же смерть не безобразное чудовище, уносящее нас в ужасное место. Паула научила меня воспринимать смерть как она есть, как определенное событие, часть жизни, завершение возможностей. “Это нейтральное событие, – говорила она, – которое мы привыкли окрашивать в цвета страха”.
Каждую неделю Паула входила в мой кабинет с широкой улыбкой, доставала из плетеной сумки свой дневник, укладывала его на колени и начинала разговор о переживаниях и размышлениях прошедшей недели. Я слушал очень внимательно и старался найти подходящий ответ. Если я выражал сомнение по поводу пользы моей работы, она озадаченно смотрела на меня, затем одобрительно улыбалась и снова возвращалась к своему дневнику.
Вместе мы заново переживали ее столкновение с болезнью: первое потрясение и недоверие, постепенное искажение ее тела, принятие этого факта и привыкание к фразе “У меня рак”. Она говорила о заботе друзей и мужа. И действительно, трудно было не любить Паулу. (Конечно, я не кричал о своей любви, она узнала о ней намного позже, когда уже не верила мне.)
Потом она рассказывала о тех ужасных днях, когда болезнь обострялась. Они были ее Голгофой, тем испытанием, через которое проходили все пациенты с обострением: комнаты облучения, чувствующие неловкость друзья, стоящие в стороне доктора и оглушительная тишина постоянной секретности. Она со слезами на глазах рассказывала, как на приеме хирург сообщил ей, что сделать больше ничего нельзя и ему нечего ей предложить. “Что происходит с врачами? Почему они не понимают важности своего присутствия? Они представить себе не могут, как они нужны именно в тот момент, когда им больше нечего предложить”.
Паула рассказывала о том, что ужас от осознания близкой смерти усиливается с удалением от привычной жизни. Одиночество и изоляция умирающего пациента усиливаются попытками скрыть приближение смерти. Но ее невозможно скрыть, она вездесуща: нянечки, говорящие полушепотом; практиканты, на цыпочках проходящие в твою комнату; бесстрашно улыбающаяся семья, попытки посетителей поднять тебе настроение. Одна моя пациентка, больная раком, знала, что смерть уже близко. И однажды ее врач, который обычно заканчивал осмотр шутками и веселым подбадриванием, в конце просто пожал ей руку.
Больше, чем смерти, люди боятся одиночества, неизменного спутника болезни. Мы стараемся пройти по жизни рука об руку с кем‑либо, но умирать нам приходится поодиночке. Паула рассказала мне, что изоляция умирающего может быть двух видов. Пациент сам старается отделиться от живых, не желая втягивать семью и друзей в свои страхи и жуткие мысли, или друзья, чувствуя свою бесполезность, неуклюжесть и неуверенность в том, что говорить и как себя вести, стараются избегать общения, желая находиться подальше от “предварительного просмотра собственной смерти”.
Одиночество Паулы не заканчивалось. Хотя многие от нее отказались, я был постоянно рядом. Как хорошо, что она нашла меня! Мог ли я тогда знать, что наступит время, и Паула представит меня своим Питером, отказавшимся от нее не один раз?
Она с трудом могла подобрать слова, чтобы рассказать о своем одиночестве. Однажды она принесла мне литографию, созданную ее дочерью, на которой несколько стилизованных фигур забрасывают камнями святую, маленькую женщину, чьи хрупкие руки не могут защитить ее от каменного дождя. Эта картина до сих пор висит в моем кабинете, и, глядя на нее, я вспоминаю слова Паулы: “Эта женщина – я, бессильная перед нападением”.
Священник помог ей выбраться из мрачных мыслей. Знакомый с мудрым афоризмом Ницше, что тот, кто знает “почему”, может справиться с любым “как”, он изменил ход ее мыслей. “Твой рак – это твой крест, – говорил он, – твое страдание – это твое превосходство”.
Эта формулировка – как ее назвала Паула, “божественное сияние” – изменила все. Когда она объяснила принятие своего превосходства и посвящение себя облегчению страданий онкологических больных, я понял, что не она была моим проектом, а я был ее. Я мог помочь Пауле, но только не выражая поддержку, заботу или преданность. Я должен был позволить учить себя.
Возможно ли, чтобы тот, чьи дни сочтены, чье тело пропитано раком, проживал “золотое время”? Паула смогла это сделать. Она учила меня, что смерть честно позволяет прожить остаток жизни богаче. Я скептически к этому относился, подозревая, что ее рассуждения о “золотом времени” были лишь духовной гиперболой.
– Золотое? На самом деле? Да ладно, Паула, что может быть золотого в смерти?
– Ирв, – упрекала она меня, – ты не прав. Пойми, что не смерть золотая, а ощущение полноты жизни перед лицом смерти. Подумай, как остро ты ощущаешь бесценность последних дней: последняя весна, последний полет пуха одуванчика, в последний раз опадают цветы глицинии. Золотое время – это также время великого освобождения, когда ты свободно говоришь нет всем тривиальным обязательствам и посвящаешь себя полностью тому, о чем мечтал всю жизнь – общению с друзьями, наблюдению за сменой времен года, за волнением моря.
Она критиковала Элизабет Кубле‑Росс, жрицу смерти, которая, не признавая золотые стадии, развивала концепцию негативизма клинического подхода. Паула никогда не испытывала гнева по поводу стадий смерти, описанных Кубле‑Росс: злость, отрицание, попытка “торговаться”, депрессия, принятие. Она настаивала на том, и в этом я с ней полностью согласен, что подобная строгая категоризация эмоций может привести к дегуманизации отношений пациента и врача.
Золотое время Паулы стало временем непрерывного личностного исследования: она видела во сне, как блуждает по бесчисленным залам и обнаруживает в своем доме новые, незнакомые комнаты. Также это было время приготовления: ей виделось, как она убирает дом от основания до чердака, преобразуя кабинеты и туалеты. Она с большой любовью подготавливала своего мужа. Наступал момент, когда силы позволяли ей пройтись по магазинам или приготовить еду, но она преднамеренно сдерживала себя, давая ему возможность стать самостоятельным. Она гордилась его успехами и рассказывала, что он начал говорить о ее, а не об их уходе. Я слушал с широко раскрытыми глазами и не верил своим ушам. Мог ли человек из мира героев Диккенса существовать в наше время? Психологические тесты редко уделяют внимание такому качеству личности, как совершенство. Сначала я пытался найти скрытые мотивы, как можно незаметнее выискивая недостатки и пробелы во внешней стороне ее святости. Ничего не обнаружив, я понял, что не было никакой внешней стороны, и, прекратив исследование, позволил себе наслаждаться совершенством Паулы.
Она верила, что приготовление к смерти – процесс явный и определенно требует внимания. Узнав, что рак распространился на спинной мозг, Паула написала своему тринадцатилетнему сыну прощальное письмо, которое даже меня заставило расплакаться. В конце письма она напомнила ему, что легкие зародыша не могут дышать, а его глаза не могли видеть. Эмбрион не может себе представить своего будущего существования. “Так можем ли мы, – продолжала она, – приготовить себя к существованию, находящемуся вне нашего воображения, за пределами наших представлений?”
Меня всегда сбивала с толку религиозная вера. Мне всегда казалось очевидным, что религия направлена на создание удобств и сглаживание неприятностей человеческого существования. Однажды, когда мне было двенадцать или тринадцать лет, я помогал отцу в магазине и разговорился с солдатом, только что вернувшимся с фронта, о существовании бога. Я рассуждал с присущим мне скептицизмом, и вдруг он протянул мне мятую, потертую картинку с изображением Девы Марии и Иисуса, которую он пронес через всю войну.
– Переверни ее и прочитай. Прочитай вслух, – попросил солдат.
– В окопах нет атеистов, – прочитал я.
– Верно! В окопах нет атеистов, – повторил он медленно, чеканя каждое слово. – Христианский бог, еврейский бог, китайский бог, любой другой бог – но все же бог!
Я был очарован этой невзрачной картинкой, подаренной мне незнакомцем. Возможно, это было предзнаменование, возможно, божественное провидение снизошло на меня. Два года я носил ее в своем бумажнике, постоянно вытаскивая и обдумывая написанные слова. Потом, в один прекрасный день, я спросил себя: “Ну? Если эти слова – правда и нет атеистов в окопах? Есть ли вещи, поддерживающие скептицизм? Конечно, вера увеличивается вместе со страхом. В этом все дело: страх порождает веру, нам необходим бог. Вера, пылкая, чистая или потребительская, не дает ответа на вопрос о существовании бога”. На следующий день в книжном магазине я достал из бумажника теперь уже бесполезную картинку и аккуратно вложил ее между страницами книги под названием “Мир ума”, где, возможно, кто‑то с душой воина и нашел ее, использовав затем с большей пользой.
Несмотря на то что идея смерти внушала мне страх, я предпочитал бояться, а не верить абсурдным идеям. Я ненавидел непоколебимое утверждение: “Верую, ибо абсурдно”. Безусловно, религиозная вера довольно мощный источник удобств. Мой агностицизм не мог дрогнуть. Сколько раз в школе во время утренней молитвы у меня вызывал тошноту вид учителей и одноклассников с низко склоненными головами, шепчущих слова молитвы. Вызывало ли это зрелище у кого‑то кроме меня подобные эмоции? В это время в газетах появились фотографии всеми любимого Франклина Рузвельта, посещающего церковь: и правда, стоило воспринимать веру Ф. Р. очень серьезно.
А что же точка зрения Паулы? Как же ее письмо сыну, как же неизвестная цель, ждущая нас впереди? Фрейда очень удивила бы метафора Паулы – на религиозной почве я всегда с ним мысленно соглашался – “Нам хочется существовать, мы боимся небытия, и поэтому выдумываем прекрасные сказки, в которых сбываются все наши мечты. Неизвестная цель, ждущая нас впереди, полет души, рай, бессмертие, бог, перевоплощение – все это иллюзии, призванные подсластить горечь смерти”.
Паула всегда с пониманием относилась к моему скептицизму и мягко напоминала мне, что, хотя ее вера кажется неправдоподобной, ее нельзя опровергнуть. Несмотря на мои сомнения, мне нравилось слушать метафоры Паулы, и я делал это с большей терпимостью, чем когда‑либо. Это было похоже на бартер: я продавал маленький кусочек своего скептицизма за возможность быть рядом с Паулой. Произнося время от времени короткие фразы: “Кто знает?”, “И где же все‑таки ложь?”, “Узнаем ли мы когда‑нибудь?” – я завидовал ее сыну. Осознавал ли он свое счастье – иметь такую маму? Как бы я хотел оказаться на его месте.
Приблизительно тогда же я часто наведывался в похоронное агентство матери своего друга. Здесь священник предлагал всем историю утешения. Он рассказывал о том, как на берегу стоят люди и печально смотрят вслед уплывающему кораблю. Они смотрят до тех пор, пока верхушка мачты не пропадает за горизонтом, и тогда кто‑то произносит: “Уплыл”. А в этот момент где‑то далеко другая группа людей всматривается в горизонт, ожидая корабля. И, когда становятся различимы его очертания, произносит: “Он приплыл”.
“Дурацкая сказка”, – фыркнул бы я в то время, когда еще не знал Паулы. Но сейчас я испытывал к этому больше уважения. Глядя на пришедших на похороны, я на мгновение ощутил, что я вместе с ними, связанный иллюзией о корабле, плывущем навстречу новой жизни.
До встречи с Паулой никто не мог обогнать меня в насмешках над перспективами Калифорнии. Впереди наступала новая эра: гадания, астрология, нумерология, иглоукалывание, глубокий массаж, дыхательная гимнастика. Мне казалось, что людям необходимы трогательные убеждения, они способны развеять глубокую тоску, а ведь некоторые люди слишком слабы, чтобы жить в одиночестве. Так пусть же у детишек будет своя сказка! Но теперь я выражал свое мнение мягче: “Возможно”, “Жизнь запутанна и непостижима”.
Я знал Паулу уже долгое время, когда нам пришла мысль создать группу умирающих пациентов. Безусловно, в наши дни подобные группы широко обсуждаются в газетах и на телевидении, но в 1973 году подобных прецедентов не было: смерть подвергалась жесткой цензуре наравне с порнографией. Следовательно, нам приходилось постоянно импровизировать. Труднее всего было в начале: необходимо было набрать группу. Но как это сделать? Как найти желающих? Как это должно было выглядеть: “Разыскиваются умирающие люди”?
Связь Паулы с церковью, больницами и домами престарелых давала свои плоды в подборе потенциальных членов группы. Первым появился Джим, девятнадцатилетний паренек из Стэнфорда с серьезным заболеванием почек. Он знал, что его жизнь подходит к концу, и все же не стремился к предварительному знакомству со смертью. Джим избегал смотреть в глаза мне и Пауле, а соответственно и кому‑либо другому. “Я человек без будущего, – говорил он. – Кто захочет, чтобы я стал чьим‑нибудь мужем или другом? Меня достаточно отвергали. Я неплохо справляюсь один”. Мы видели его лишь дважды, больше он не пришел.
Наверное, Джим был слишком здоров. Гемодиализ дает много надежды и долгую дорогу к смерти, так что отрицание прочно пускает корни. Нам же нужны были обреченные люди, близко стоящие к смерти и без всякой надежды.
Потом появились Роб и Сэл. Оба они воспринимали происходящее неадекватно: Роб все время отрицал, что умирает, Сэл пришел к определенным выводам относительно своей болезни и решил, что не нуждается в нашей помощи. У двадцатисемилетнего Роба была злокачественная опухоль мозга. В метаниях от несогласия и обратно он вдруг начинал уверять всех: “Вот увидите, через шесть недель я уже буду отдыхать в Альпах” (без сомнения, он не бывал нигде дальше восточного района Невады). Но через мгновение он уже проклинал свои парализованные ноги за то, что это мешает получению страховки: “Я пытаюсь понять, будет ли выгода жене и детям от моего самоубийства”.
Наша группа была небольшой, всего четыре человека: Паула, Сэл, Роб и я, но мы решили начать работу. Сэлу и Пауле помощь была не нужна, я был психотерапевтом, поэтому мы выбрали Роба объектом помощи группы. Но он упрямо отказывался принять нашу помощь. Мы старались уважать его выбор отрицания. Но поддержка несогласия – это бесплодное занятие, особенно если учесть то, что мы старались помочь Робу принять смерть и взять все от оставшейся жизни. Однако никто из нас не знал, произойдет ли следующая встреча. Через два месяца головные боли Роба усилились, и однажды ночью он тихо умер во сне. Сомневаюсь, что мы были ему полезны.
Сэл воспринимал конец жизни другим образом. Надвигающаяся смерть наполнила его жизнь тем смыслом, о котором он прежде и не подозревал. У Сэла была миеломная болезнь, очень болезненная форма рака, затронувшая кости. У него было повреждено множество костей, и его упаковали в корсет от шеи до бедер. В свои тридцать лет Сэл сумел заслужить любовь многих людей. В момент наивысшего отчаяния его, так же как и Паулу, преобразила ошеломляющая идея, что его рак – это его превосходство. Это откровение управляло всем, что Сэл делал в своей жизни впоследствии, даже его вступлением в группу. Ему казалось, что это даст возможность помочь другим людям найти некоторый удивительный смысл их заболеваний.
Вообще‑то, Сэл пришел в нашу группу слишком рано: только через шесть месяцев она увеличилась до размеров аудитории, которую он заслуживал. До этого времени ему приходилось искать другие места выступлений, например, старшие классы школ, где он обращался к подросткам. “Вы хотите испортить свое тело наркотиками? Хотите убить его пьянками, травкой, кокаином? – Его голос гремел на весь зал. – Хотите расплющить себя в автокатастрофе? Сбросить свое тело с моста Голден Гэйт? Вам оно не нужно? Ну тогда отдайте его мне! Я с радостью возьму ваше тело, оно мне нужно – я хочу жить!”
Это было бесподобное обращение. Меня охватила дрожь, когда я услышал его речь, которая приобрела еще большую силу из‑за смертельной тоски. Ученики слушали в молчании, осознавая, как и я, что он говорил правду, что у него не было времени на игру, притворство или страх перед последствиями.
Через месяц в нашей группе появилась Эвелин, и это стало для Сэла еще одной возможностью проявить себя. Шестидесятидвухлетняя, озлобленная и смертельно больная лейкемией, Эвелин пришла к нам, находясь на стадии переливания крови. Она искренне говорила о своем заболевании, она знала, что умирает. “Я могу принять это, – говорила она, – меня это не волнует. Но что меня волнует – так это моя дочь, она отравляет мне последние дни!” Эвелин называла свою дочь, психиатра, не иначе как “мстительной и ненавидящей ее женщиной”. Некоторое время назад у нее произошла с дочерью неприятная и глупая стычка: та накормила кота Эвелин не тем кормом. С того времени мать и дочь больше не разговаривали.
Услышав ее на занятиях, Сэл начал говорить просто, но страстно: “Послушай меня, Эвелин. Я тоже умираю. Какая разница, что ест твой кот? Какая разница, кто не выдержит первый? Ты же знаешь, что у тебя не так много времени в запасе, хватит притворяться. Ты же знаешь, что сейчас самая важная для тебя вещь – это любовь твоей дочери! Пожалуйста, не умирай, пока не скажешь ей об этом! Если ты не сделаешь этого, ты отравишь ей жизнь, она не сможет избавиться от горечи и вины и отравит жизнь своей дочери. Разорви круг! Эвелин, разорви круг!”
Это сработало. Эвелин умерла через несколько дней, но ее сиделка сообщила нам, что у нее, задетой словами Сэла, было трогательное примирение с дочерью. Я очень гордился Сэлом. Это была первая победа нашей группы!
Появились еще два пациента, и через несколько месяцев мы с Паулой. были убеждены, что нашего опыта достаточно, чтобы работать с многочисленной группой, и начали набирать людей для серьезной работы. Паула связалась с американским Раковым центром, в котором нашлись пациенты, каких мы искали. После их опроса мы приняли в группу семь человек, всех с раком молочной железы, и официально открыли группу.
На нашем первом собрании Паула поразила меня, когда начала сеанс со сказки: “Раввин разговаривал с богом о рае и аде. “Я покажу тебе, что такое ад”, – сказал бог и повел раввина в комнату, где посередине стоял большой круглый стол. Люди, сидящие вокруг стола, умирали с голоду и были в отчаянии. На столе стоял горшок с мясом, да таким вкусным, что у раввина потекли слюнки. У каждого сидящего за столом была ложка с очень длинной ручкой. И хотя ложки прекрасно доставали до горшка, их ручки были настолько длинные, что едоки не могли поднести ложку ко рту и поэтому оставались голодными. Раввин увидел, что их страдания были по‑настоящему ужасными.
“А теперь ты увидишь рай”, – сказал бог, и они пошли в другую комнату, в точности такую же как и первая. В ней был большой круглый стол посередине и горшок с мясом. Люди, сидящие вокруг, тоже держали в руках ложки с длинными ручками, но все они были сытые и упитанные, они смеялись и разговаривали. Раввин не мог ничего понять. “Это просто, но требует определенного навыка, – сказал бог. – В этой комнате, как ты можешь заметить, люди научились кормить друг друга”.
Хотя независимое решение Паулы начать сеанс с чтения притчи и выбило меня из колеи, я позволил ей продолжать. Я знал, что она еще не определила наши роли и наши отношения в группе. Кроме того, ее решение было безупречным – я еще никогда не видел такого вдохновляющего начала.
Следующий вопрос был: “Как назвать группу”? Паула предложила: “Мост”. Почему? Было две причины. Во‑первых, в группе складывались связи одного пациента с другим. И, во‑вторых, здесь мы были открыты друг для друга. Следовательно, “Мост” (в традициях Паулы).
Наше “скопление”, как называла его Паула, быстро росло. Каждые две недели появлялись новые лица, объятые ужасом. Паула встречала их, приглашала на обед, обучала, очаровывала, одухотворяла их. Вскоре нас стало так много, что пришлось разделиться на две группы по восемь человек, и я пригласил нескольких психиатров в качестве соведущих. Однако все члены группы противились расколу, так как считали, что это повредит целостности семьи. Я предложил выход: мы могли встречаться двумя разными группами на час пятнадцать, а затем объединялись на заключительные пятнадцать минут и обменивались друг с другом тем, что происходило на сеансах.
Я надеюсь, наши встречи были полезны и на них поднимались наиболее болезненные вопросы, которые редкая группа отваживалась бы обсуждать. От занятия к занятию члены группы приходили с новыми и новыми метастазами, с новыми трагедиями. И каждый раз мы старались создать удобство для каждого пораженного человека. Случалось и такое, что если кто‑то был слишком болен, слишком близок к смерти и не мог прийти на встречу, то группа перемещалась к нему в спальню.
Не было ни одной темы, которая оказалась бы трудной для обсуждения в нашей группе. В каждом обсуждении Паула принимала самое непосредственное участие. Например, один раз нашу встречу начала Эва. Она говорила о том, как завидует своему другу, который на той неделе внезапно умер во сне от инфаркта. “Это лучший способ уйти”, – заключила она. Паула сказала на это, что моментальная смерть – это трагическая смерть.
Меня смутило поведение Паулы. Я был удивлен, что она ставила себя в такое нелепое положение. Стоило ли спорить с Эвой, что смерть во сне – лучший способ уйти? Но Паула тем не менее со свойственной ей убедительностью начала высказывать свою точку зрения, что неожиданная смерть – это наихудший способ ухода из жизни. “Необходимо время, нельзя спешить, – говорила она. – Нужно подготовить окружающих к своей смерти – мужа, друзей, но прежде всего – детей. А как же незавершенные дела? Конечно, если они настолько важны, что нельзя отказаться от них в один момент. Они заслуживают того, чтобы их завершили. В противном случае, каков же тогда смысл твоей жизни?” “К тому же, – продолжала она, – смерть – это часть жизни. Пропустить ее, проспать ее – значит упустить великое событие своей жизни”.
Но последнее слово все же осталось за Эвой: “Думай как хочешь, Паула, но я очень завидую мгновенной смерти своего друга. Мне всегда нравились сюрпризы”.
Скоро группа стала хорошо известна в Стэнфорде. Ординаторы, медицинские сестры, группы студентов начали наблюдать наши занятия через одностороннее зеркало. Иногда боль в группе была настолько глубокой, что ее невозможно было выдержать, и студенты выбегали в слезах. Но они всегда возвращались. Хотя психотерапевтические группы всегда разрешают наблюдать свои встречи, делают они это неохотно. Но это не касалось нас: мы, напротив, всегда приветствовали наблюдения. Как и Паула, члены группы считали, что могут многому научить студентов, что слова умирающих сделают их мудрее. Мы очень хорошо усвоили один урок: жизнь нельзя отложить, ее нужно проживать сейчас, не дожидаться выходных, отпуска, времени, когда дети закончат колледж или когда выйдешь на пенсию. Сколько раз я слышал горестные восклицания: “Как жаль, что мне пришлось дождаться, когда рак завладеет моим телом, чтобы научиться жить”.
В то время я был поглощен целью добиться успеха в научном мире, и мой безумный распорядок дня – исследования, лекции, тренинги и написание различных работ – не позволял мне часто видеться с Паулой. Может быть, я избегал ее? Вероятно, ее космическая перспектива, ее отдаленность от ежедневных забот угрожали фундаменту моего дальнейшего продвижения на академическом рынке. Я видел ее каждую неделю на собраниях группы, где я был руководителем с именем, а Паула – кем была она? Она была не помощником, а кем‑то еще, координатором, сотрудником, связующим звеном. Она находила новых людей, помогала им сориентироваться и быть принятыми в группе, делилась своим личным опытом, обзванивала всех в течение недели, приглашала их на обеды и к каждому приходила на выручку в трудную минуту.
Наверное, лучше всего роль Паулы могли бы описать слова “духовный наставник”. Она работала с группой и одухотворяла ее. Когда бы она ни начинала говорить, я внимательно вслушивался в каждое ее слово: у нее была удивительная проницательность. Она учила размышлять, глубоко заглядывать в себя, находить центр спокойствия, переживать боль. Однажды, когда наше занятие подходило к концу, она взяла в руки свечу, зажгла и поставила на пол. Я был удивлен. “Сядьте ближе друг к другу – сказала она, протягивая руки тем, кто сидел рядом с ней. – Посмотрите на свечу и размышляйте в тишине”.
До встречи с Паулой я был приверженцем медицинских традиций, и я бы не одобрил психотерапевта, заканчивающего встречу тем, что пациенты сидят, дружно держась за руки и разглядывая свечу. Но предложение Паулы показалось всем, и мне в том числе, своевременным, и с тех пор каждое наше занятие заканчивалось подобным образом. Я осознал ценность этих моментов, и если мне случалось сидеть рядом с Паулой, то я неизменно тепло пожимал ей руку перед тем как выпустить из своей. Она обычно вела медитацию громко, импровизируя и с большим достоинством. До конца жизни я буду помнить ее голос, ее слова: “Давайте оставим гнев, давайте оставим боль, давайте оставим жалость к себе. Найдите в себе спокойствие, мирные глубины и откройте себя для любви, для прощения, для бога”. Слишком сильно для тревожного, вольнодумного медика‑эмпирика!
Порой у меня возникал вопрос: есть ли еще желания у Паулы, кроме желания помочь другим? И, хотя я все время пытался узнать, что может группа сделать для нее, никогда не получал ответа. Меня удивлял темп ее жизни: каждый день она навещала нескольких серьезно больных пациентов. Что двигало ею? И почему она говорит о своих проблемах в прошедшем времени? Она предлагала нам только решения проблем и никогда не ставила нас перед своими нерешенными вопросами. В конце концов, у нее была терминальная стадия рака, и она уже пережила все наиболее оптимистичные прогнозы. Она оставалась энергичной, любящей и любимой, вдохновляющей всех, кому пришлось жить с раком. Что можно было еще желать?
Это было золотое время наших с Паулой странствий. Однажды, оглянувшись вокруг, я вдруг осознал, как разросся наш коллектив – руководители групп, секретариат для записи вновь прибывших и составления графика проведения встреч, преподаватели для работы с наблюдающими за нашими занятиями студентами. Для такого размаха требовались средства. Я начал поиск финансирования для поддержания работы группы. С тех пор как я перестал думать о себе как о человеке, находящемся в непосредственной близости к смерти, я не требовал от пациентов медицинской страховки, я даже не спрашивал их об этом. Я посвящал значительное количество сил и времени группе, и в то же время я обязан был отрабатывать те деньги, которые платил мне Стэнфордский университет. С другой стороны, мне казалось, что мое практическое обучение по ведению групп раковых больных подходило к концу: наступило время что‑то делать с нашим экспериментом, разрабатывать его, оценивать эффективность, публиковать результаты, распространять наш опыт по всему миру, поддерживать подобные программы по всей стране. Короче говоря, пришло время продвижения.
Вскоре подвернулась подходящая возможность: Международный институт рака прислал запрос на социально‑поведенческое исследование пациентов с раком молочной железы. Я успешно применил предоставленную мне возможность для оценки эффективности работы группы с пациентами на терминальной стадии рака. Это был очень простой проект. Я был уверен, что проводимая работа оправдывалась качеством жизни смертельно больных пациентов, то есть мне нужно было разработать только компонент оценки – предварительные опросники для вновь пришедших пациентов и для последующего анкетирования через определенные промежутки времени.
Обратите внимание, что с этого момента в моей речи все чаще появляются личные местоимения: “я решил”, “я применил”, “моя терапия”. Постоянно возвращаясь и просеивая прах наших отношений с Паулой, я осознаю, что эти личные местоимения стали началом искажения той связи и любви, которые существовали между нами. Но в то время я не мог заметить даже намека на разлад. Помню, что Паула наполняла меня светом, а я был ее скалой, ее приютом, который она искала до тех пор, пока мы не встретились.
Сейчас я уверен в одном: сразу после того, как мое исследование начали финансировать, что‑то в наших отношениях пошло не так. Сначала между нами появились небольшие трещинки, а затем и настоящие щели. Возможно, первым достаточно ясным сигналом стало заявление Паулы, что она устала от проекта, что она чувствует себя опустошенной. Мне это было любопытно, ведь я всячески пытался сделать ее работу такой, как она хотела: анкетирование кандидатов в группу, всех женщин с раком груди, и помощь в составлении оценочных анкет. Кроме того, я следил, чтобы ее работа всегда хорошо оплачивалась – намного больше, чем в среднем получает помощник, и больше, чем она хотела получать.
Несколькими неделями позже в беседе со мной она сказала, что чувствует себя утомленной и ей нужно больше времени для себя. Я сочувствовал ей и пытался преддожить что‑нибудь для того, чтобы снизить сумасшедший ритм ее жизни.
Вскоре после нашего разговора я представил в Международный институт рака письменный отчет о первой ступени исследования. И, хотя я удостоверился, что имя Паулы стояло первым среди имен исследователей, очень скоро до меня дошел слух о том, что она была недовольна степенью своего влияния. Я сделал ошибку, не придав этому слуху должного внимания: так это было не похоже на Паулу.
Через некоторое время в качестве своего коллеги я представил одной из групп доктора Кингсли, молодую женщину‑психотерапевта, которая хотя и не имела опыта работы с раковыми пациентами, но была чрезвычайно начитанна и полностью посвящала себя работе. Вскоре меня нашла Паула. “Эта женщина, – ворчала она, – самая нечуткая, не преданная своему делу из тех, кого я когда‑либо встречала. Ей и тысячи лет будет мало, чтобы научиться помогать пациентам!”
Я был поражен и ее открытым неприятием нового помощника, и ее едким, осуждающим тоном. “Паула, почему так резко? Почему без сострадания, не по‑христиански?”
Исследование предполагало, что во время первых шести месяцев финансирования я должен был посещать двухдневные симпозиумы для консультации со специалистами по раковым заболеваниям, построению исследования и статистическому анализу. Я пригласил Паулу и еще четверых членов группы принять участие в качестве консультантов. Симпозиум был чистой воды показухой, вопиющей потерей денег и времени. Но такова жизнь в области исследований, оплачиваемых по федеральному договору, и люди быстро приспосабливаются к этим шарадам. Паула тем не менее так и не привыкла. Подсчитывая количество потраченных за два дня денег (около 5 тысяч долларов), она называла подобные встречи аморальными:
– Только подумай, сколько можно было бы сделать на эти пять тысяч долларов для раковых больных!
– Паула, я тебя очень люблю, но как же ты можешь быть такой бестолковой! Разве ты не понимаешь, – уговаривал я ее, – что необходимо пойти на компромисс? Нет способа использовать эти пять тысяч для прямой помощи пациентам. Важнее, что мы можем потерять финансирование, если не будем соблюдать пунктов договора. Если мы будем упорно продолжать наше исследование, закончим его и покажем ценность нашего подхода к умирающим раковым больным, к нам придет большее количество пациентов, намного больше тех, кому мы сможем помочь на пять тысяч долларов. Давай не будем экономными в мелочах и расточительными в крупном, Паула! Компромисс, – уговаривал я ее, – в последний раз.
Я ощущал ее разочарование. Покачав головой, она ответила:
– Однажды пойти на компромисс, Ирв? Не бывает единичного компромисса.
Во время симпозиума консультанты показывали те умения, ради которых их набирали (и за что им хорошо платили). Одни обсуждали психологическое тестирование на оценку уровня депрессии, тревожности, точки локус‑контроля; другие беседовали о системе здравоохранения; третьи – о ресурсах общества.
Паула полностью отдалась работе на симпозиуме. Мне кажется, она поняла, что времени осталось мало и нет возможности играть в ожидание. На торжественном собрании консультантов она играла роль овода. Например, когда обсуждались такие показатели дезадаптации пациентов, как невозможность подняться с постели или самостоятельно одеться, замкнутость или плач, Паула начинала спорить, что, по ее мнению, любое из этих состояний было в свое время ступенью инкубационного периода, которое в конечном итоге обязательно проявлялось на другой стадии развития, иногда в период взросления. Она отвергала все попытки специалистов убедить ее, что когда кто‑то использует достаточно большую выборку, совокупный счет и контрольную группу, то подобное рассмотрение может легко быть принято статистически в анализе данных.
Затем наступило время, когда участников симпозиума попросили предложить важные факторы, которые могли бы предсказать психологическую адаптацию человека к раковому заболеванию. Доктор Ли, специалист в области раковых болезней, записывал эти факторы по мере того, как участники называли их: стабильность в браке, ресурсы окружающей среды, индивидуальность, семейная история. Руку подняла Паула: “А как же мужество? Духовная сила?”
Медленно, не говоря ни слова, доктор Ли посмотрел на нее. Все это время он молча подбрасывал в воздух и снова ловил кусочек мела. Наконец он повернулся и написал предложение Паулы на доске. И, хотя я считал ее слова небезосновательными, для меня и для всех окружающих было ясно, что, пока доктор Ли крутил в руках мел, он думал: “Кто‑нибудь, кто угодно, пожалуйста, избавьте меня от этой пожилой дамы!” Позже, за обедом, он общался с Паулой высокомерно, как евангелист. Да, безусловно, доктор Ли был выдающимся онкологом, чьи поддержка и указания были необходимы для проекта, и я рисковал настроить его против нас, но я верно защищал ее, подчеркивая важность сказанного в формировании и функционировании группы. И хотя мне не удалось изменить его впечатление от Паулы, я гордился собой, отстаивая ее.
В тот же вечер Паула позвонила мне. Она была в ярости:
– Все эти доктора медицины, работающие на симпозиуме, – автоматы, бесчеловечные автоматы! Кто для них мы – пациенты, страдающие от рака двадцать четыре часа в сутки? Я же говорила тебе, мы для них не больше, чем “неадекватно действующие стратегии”.
Мы долго говорили с ней, и я старался сделать все, чтобы успокоить ее. Я нежно пытался убедить ее, что она не похожа на других, и просил быть терпеливой. И, подчеркивая свою преданность принципам, с которых начиналась наша группа, я подвел итог нашего разговора:
– Помни, Паула, это не играет никакой роли, потому что у меня уже есть свой план исследования, который я не позволю контролировать никаким машинам. Поверь мне!
Но ее невозможно было ни успокоить, ни, если бы даже это оказалось правдой, заставить поверить мне. Этот симпозиум прочно засел в ее голове. Неделями она размышляла о нем и в конце концов прямо обвинила меня в бюрократизме. Паула послала доклад в Международный институт рака, но он не уменьшил ни ее энергии, ни ее озлобления.
И наконец, Паула пришла в мой кабинет и заявила, что покидает группу.
– Почему?
– Я устала от этого.
– Я знаю, это что‑то большее. Какова настоящая причина?
– Я же сказала, я устала.
И, сколько я ни расспрашивал ее, она продолжала настаивать, хотя мы оба знали, что настоящая причина была в том, что я разочаровал ее. Я безуспешно использовал всю свою хитрость, наработанную годами. Все мои попытки, включая подтрунивания и напоминания о нашей долгой дружбе, были встречены с ледяным спокойствием. Больше мы не встречались и вынуждены были помнить наш горестный, бестолковый спор.
– Просто я много работаю, а это для меня слишком, – сказала она.
– Но разве это не то, что я говорил тебе долгое время, Паула? Сократи свои посещения и телефонные звонки десяткам пациентов в твоем списке. Просто приходи в группу. Ты нужна группе. И ты нужна мне. Девяносто минут в неделю – это так мало!
– Нет, я не могу делать противоречивые вещи. Мне необходим чистый отдых. Кроме того, мы находимся с группой в разных измерениях. Она стала слишком поверхностной, а мне необходимо заглянуть глубже – работать с символами, снами, архетипами.
– Я согласен с тобой, Паула, – к этому моменту я успокоился. – Я хочу того же, и это как раз то, к чему сейчас подходит группа.
– Нет, я чувствую усталость, я иссякла. Каждый новый пациент заставляет меня вспомнить о моем кризисе, о моей Голгофе. Нет, я уже решила, встреча на следующей неделе будет последней.
Так и произошло. Паула больше не вернулась в группу. Я попросил ее звонить мне в любое время, когда ей захочется поговорить. Она ответила, что я тоже могу ей звонить. Ее замечание не было язвительным, но оно изменило систему и сильно задело меня. Она ни разу не позвонила мне. Несколько раз я сам звонил ей и раза два пригласил на обед. Наш первый обед (настолько болезненный, что я долго не решался звонить ей после него) начинался угрожающе. Обнаружив, что наш любимый ресторан переполнен, мы перешли через улицу и направились к Троут, огромной пещерной конструкции, построенной без какого бы то ни было изящества. В прошлом она была представительством компании “Олдсмобиль”, затем продуктовым магазином и школой танцев. Теперь же это здание размещало в себе ресторан с меню, содержащим “танцующие” бутерброды: Вальс, Твист, Чарльстон.
Это было неправильно, я знал это и, заказывая бутерброд Хула, и когда Паула извлекла из своей сумки камень размером с маленький грейпфрут и положила между нами на стол.
– Мой камень злости, – сказала она.
С этого момента в моей памяти начинаются белые пятна. К счастью, я сделал кое‑какие пометки после этой встречи – разговор был слишком важен для меня, чтобы довериться памяти.
– Камень злости? – безучастно повторил я, вглядываясь в покрытый лишайником булыжник, лежащий между нами.
– Мне так часто доставалось, что однажды меня поглотил гнев. Теперь я научилась справляться с ним. Я загоняю его в этот камень. Мне необходимо было принести его сегодня на нашу встречу. Я хотела, чтобы он был здесь, когда я тебя увижу.
– Почему ты злишься на меня, Паула?
– Нет, я больше не злюсь, слишком мало времени, чтобы злиться. Но ты причинил мне боль; я осталась в одиночестве, когда больше всего нуждалась в помощи.
– Я никогда не оставлял тебя, Паула, – ответил я, но она даже не обратила внимания на мои слова и продолжала говорить.
– После симпозиума я ощущала себя разбитой. Глядя, как доктор Ли стоял передо мной и подбрасывал мелок, игнорируя и меня, и человеческое беспокойство пациентов, я чувствовала, что земля уходит у меня из‑под ног. Пациенты тоже люди, мы боремся. Иногда нам необходимо великое мужество, чтобы бороться с раком. Мы говорим о победах или поражениях в этих битвах, но мы боремся. Иногда нас поглощает отчаяние, иногда наступает полное физическое истощение, но бывает, что мы возвышаемся над болезнью. Мы не “стратегии”! Мы намного больше, намного!
– Паула, я же не доктор Ли, я думаю иначе. Я защищал тебя, когда позже разговаривал с ним, я же говорил тебе. После всей нашей совместной работы как ты могла подумать, что я считаю тебя “стратегией”? Я ненавижу эти слова и эту точку зрения так же, как и ты.
– Пойми, я на самом деле не хочу возвращаться в группу.
– Не в этом дело, Паула. – Я больше не беспокоился, вернется ли она в группу. Безусловно, она была сердцем группы, источником энергии, но в ней было слишком много силы и вдохновения: ее уход сделал возможным для нескольких других пациентов духовно расти и вдохновлять самих себя. – Для меня важнее, чтобы ты мне доверяла и помогала.
– После симпозиума, Ирв, я проплакала весь день, я звонила тебе, но ты не перезвонил в тот же день. Позднее, когда ты связался со мной, ты не предложил никакого утешения. Я пошла в церковь и три часа говорила с отцом Элсоном. Он выслушал меня, он всегда меня слушает. Думаю, он и спас меня.
Чертов священник! Я попытался вспомнить тот день три месяца назад. Смутно припомнил наш разговор, она не просила о помощи. Точно, она звонила, чтобы узнать что‑то о симпозиуме, то, что мы уже не раз обсуждали. Много раз. Как она не могла этого понять? Сколько раз мне придется ей повторять эти бессмысленные вещи, что я не доктор Ли, что я не подбрасывал мелок в руках, что я защищал ее, что я собирался продолжать работу, начатую в группе, что ничего не могло измениться в ходе занятий только из‑за того, что пациентов попросят заполнять несколько анкет каждые три месяца? Да, Паула звонила мне в тот день, но ни тогда, ни позднее она не просила о помощи.
– Паула, если ты уже все мне сказала, то подумай, неужели я мог бы от тебя отвернуться?
– Ты не представляешь, я плакала двадцать четыре часа.
– Но я не ясновидящий. Ты сказала, что хотела поговорить об исследовании и твоем докладе.
– Я проплакала весь день!
Так это и продолжалось, разговор двоих людей, не слышащих друг друга. Я старался достучаться до нее, я говорил, что она была нужна мне, не группе, а лично мне. Правда, мне ее не хватало. В моей жизни наступали моменты, когда я грустил без ее вдохновения и ее успокаивающего присутствия. Однажды, за несколько месяцев до этого, я позвонил Пауле якобы для того, чтобы обсудить планы группы, но на самом деле уехала моя жена и мне было тоскливо и одиноко. После нашего почти часового разговора мне стало намного лучше, но я испытывал чувство вины за то, что так хитро напросился на терапию.
Сейчас я вспоминал этот долгий телефонный разговор. Почему я не мог быть честным? Почему я просто не сказал: “Послушай, Паула, выслушай меня сегодня вечером. Помоги мне – я чувствую себя одиноким, подавленным, разбитым. Я не могу спокойно спать – все время просыпаюсь”. Нет, без вопросов! Было легче получить все тайно.
Получается, с моей стороны было лицемерием предположить, что Паула могла попросить меня о помощи открыто. Значит, она завуалировала свою просьбу вопросом о симпозиуме. И что! Я должен был утешать ее, а она гордо стоять в стороне.
Рассматривая ее камень злости, я осознавал, как мал был шанс спасти наши отношения. Безусловно, не было времени для тонкостей, и я открыто сказал ей: “Ты нужна мне!”, напоминая, что у терапевта тоже есть свои потребности. “Возможно, – продолжал я, – я был недостаточно внимателен к твоим бедам. Я не умею читать мысли. Но ты разве не отказывалась годами принимать мою помощь? Дай мне еще одну возможность. Даже если я не смог помочь тебе, не покидай меня навсегда”. Я достаточно приблизился к ней, но Паула была непреклонна, и мы расстались, не пожав друг другу руки.
Я выкинул Паулу из своей головы на много месяцев, до тех пор, пока доктор Кингсли, психотерапевт, к которой Паула питала антипатию, не рассказала мне однажды об очередном столкновении. Паула вернулась в группу, руководителем которой была доктор Кингсли (к этому времени в проекте было уже несколько групп), и не давала никому вставить и слово в свою речь. Я немедленно позвонил ей и снова пригласил на обед.
Меня удивило то, как обрадовалась Паула моему приглашению. Но, встретившись с ней на этот раз в Стэнфордском клубе, в котором не предлагали никаких “пляшущих” бутербродов, я понял, каковы ее намерения. Весь наш разговор крутился вокруг личности доктора Кингсли. Если верить Пауле, коллега доктора Кингсли пригласил ее в группу, но, как только она начала говорить, доктор Кингсли перебила ее и попросила не занимать так много времени. “Тебе бы стоило сделать ей выговор, – настаивала Паула. – Ты же знаешь, что учителя должны нести ответственность за непрофессиональное поведение своих учеников”. Но доктор Кингсли была моей коллегой, а не учеником, я знал ее долгие годы. Ее муж был моим близким другом, мы вели совместно с ней много групп, она была превосходным специалистом. Я был уверен, что Паула искажала действительность.
Медленно, слишком медленно до меня стало доходить, что Паула просто ревновала: ревновала к вниманию и привязанности, которыми я одаривал эту женщину, ревновала к союзу с ней и со всеми членами исследовательской группы. Паула сопротивлялась симпозиуму, препятствовала любому сотрудничеству с другими исследователями. Она сопротивлялась любым изменениям. Все, чего она хотела, – вернуть то время, когда мы были только вдвоем.
Что я мог сделать? Ее настойчивое требование выбрать между ней и доктором Кингсли поставило меня перед дилеммой. “Меня интересуешь и ты, и доктор Кингсли, Паула. Как я могу оставаться самим собой, получать новые знания, строить отношения с доктором Кингсли и другими коллегами без твоего участия, в котором ты мне хочешь отказать?” И, хотя я всячески искал к ней подход, расстояние между нами все увеличивалось. Я не мог найти правильных слов; казалось, темы для разговора исчерпаны. У меня уже не было права задавать ей личные вопросы, она не проявляла интереса к моей жизни.
На протяжении всего обеда она рассказывала мне истории о безобразном отношении врачей к ней: “Их не интересуют мои вопросы, их лечение приносит больше вреда, чем пользы”. Она пожаловалась на психотерапевта, который разговаривал с пациентами из нашей первой группы: “Он крадет наши открытия, чтобы использовать в своей книге. Ты бы защитил себя, Ирв!”
Паула, очевидно, серьезно волновалась, а я был встревожен и огорчен ее паранойей. Я думаю, мое страдание стало для нее очевидно, потому что, как только я собрался уходить, она попросила задержаться на несколько минут.
– У меня есть для тебя история, Ирв. Сядь и послушай о койоте и цикаде.
Она знала, что я люблю истории, а особенно ее истории. Я слушал с надеждой.
“Жил‑был койот, который чувствовал себя раздавленным жизнью. Все, что было перед его глазами, – это много голодных детенышей, много охотников и много ловушек. И вот однажды он сбежал, чтобы жить в одиночестве. В один прекрасный день он услышал прекрасную мелодию, музыку благополучия и умиротворения. Он пошел на звук мелодии в глубь леса и увидел большую цикаду, которая грелась на бревне и пела.
“Научи меня своей песне”, – попросил койот цикаду. Никакого ответа. Он снова попросил научить его. Но цикада не отвечала. Наконец, когда койот пригрозил съесть ее, цикада согласилась и начала петь сладкую песню снова и снова, пока койот не запомнил ее. Насвистывая новую мелодию, он пошел домой. Внезапно налетела стая диких гусей, и койот отвлекся. Когда же он решил спеть снова, то понял, что забыл песню.
Он вернулся в солнечный лес. Но к этому времени цикада, оставив свою пустую кожицу на бревне, взлетела на ветку дерева. Койот решил не терять времени и сделать так, чтобы мелодия осталась в нем постоянно. В один присест он проглотил кожицу, думая, что цикада внутри, и отправился домой. Однако ему так и не удалось вспомнить мелодию. Койот понял, что проглоченная им цикада не сможет ничему его научить, ему нужно было выпустить ее и заставить снова повторить песню. Взяв нож, он вонзил его в живот, чтобы достать цикаду. Но нож вошел так далеко, что койот умер”.
– Так вот, Ирв… – сказала Паула, даря мне свою блаженную улыбку. Она дотронулась до моей руки и прошептала мне в ухо:
– Пришло время найти свою собственную песню. Я был тронут: ее улыбка, ее таинственность, ее тяга к мудрости – это была та Паула, которую я так сильно любил. Мне понравилась притча. Это была Паула “старой марки”, чувствовалось прежнее время. Я понял ее историю в прямом смысле – мне бы следовало петь свою песню – и упустил глубокое, тревожащее значение – наши с Паулой отношения. Я до сегодняшнего дня отказывался даже думать о глубинном смысле этой сказки.
С тех пор мы пели каждый свою песню отдельно. Моя карьера продвигалась вперед: я проводил исследования, написал много книг, получил долгожданные ученые награды и степени. Прошло десять лет. Проект изучения рака молочной железы, начатый с помощью Паулы, был уже давно завершен и его результаты опубликованы. Мы провели групповую терапию для пятидесяти женщин с раком молочной железы и обнаружили, что по сравнению с контрольной группой, состоящей из тридцати шести женщин, качество жизни наших пациентов постоянно улучшалось. (Многими годами позже, в последующих работах, напечатанных в журнале “Ланцет”, мой коллега доктор Дэвид Шпигель, которого я долго просил присоединиться к проекту, в конечном счете продемонстрировал, что группа значительно увеличивала продолжительность жизни ее членов.) Но группа стала историей; все тридцать женщин из первоначальной группы “Мост” и восемьдесят шесть женщин из проекта изучения рака молочной железы уже умерли.
Все, кроме одной. Однажды в больничном коридоре молодая рыжеволосая женщина, лица которой я не запомнил, поприветствовала меня и сказала:
– Вам привет от Паулы Уэст.
Паула! Как такое могло быть? Она все еще жива? А я не знал. Я содрогался при мысли, что стал человеком, которому не интересно, существует ли на земле дух, похожий на нее, или нет.
– Паула? Как она? – запинаясь проговорил я. – Откуда вы ее знаете?
– Два года назад, когда мне поставили диагноз туберкулез кожи, Паула пришла навестить меня и пригласила в ее группу самопомощи. С тех пор она заботится обо мне, и не только обо мне – обо всем сообществе больных туберкулезом.
– Мне жаль слышать о вашем заболевании. А Паула? Туберкулез? Я не знал. – Это было лицемерием. Как мог я знать? Разве я ей позвонил хоть один раз?
– Она говорит, что это от лекарств, которые ей давали от рака.
– Она очень больна?
– Про Паулу никогда ничего не знаешь точно. Конечно, не так больна, если начала вести группу больных туберкулезом, если приглашает на обеды, навещает нас, когда мы настолько больны, что не можем выйти из дома, она приглашает врачей, чтобы держать нас в курсе последних исследований в области туберкулеза. К тому же не так больна, если начала свое расследование профессиональной этики врачей, лечивших ее от рака.
Организовывать, обучать, быть сиделкой, агитировать, создать группу самопомощи для больных туберкулезом, обвинение врачей – это было в духе Паулы, все правильно.
Я поблагодарил молодую женщину и позже в этот же день набрал номер Паулы, который все еще помнил наизусть, хотя прошло уже больше десяти лет с последнего телефонного разговора. Ожидая ответа, я думал о недавних гериатрических исследованиях, обнаруживших позитивную корреляцию между личностными качествами и долголетием: так, постоянно ворчащие, параноидные и настойчивые пациенты в основном живут дольше. Но лучше уж злющая и раздраженная, но живая Паула, чем спокойно лежащая под землей!
Она, казалось, обрадовалась моему звонку и пригласила к себе домой. По ее словам, волчанка (туберкулез кожи) сделала ее слишком чувствительной к солнечным лучам и она не могла ходить по ресторанам в дневное время. Я согласился. В тот день, когда я пришел на обед, Паула занималась своим палисадником. Завернутая с ног до головы в легкое покрывало, с огромной пляжной шляпой на голове, она пропалывала изящную испанскую лаванду.
– Похоже, эта болезнь убьет меня, но она не заставит меня прекратить заниматься садом, – сказала Паула, взяв меня за руку и ведя к дому.
Мы подошли к темно‑фиолетовому дивану и сели рядом. Она начала говорить очень серьезно:
– Мы с тобой сто лет не виделись, Ирв, но я часто о тебе думаю. Ты во всех моих молитвах.
– Я рад, что ты обо мне думаешь, Паула. Но что касается молитв, ты знаешь, я их недолюбливаю.
– Да, да, конечно, в этой области ты еще не раскрыл себя. Это напоминает мне, – сказала она, улыбаясь, – что работа с тобой еще не закончена. Ты помнишь, когда мы в последний раз говорили о боге? Несколько лет назад, но я помню, как ты сравнивал мое чувство святости с кишечными коликами по ночам.
– Без контекста это звучит грубо, даже для меня. Я не хотел никого оскорблять. Но чувство – это просто чувство. Субъективное положение никогда не докажет объективную правду. Мечта, страх, ужас не означают, что…
– Да, да, – перебила меня Паула с улыбкой, – я знаю твою твердую материалистическую точку зрения. Я ее слышала много раз и всегда поражалась страсти, преданности и вере, которые ты вкладывал в свои утверждения. Помню, в последнюю нашу встречу ты сказал, что у тебя никогда не было близкого друга, ты не знал никого, кто бы преданно во что‑то верил.
Я кивнул головой.
– Тогда я хотела тебе сказать, что ты забыл одного друга, который свято верил, – меня! Мне бы хотелось рассказать тебе о священном! Как странно, что ты позвонил именно сейчас: я думала о тебе последние две недели. Я недавно вернулась из паломничества в Сьерру. Как мне хотелось, чтобы ты был рядом со мной. Сядь и послушай, я расскажу о нашем путешествии. Однажды нас попросили подумать о ком‑то, кто умер, кого мы любили, кого нам было трудно отделить от себя. Я вспомнила о своем брате, которого я очень сильно любила, но он умер в семнадцать лет, когда я была еще ребенком. Нас попросили написать этому человеку письмо и сказать в нем те важные вещи, которые мы уже никогда не сможем ему сказать. Затем мы искали в лесу то, что напоминало нам этого человека. В конце концов мы похоронили этот предмет из леса вместе с письмом. Я выбрала маленький гранитный камень и похоронила его в тени можжевельника. Мой брат был похож на камень – твердый и устойчивый. Если бы он был жив, он бы поддержал меня, он бы не предал меня.
Сказав это, Паула посмотрела мне в глаза. Я хотел было ответить ей, но она закрыла мне рот рукой и продолжала:
– В ту ночь, в полночь, церковные колокола звонили по тем, кого мы потеряли. Нас было двадцать четыре паломника, и колокола прозвонили двадцать четыре раза. Слушая звон в своей комнате, я прожила, правда, прожила смерть своего брата. Я почувствовала неописуемую грусть, пронизавшую меня насквозь, когда думала о том, как много мы с ним пережили вместе и как много могли бы еще пережить. Потом случилась странная вещь: колокола продолжали звонить, и с каждым их ударом я вспоминала тех, кто был в нашей группе “Мост” и уже умер. Когда колокола перестали звонить, я вспомнила двадцать одного человека. Все это время я плакала. На мои рыдания пришла монахиня, она крепко обняла меня и держала до последнего удара. Ирв, ты помнишь их? Ты помнишь Линду и Банни…
– Еву и Лили, – я чувствовал, как на глаза наворачивались слезы, и начал помогать ей вспоминать лица, истории, боль членов нашей первой группы.
– Мадлен и Габи.
– Джуди и Джоан.
– Эвелин и Робин.
– Сэл и Роб.
Держа друг друга за руки и покачиваясь, мы продолжали нашу панихиду, пока не назвали имена всех членов нашей маленькой семьи.
– Это священный момент, Ирв, – сказала она, заглядывая мне в глаза. – Ты чувствуешь присутствие их душ?
– Я помню их достаточно хорошо и ощущаю твое присутствие, Паула. Это достаточно свято для меня.
– Ирв, я тебя хорошо знаю. Попомни мое слово – наступит момент в твоей жизни, и ты поймешь, как ты на самом деле религиозен. Но нет смысла убеждать тебя в этом, пока ты голоден. Давай пообедаем.
– Подожди, Паула. Несколько минут назад ты сказала, что твой брат никогда бы тебя не предал. Это был камень в мой огород?
– Однажды, – ответила Паула, вглядываясь в меня своими блестящими глазами, – когда я смертельно в тебе нуждалась, ты оставил меня. Но это было давно. Это прошло. Ты вернулся.
Я точно знал, какой именно момент она имела в виду, – когда доктор Ли подбрасывал мелок в воздух. Сколько же занял времени полет этого мелка? Одну секунду? Две? Но эти короткие мгновения застыли у нее в памяти. Мне бы понадобился топорик для льда, чтобы вырубить их. Но я был не настолько глуп, чтобы попробовать. Вместо этого я вернул разговор к ее брату.
– Когда ты сказала, что твой брат был похож на камень, я вспомнил другой камень, камень злости, который однажды лежал между нами на столе. Знаешь, ты никогда, вплоть до сегодняшнего дня, не говорила мне о нем. Но его смерть помогает мне сейчас понять кое‑что о нас двоих. Наверное, мы всегда были треугольником – ты, я и твой брат? Может быть, поэтому ты не позволяла мне быть твоим камнем? Возможно, его смерть убедила тебя, что все остальные мужчины хилые и ненадежные?
Я замолчал в ожидании. Какой будет ее ответ? За все эти годы я впервые предложил Пауле толкование ее самой. Она ничего не ответила. Я продолжал:
– Думаю, я прав. Мне кажется, хорошо, что ты присоединилась к этому паломничеству; хорошо, что ты попыталась сказать ему “прощай”. Надеюсь, теперь между нами многое изменится.
Она молчала. Затем поднялась с загадочной улыбкой, проговорив: “Пора тебя накормить”, и ушла на кухню.
Была ли эта фраза – “Пора накормить тебя” – подтверждением, что я сам только что накормил ее? Черт, ее было всегда трудно понять.
Спустя некоторое время, когда мы сели за стол, она серьезно посмотрела на меня и сказала:
– Ирв, у меня большие проблемы. Ты станешь моим камнем?
– Конечно, – ответил я, с радостью осознавая, что ее просьба была ответом на мой вопрос. – Доверься мне. Какие у тебя проблемы? – Но моя радость от того, что она наконец‑то позволила помочь ей, обернулась унынием, как только она начала объяснять свою проблему.
– Я так откровенно высказывала свое отношение к врачам, что меня занесли в черный список. У меня больше нет возможности получать квалифицированную медицинскую помощь, даже от врачей Центра Ларчвуд. Я не могу поменять клинику – моя страховая компания заставляет меня лечиться именно там. А, учитывая состояние моего здоровья, какая другая страховая компания согласится заниматься мною. Я убеждена, они обращались со мной неэтично – их лечение вызвало волчанку. Это определенно была преступная небрежность с их стороны! Они меня боятся! Некоторые записи они делают красными чернилами, чтобы их легко было найти и изъять из моей карты в случае судебного разбирательства. Они используют меня как подопытного кролика. Мне преднамеренно долго вводили стероиды, пока не стало слишком поздно. Затем они увеличили дозу. Мне на самом деле кажется, что они хотели от меня избавиться, – продолжала Паула. – Я потратила целую неделю, составляя письмо в медицинский совет. Но до сих пор не отправила – в основном из‑за того, что начала волноваться о том, что может случиться с этими докторами и членами их семей, если их лишат лицензии. С другой стороны, как можно позволять им и дальше лечить людей? Я никак не могу найти компромисс. Я помню, как однажды сказала тебе, что компромисс, возникнув однажды, размножается, и вскоре ты теряешь то, во что больше всего верил. Означает ли молчание компромисс? Я думала, в молитвах найду выход.
Мое разочарование росло. Может быть, в суждениях Паулы была доля истины. Наверное, некоторые из ее докторов решили, как и доктор Ли много лет назад, просто не замечать ее. Но красные чернила, подопытный кролик, отказ в медицинской помощи? Это были абсурдные обвинения, и я был уверен, что они являлись признаками паранойи. Зная некоторых из ее лечащих врачей, я был уверен в их высоких моральных качествах. В очередной раз она поставила передо мной выбор: ее или мои убеждения. Больше всего мне не хотелось, чтобы она думала, что я ее покидаю. Но как я мог оставаться с ней?
Я был в ловушке. Все‑таки за все эти годы Паула впервые прямо попросила меня о чем‑то. У меня был один выход: рассматривать ее как тревожного пациента и лечить ее – “лечить” в самом неправильном смысле этого слова, в смысле “ухаживать”. Это было то, чего я всегда старался избегать в отношениях с Паулой, да и с каждым, так как “ухаживать” означало относиться к человеку как к объекту, а не быть с ним.
Я сочувствовал ее проблеме. Я слушал ее, осторожно советовал и держал свое мнение при себе. В конце концов я предложил ей написать сдержанное письмо в медицинский совет: “Честное, но мягкое. В этом случае доктора получат выговор, но не лишатся своих лицензий”. Конечно же, все это было неискренне. Ни один медицинский совет не принял бы ее письмо всерьез. Кто мог поверить, что все врачи ополчились против нее? Им бы не грозили ни выговор, ни лишение лицензии.
Она задумалась, взвешивая мой совет. Я верю, она чувствовала мою заботу о ней, и, надеюсь, не догадывалась о том, что я был нечестен. Она кивнула. “Ты дал мне полезный совет, Ирв. Это как раз то, что мне было нужно”. Это была горькая ирония судьбы, что только теперь, когда я был нечестен с ней, она считала меня полезным и внушающим доверие.
Несмотря на чувствительность к солнечным лучам, Паула настояла на том, чтобы проводить меня до машины. Она вновь надела пляжную шляпу и завернулась в огромное полотно. И, пока я заводил машину, она наклонилась, чтобы обнять меня напоследок. Отъезжая, я посмотрел в зеркало заднего вида. Ее силуэт, ее шляпа и накидка – все светилось на солнце. Подул ветерок, и ее одежды заколыхались. Она была похожа на листочек, дрожащий на ветру и готовящийся к листопаду.
За десять лет до этой встречи я начал писать. Я выпускал книгу за книгой, и такая продуктивность была обусловлена простым методом: книги стояли на первом месте, и я не позволял ничему и никому вмешиваться в этот процесс. Охраняя свое время так же, как медведица охраняет своих медвежат, я отказался от всего, кроме самых важных дел. И даже Паула попала в категорию несущественного, и у меня не было времени позвонить ей еще.
Спустя несколько месяцев умерла моя мама, и, пока я летал на ее похороны, Паула прочно засела в моей памяти. Я думал о ее прощальном письме брату – письме, содержащем все, что она так и не смогла ему сказать. Думал о том, что никогда уже не скажу своей матери. Практически все! Моя мама и я, хотя и любили друг друга, никогда не разговаривали по душам, как два человека с чистыми помыслами. Мы всегда “лечили” друг друга, не говорили ничего в глаза, боялись, контролировали и обманывали один другого. Я уверен, что это было причиной моего желания поговорить с Паулой открыто и напрямую. И поэтому мне было противно “ухаживать” за ней так нечестно.
В ночь после похорон мне приснился удивительный сон.
Моя мама и несколько наших родственников, все умершие, тихо сидят на ступеньках. Я слышу, как мама называет мое имя. Я узнаю тетю Мини, очень тихо сидящую наверху. Вдруг она начинает двигаться. Сперва медленно, а затем все быстрее, пока не начинает кружить, как шмель. И вдруг все люди на лестнице, все взрослые моего детства, все уже умершие, начинают кружить. Мой дядя Эб направляется ко мне и треплет по щеке, приговаривая “Дорогой сынок”, как он это часто делал. Затем и другие начинают трепать меня по щеке. Сначала нежное, потрепывание вскоре становится сильным и болезненным. Я просыпаюсь в ужасе в три часа утра, мои щеки горят.
Сон обрисовал поединок со смертью. Сперва меня зовет моя умершая мама, и я вижу умерших родственников, сидящих в жутком молчании на ступеньках. Затем я пытаюсь отрицать недвижимость смерти, вселяя в мертвых движение жизни. Особенно я заставляю двигаться тетю Мини, которая умерла год назад после удара, парализовавшего ее на несколько месяцев. Она не могла двинуть ни единым мускулом тела, кроме глаз. Во сне Мини начинает двигаться быстро, но уже скоро выходит из‑под контроля, и ее движение переходит в безумие. Следующий шаг избавиться от страха смерти – позволить им слегка ущипнуть меня за щеку. Но опять прорывается страх, щипки становятся сильными и болезненными. Я повержен страхом смерти.
Образ моей тетушки, кружащей, как шмель, преследовал меня несколько дней. Я никак не мог от него отделаться. Наверное, думал я, это определенное послание, говорящее мне, что сумасшедший темп моей жизни – это неудачная попытка побороть страх смерти. Не говорит ли мой сон о том, что пора бы замедлить темп и обратиться к тому, что для меня действительно ценно?
Мысль о ценностях вернула меня к Пауле. Почему я не позвонил ей? Ведь она была тем, кто заглянул в глаза смерти. Я вспоминал, как она заканчивала наши встречи: ее глаза сосредотачивались на пламени свечи, ее звучный голос вел нас в глубины нашей души, где царил покой. Говорил ли я ей когда‑нибудь, как много значили для меня эти моменты? Как много я еще не сказал ей. Я скажу ей это теперь. Возвращаясь с похорон мамы, я твердо решил начать все заново.
Но у меня не получилось. Навалилось слишком много дел: жена, дети, пациенты, студенты, книги. Я писал каждый день, игнорируя все остальное: друзей, почту, телефонные звонки, приглашения на лекции. Все проблемы, вся жизнь могли подождать, пока я не закончу книгу. И Паула тоже могла подождать.
Но она не стала ждать. Несколько месяцев спустя я получил записку от ее сына – мальчика, которому я завидовал, потому что он имел такую маму, и которому Паула несколько лет назад написала прекрасное письмо о приближающейся смерти. Он написал коротко и просто: “Моя мама умерла, но я уверен, она хотела, чтобы вы узнали об этом”.
Глава 3. Южный комфорт.
Прошло пять лет, в течение которых я вел ежедневную психотерапевтическую группу в психиатрической больнице. Каждый день в десять утра я покидал свой уютный, заставленный рядами книг кабинет в медицинской школе Стэнфордского университета, ехал на велосипеде в больницу, заходил в палату, с содроганием вдыхая липкий воздух, пропитанный лизолом, наливал себе кофе из автомата для персонала (пациентам запрещалось есть сахар, им не разрешали курить, пить алкогольные напитки и заниматься сексом – все рассчитано на то, я полагаю, чтобы пациенты чувствовали себя неуютно и поскорее покидали больницу). Затем я расставлял по кругу стулья в комнате, доставал свою дирижерскую палочку и в течение восьмидесяти минут руководил группой.
Хотя в больнице было двадцать коек, встречи были весьма немногочисленными: иногда на них приходили лишь четверо или пятеро пациентов. Я был очень придирчив к подбору пациентов и допускал в группу лишь хорошо функционирующих пациентов. Каков был пропуск? Ориентация в трех понятиях: время, место и личность. Членам моей группы необходимо было знать только, где они находились и когда и кем они являются. Пока я не возражал против присутствия психотических пациентов (если это в чем‑то не проявлялось и не мешало работе других), но всячески настаивал, чтобы каждый участник был способен говорить, удерживать свое внимание в течение восьмидесяти минут и признавать свою потребность в помощи.
В любой приличный клуб можно попасть только по пропуску. Мне кажется, именно требования к вхождению в группу – “программную группу”, как ее называли по причинам, о которых я скажу позже, – сделали ее более привлекательной. Те же, кто оставался без пропуска – более беспокойные и регрессивные пациенты, – направлялись в “группу общения”, еще одну группу, находящуюся под моим попечением, менее продолжительную по времени, более структурированную и с меньшими требованиями. Сюда, безусловно, попадали социальные изгои, пациенты с нарушениями интеллекта, психическими расстройствами, агрессивными или маниакальными склонностями, не удовлетворяющие требованиям любой другой группы. Часто некоторым пациентам с подобными симптомами разрешалось посещение коммуникативной группы, если предварительно их медикаментозно укрощали, иногда на день или два.
“Разрешено посещение”: эта фраза могла вызвать улыбку на лице даже самого замкнутого пациента. Нет! Буду честен. Никогда в истории больницы не было пациента, взволнованно рвущегося в двери терапевтической комнаты и требующего разрешения на посещение. Наиболее частая сцена перед групповым занятием: отряд дежурных санитаров и медсестер в белых халатах, галопом носящиеся по больнице, вытаскивающие пациентов из их потайных мест в туалетах и душевых и препровождающие их в терапевтическую комнату.
У программной группы была особая репутация: она была жесткой и требовательной и, что хуже всего, там не было возможности спрятаться. Здесь не было ни одного случайного человека или незваного гостя. Пациент более высокого уровня, находясь в группе общения, мог оставаться совершенно незамеченным. Если же какой‑нибудь сбитый с толку пациент низшего функционального уровня ошибочно попадал на собрание программной группы, то его глаза стекленели от страха, как только он понимал, где находится, и уже никто не мог выпроводить его отсюда. Хотя технически был возможен переход из низшей группы в группу высшего уровня, лишь единицы задерживались в больнице достаточно долго, чтобы это стало реальностью. Таким образом, негласно все знали свое место. Но никто и никогда не говорил об этом.
Еще до того как начать вести группы в больнице, я был уверен, что группы амбулаторных больных – это вызов. Не так легко вести группу из семи‑восьми амбулаторных больных, основной проблемой которых являются отношения с окружающими. В конце встреч я обычно чувствовал себя совершенно уставшим, измотанным и удивлялся, глядя на тех психотерапевтов, которые стойко продолжали вести очередную группу сразу после окончания встречи. И все же когда я начал работать с госпитализированными пациентами в больницах, я ощущал некоторую ностальгию по старым временам работы с амбулаторными больными.
Представьте себе группу амбулаторных больных: сплоченная встреча высоко мотивированных людей, способных к сотрудничеству; уютная, тихая комната; никаких сестер, стучащих в дверь, чтобы доставить пациента на очередную процедуру или принятие лекарства; никаких суицидальных больных в смирительных рубашках; никто не отказывается говорить; никто не засыпает под действием лекарств и не храпит на всю группу; и, что самое важное, одни и те же пациенты и помощники на каждой встрече, из недели в неделю, из месяца в месяц. Какая роскошь! Психотерапевтическая нирвана! По сравнению с этим группа стационарных больных была ночным кошмаром – постоянно повторяющееся резкое изменение членского состава группы; частые психотические вспышки; пациенты, которыми можно манипулировать, сожженные двадцатью годами депрессии или шизофрении и которым уже никогда не станет лучше; осязаемая атмосфера отчаяния в комнате.
Но настоящим убийцей в этой работе были сама больница и бюрократия страховой компании. Целые команды агентов, снующих по больнице и вынюхивающих информацию в картах пациентов. Они указывали, кого из безнадежных больных выписать, поскольку весь предыдущий день он функционировал довольно хорошо, или кого считать явно склонным к самоубийству или социально опасным, несмотря на отсутствие в карте каких‑либо свидетельствующих об этом записей.
Действительно ли было время, когда отношение к пациентам имело первостепенное значение? Когда врачи признавали болезнь и помещали людей в больницы и были рядом до тех пор, пока им не становилось лучше? Или это был только сон? Рискуя вызвать улыбку снисхождения на лицах моих учеников, я не собираюсь больше вспоминать о золотых временах, когда работа администрации заключалась в помощи врачам, которые помогали больным.
Бюрократические парадоксы сводили с ума. Вспомнить хотя бы историю Джона – параноика средних лет с небольшой умственной отсталостью. После того как его однажды избили в приюте для бездомных, он избегал государственных приютов и спал на улице. Джон знал, как открыть для себя двери больницы: в холодные, сырые ночи, чаще ближе к полуночи, он начинал настойчиво скрестись в дверь приемного покоя и угрожать, что нанесет себе раны, и добивался, что ему находили местечко для приюта. И пока врач в приемном покое не был уверен, что Джон не совершит самоубийства, если отправить его в приют, он несколько ночей спал крепким сном в 700‑долларовой комнате больницы, благодаря любезности жестокой страховой системы.
Современная практика краткосрочной психиатрической госпитализации уместна, если только существует адекватная постбольничная программа для амбулаторных больных. Тем не менее в 1972 году губернатор Рональд Рейган смелым, выдающимся решением отменил психические заболевания в Калифорнии, не только закрыв большие государственные психиатрические больницы, но и уничтожив большинство общественных реабилитационных программ. В результате сотрудникам больниц приходилось ежедневно сталкиваться с одной и той же ситуацией, когда после непродолжительного лечения пациентов выписывали из больницы, отправляя в те же условия, в ту же среду, которые стали причиной их госпитализации. Это похоже на то, как раненых и только что прооперированных солдат отправляют обратно на фронт. Представьте, как вы надрываетесь, помогая больным: первые беседы, ежедневные обходы, показы вновь пришедшим психиатрам, составление программы с персоналом, встречи со студентами‑медиками, написание рекомендаций в картах, ежедневные терапевтические занятия, зная, что через несколько дней придется снова вернуть их в то самое болезнетворное окружение, которое отторгло их. Обратно в пьющие семьи. Обратно к жестоким супругам, в которых уже давно не осталось ни любви, ни терпения. Обратно к ночевкам в разбитых машинах. Обратно к друзьям‑наркоманам и безжалостным торговцам, ожидающим за дверями больницы.
Вопрос: как мы, врачеватели, сохраняем здравый ум? Ответ: учимся лицемерить.
Это и есть мое время. Во‑первых, я научился заглушать свое чувство беспокойства. Затем я овладел правилами профессионального выживания: избегай вовлеченности – не позволяй пациентам стать слишком значимыми. Помни, завтра они уйдут. Не задумывайся об их дальнейших планах. Помни, чем меньше, тем лучше, не пытайся сделать слишком много – не приводи себя к неудаче. Если пациенты психотерапевтической группы приходят к тому, что простой разговор помогает, что близость с другими не страшна, что они могут помочь другим – этого уже достаточно.
Постепенно, после нескольких разочаровывающих месяцев ведения групп, в которых в результате ежедневной выписки постоянно менялся состав, я постиг особенности происходящего и нашел способ получать результат даже от этих кратковременных групповых занятий. Самым радикальным шагом стало изменение системы времени.
Вопрос: какова продолжительность жизни терапевтической группы в психиатрической больнице? Ответ; одна встреча.
Группы амбулаторных больных длились месяцами, даже годами; требовалось время для выявления, определения и решения проблем. В долговременной терапии есть возможность для “проработки” – можно гонять проблему по кругу и решать ее снова и снова (получается “циклотерапия”). Однако в больничных психотерапевтических группах нет стабильности, нельзя вернуться к одной теме несколько раз, потому что пациенты меняются очень быстро. За пять лет работы в психиатрической клинике я редко видел, чтобы на двух последовательных встречах присутствовали одни и те же участники, на трех – никогда! А как много было пациентов, которых я видел всего лишь один раз, которые посещали всего один сеанс и их выписывали на следующий день. Так я стал утилитарным психотерапевтом, своего рода Джоном Стюартом Миллем [1] в групповой терапии и на своих однодневных встречах стремился только дать как можно больше хорошего максимальному числу пациентов.
Возможно, я достигал этого, используя различные формы искусства на занятиях. Я твердо верил, что прекрасно организовал встречи. Великолепные, художественные занятия. Обнаружив еще в раннем детстве, что не могу ни петь, ни танцевать, ни рисовать, ни играть на музыкальных инструментах, я примирился с мыслью, что никогда не стану артистом. Но мое мнение изменилось с первой же сессией. Возможно, я был талантлив; дело было только за тем, чтобы обнаружить мои способности. Пациентам нравились занятия; время летело незаметно; у нас были моменты волнения и нежности. Я учил других тому, что знал сам. Студенты, наблюдающие за нами, были потрясены. Я читал лекции и писал книги о своих группах.
По прошествии нескольких лет я начал ощущать скуку. Сессии казались заученными, без конца повторяющимися. Они были насыщенными и походили на бесконечное вступление к многообещающей беседе. Я желал большего. Мне хотелось заглянуть глубже, выяснить больше из жизни моих пациентов.
Поэтому уже много лет назад я прекратил вести группы стационарных больных и обратил свое внимание на другие формы групповой работы. Но каждые три месяца, когда приходили на работу новые ординаторы, я выбирался из своего кабинета в медицинской школе и на протяжении недели обучал их ведению групп амбулаторных больных.
Поэтому я пришел и сегодня. Но сердце к этому не лежало. Мне было тяжело. Я зализывал раны. Всего три недели назад умерла моя мама, ее смерть сильно повлияла на темы, поднимаемые на встречах группы.
Войдя в комнату, я оглянулся и сразу заметил нетерпеливые лица трех новых стажеров‑психиатров. Как всегда, меня охватило чувство привязанности к моим ученикам. У меня было одно желание – научить их чему‑нибудь, устроить великолепный показ, образец преподавания и получения хлеба насущного, то же, что устраивали для меня в их возрасте. Но как только я рассмотрел комнату, воодушевление мое иссякло. Это было вызвано не только нагромождением медицинского оборудования – внутривенные капельницы, катетеры, сердечные мониторы, инвалидные кресла, – напоминающего, что больница специализировалась на психических пациентах с серьезными соматическими заболеваниями, которые, как правило, особенно стойки к разговорной терапии. Нет, это было вызвано видом самих пациентов.
В комнате было пять человек, сидящих в ряд. Старшая медсестра кратко познакомила меня с их состоянием по телефону. Первым был Мартин, пожилой мужчина в инвалидном кресле с мускульной атрофией. Он сидел привязанный ремнем к креслу и завернутый до пояса в простыню, которая позволяла лишь мельком увидеть нижнюю часть его иссохших ног, покрытых темной, грубой кожей. Одно из его предплечий было туго перевязано: без сомнения, он резал себе вены на запястье. (Позже я узнал, что его сын, измученный тринадцатилетним ухаживанием за своим отцом, отреагировал на его попытку самоубийства словами: “Ты и это испортил”.)
Следующей была Дороти, страдающая параплегией [2], из‑за того, что год назад пыталась покончить жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна третьего этажа. Она пребывала в депрессивном ступоре и могла только поднимать голову.
Затем были Роза и Кэрол, две молодые женщины с анорексией, которым вводили лекарства внутривенно, так как химический состав их крови был неустойчив из‑за постоянного самоочищения организма и их вес был катастрофически мал. Внешность Кэрол вообще выбивала из колеи: у нее были изящные, почти правильные черты лица, но практически бесплотные. Глядя на нее, иногда мне виделось лицо удивительно прекрасного ребенка, а иногда – скалящийся череп.
И, наконец, была Магнолия, неопрятная, тучная семидесятилетняя негритянка с парализованными ногами, чей паралич оставался загадкой для медицины. Ее очки в толстой золоченой оправе были перемотаны скотчем, а к волосам была приколота маленькая вязаная шапочка. Заговорив, она поразила меня тем, как представилась, как ее карие глаза неотступно следовали за моим взглядом, а также достоинством своего мягкого протяжного выговора, свойственного южанам. “Я очень рада видеть вас, доктор, – сказала она. – Я слышала много хорошего о вас”. Медсестры рассказали мне, что Магнолия, теперь тихо и терпеливо сидящая в кресле, обычно пребывала в сильном возбуждении, стряхивая с себя воображаемых насекомых.
В первую очередь я усадил пациентов в круг, а ординаторов – позади них, вне их поля зрения. Я начал встречу как обычно, ориентируя участников на групповую терапию. Представившись, я попросил их обращаться друг к другу и ко мне по именам и сообщил, что остаюсь на четыре дня. “После этого два ординатора, – я указал на них и назвал имена, – продолжат вести группу. Цель группы, – продолжал я, – помочь каждому из вас узнать больше о взаимоотношениях с другими людьми”. Перед лицом человеческого страдания – увядающие ноги Мартина, усмешка смертельной маски Кэрол. капельницы, вводящие Кэрол и Розе питательные вещества, которые они отказывались принимать через рот, бутылка Дороти, собирающая мочу из ее парализованного мочевого пузыря, парализованные ноги Магнолии – мои слова казались глупыми и никчемными. Этим людям необходимо было так много, что “помощь во взаимоотношениях” казалась слишком ничтожной. Какой смысл притворяться, что группа могла сделать больше, чем она могла? Я постоянно напоминал себе: малое – прекрасно. Прекрасны малые цели, малый успех.
Я относился к группе амбулаторных больных, как к “программной группе”, потому что в начале каждого занятия я просил каждого участника сформулировать повестку дня – определить тот аспект их личности, над которым они хотели бы поработать и изменить. Группа работала продуктивней, если намерения участников касались навыков взаимоотношений – особенно тех, которые могли быть проработаны здесь и сейчас. Больше всего были озадачены сосредоточенностью на взаимоотношениях пациенты, которых госпитализировали из‑за более важных жизненных проблем; они не понимали уместности постановки подобного рода задач. Я всегда отвечал: “Я знаю, что проблемы во взаимоотношениях не были причиной вашей госпитализации, но за годы работы я обнаружил, что любой, кто столкнулся с существенным психологическим нарушением, может многое приобрести, усовершенствовав свою модель отношений с другими. Важно и то, что многое можно получить, сосредоточив внимание на взаимоотношениях, потому что это самое лучшее, что может делать группа. Это реальная сила группы”.
Трудно было сформулировать подходящую повестку дня, и даже после посещения нескольких сессий большинство участников редко схватывали смысл групповых занятий. Но я успокаивал их: “Не беспокойтесь, моя работа – помочь вам”. И все равно этот процесс обычно занимал примерно половину времени сессии. После этого я мог посвятить оставшееся время любой теме. Границы между определением и проработкой повестки дня не всегда хорошо различимы. Для некоторых пациентов установка повестки дня уже являлась терапией. Даже научиться определять проблему и обращаться за помощью было для многих терапией, достаточной для такого краткого совместного времяпрепровождения.
Начали Роза и Кэрол, пациентки с анорексией. Кэрол сразу заявила, что у нее нет проблем и она не собиралась улучшать свои отношения. “Наоборот, – сказала она решительно, – чего я хочу, так это чтобы у меня было как можно меньше контактов с другими людьми”. И только после того как я сказал, что еще не встречал того, кто бы не хотел хоть что‑то улучшить в себе, она ответила, что она слишком часто сталкивалась с агрессией окружающих, особенно своих родителей, которые пытались заставить ее кушать. Соответственно она установила, правда, с некоторой неуверенностью, повестку дня: “Здесь, на занятии, я постараюсь быть настойчивой”.
Роза также не хотела ничего улучшать в своих взаимоотношениях; она тоже хотела оставаться изолированной от всех. Она никому не верила:
– Люди не понимают меня и стараются меня изменить.
– Не будет ли полезным, – спросил я, пытаясь добавить фактор здесь и сейчас в ее утверждение, – попытаться, чтобы тебя поняли в этой группе, сегодня?
– Возможно, – сказала она, предупреждая, что ей будет сложно много говорить в группе. – Я всегда чувствовала, что другие лучше, значительнее меня.
Дороти, с низко склоненной головой, чтобы избежать любого контакта глазами, говорила шепотом, капая слюной изо рта, и не высказала ничего для меня существенного. Она отметила, что была слишком подавлена для участия в группе, и медсестра сказала ей, что достаточно будет только слушать. Здесь нечего делать, решил я и обратился к другим двум пациентам.
– Я не надеюсь ни на что хорошее в своей жизни, – сказал Мартин. Его тело неуклонно усыхало; жена, как и многие другие люди из его прошлого, умерла: он годами не говорил ни с кем из своих друзей; его сын посвятил себя уходу за ним. – Доктор, у вас есть вещи поважнее. Не тратьте свое время, – сказал он мне. – Давайте посмотрим правде в глаза – мне ничто не поможет. Когда‑то я был отличным моряком, на корабле я мог делать все. Вы никогда бы не увидели меня отказывающимся. Не было ничего, что бы я не мог сделать, ничего, что я не знал. А сейчас – что мне можно дать? Что я могу дать другим?
Магнолия сделала следующее предложение:
– Я бы хотела научиться слушать. Вам не кажется, что это была бы достойная цель, доктор? Моя мама всегда говорила мне, что очень важно быть хорошим слушателем.
Господи Всевышний! Эта сессия обещала быть долгой, очень долгой. Как мне заполнить оставшееся время? Стараясь сохранить самообладание, я все же ощущал, как меня медленно охватывает паника. Хорошей же демонстрацией должна была стать эта сессия для ординаторов! Только представьте, с чем мне предстояло работать: Дороти вообще не хотела общаться, Магнолия хотела научиться слушать. Мартин чувствовал, что ему нечего предложить окружающим. (Вот оно: с этого можно было начать.) Установка Кэрол – быть настойчивой и что ни один конфликт не испугает ее – были, без сомнения, пустыми словами; ее готовность к сотрудничеству была направлена только на меня. Кроме того, чтобы развить чью‑либо настойчивость, необходима активная группа, где я мог бы убедить некоторых пациентов открыто высказывать свое мнение. Сегодня же мало что могло противостоять Кэрол и выявить ее настойчивость. Роза дала мне лучик надежды своим утверждением, что ее не понимают и она хуже других. Скорее всего, как я отметил для себя, здесь можно за что‑нибудь ухватиться.
Я начал с Кэрол, попросив высказать замечания по поводу ведения сессии. Но она лишь уверила меня, что я представляюсь ей чрезвычайно сочувствующим и знающим.
Я продолжил с Розой. Больше никого не осталось. На мое предложение рассказать немного о ком‑нибудь из тех, кто значительней ее, она стала говорить о том, как она сама все загубила: свое образование, свои отношения, все возможности в жизни. Я попытался вернуть ее высказывания к установке здесь и сейчас (которая увеличивает силу терапии).
– Оглянись, – предложил я, – и постарайся описать, в чем другие члены группы превосходят тебя.
– Я начну с Кэрол, – сказала она, приближаясь к задаче. – Она красивая. Мне нравится смотреть на нее, так же, как нравится смотреть на картину великого художника. Я завидую ее фигуре. Она стройная и пропорциональная. А я – посмотрите на меня – я толстая и раздутая. Смотрите! – С этими словами она обнажает живот и демонстрирует восьмидюймовый рулончик плоти между большим и указательным пальцами.
Все это было признаком явного анорексического безумия. Роза, как и многие страдающие анорексией, хитрила, заматываясь в слои одежды так, что легко было забыть об ее истощении. Она весила не больше восьмидесяти фунтов [3]. С ее стороны было также безумием восхищаться Кэрол, которая была намного тоньше. Месяц назад меня вызвали, потому что Кэрол сильно ослабла, и я приехал в тот момент, когда ее несли обратно в кровать. Ее халат раскрылся, обнажив ягодицы, сквозь которые выступали тазовые кости, и это напомнило мне ужасные фотографии узников, освобожденных из концлагерей. Но спорить с Розой, что она не толстая, было бессмысленно. Искажение восприятия своего тела у пациентов, страдающих анорексией, слишком сильное – много раз в разных группах я пытался оспорить эту точку зрения и знаю, что этот спор я никогда бы не выиграл.
Роза продолжала сравнения. Проблемы Мартина и Дороти были намного значительней ее собственных.
– Иногда, – сказала она, – я мечтаю, чтобы со мной случилось что‑нибудь плохое, заметное, например, паралич. Тогда бы я чувствовала себя наравне с ними.
Это заставило Дороти поднять голову и сделать свое первое (как оказалось, и последнее) замечание в группе:
– Хочешь парализованные ноги? – хрипло прошептала она. – Возьми мои.
К моему великому удивлению, вмешался Мартин, чтобы защитить Розу:
– Нет, нет, Дороти – я правильно тебя назвал? Ты Дороти? Роза не это имела в виду. Она не говорит, что ей нужны твои или мои ноги. Посмотри на мои ноги, посмотри на них. Только посмотри на них! Кому в трезвом уме они понадобятся? – Единственной здоровой рукой Мартин откинул покрывало и показал свои ноги. Жутко деформированные, они заканчивались двумя или гремя скрюченными комочками. Остатки его пальцев полностью сгнили. Ни Дороти, ни кто‑либо другой из группы не смогли долго смотреть на его ноги, даже я, несмотря на мою медицинскую подготовку.
– Роза просто фигурально выразилась, – продолжал Мартин. – Она просто хотела сказать, что ей хотелось бы иметь более очевидное заболевание, что‑то видимое. Она не хотела преуменьшать наше состояние. Правда, Роза? Ведь это так?
Я был удивлен, выслушав Мартина. Я позволил его уродству скрыть его острый ум. Но он еще не закончил.
– Ты не возражаешь, если я задам тебе вопрос, Роза? Не считай меня любопытным и можешь не отвечать, если не захочешь.
– Валяй! – ответила Роза. – Но я могу не отвечать на него.
– Каково твое состояние? То есть что с тобой не так? Да, правда, ты тощая, но не выглядишь больной. Зачем тебе эти капельницы? – спросил он, указывая на бутыли.
– Я не ем, и они кормят меня питательным составом.
– Не ешь? Они не позволяют тебе кушать?
– Нет, они хотят, чтобы я ела. А я не хочу. – Проводя рукой по волосам, Роза, казалось, старалась очистить себя.
– И ты не голодна? – настаивал Мартин.
– Нет.
Их обмен репликами очаровал меня. Поскольку принято ходить на цыпочках вокруг пациентов с нарушением питания (такие хрупкие, такие беззащитные), я никогда прежде не наблюдал, чтобы пациенту с анорексией так упорно противостояли.
– Я всегда голоден,– сказал Мартин. – Вы бы посмотрели, что я съел сегодня на завтрак: почти двенадцать пирожков, яйца, выпил два стакана апельсинового сока, – он остановился, раздумывая. – Никогда не ешь? Разве у тебя никогда не бывает аппетита?
– Нет. Насколько я помню, никогда не было. Я не люблю кушать.
– Не любишь кушать?
Я видел, как Мартин пытается уяснить ее точку зрения. Он был искренне расстроен – как будто он встретил человека, не любящего дышать.
– Я всегда много ел. Всегда любил покушать. Когда я ехал с кем‑то на машине, то у меня всегда были орешки и чипсы. По правде говоря, это было мое прозвище.
– Какое? – спросила Роза, повернувшись на стуле к Мартину.
– Мистер Хрустящий Картофель. Мои родители были из Англии и называли картофельные чипсы “хрустящим картофелем”. Поэтому меня и называли Мистер Хрустящий Картофель. Мои приятели любили приходить на пристань и смотреть на прибывающие корабли. “Идем, Мистер Хрустящий Картофель! – говорили они, – давай прокатимся”. И я бежал к нашей машине – это была единственная машина в квартале. У меня были сильные ноги, как у тебя, Роза. Мартин проехал вперед, глядя вниз.
– Кажется, у тебя хорошие ноги – хотя и немного тощие, без мяса. Мне нравилось бегать…
Голос Мартина затих. На лице появилось замешательство, когда он накидывал простыню.
– Не любишь кушать… – сказал он себе. – Я всегда любил покушать, мне кажется, ты пропустила много интересного.
В этот момент Магнолия, которая была верна своей установке и внимательно слушала, заговорила:
– Роза, детка, ты напомнила мне, когда мой Дарнел был маленьким. Иногда он вообще не мог есть. Ты знаешь, что мы делали? Меняли декорации! Мы садились в машину и ехали в Джорджию – мы жили как раз возле границы. И он ел в Джорджии. Господи, как он ел в Джорджии! Милая, – тут Магнолия повернулась к Розе и понизила голос до громкого шепота, – может, тебе стоит уехать из Калифорнии, чтобы начать кушать?!
Стараясь извлечь из этого разговора что‑нибудь терапевтическое, я остановил обсуждение (на профессиональном языке – попросил “проверить процесс”) и попросил участников подумать о своем взаимодействии.
– Роза, каковы твои ощущения от того, что происходило сейчас в группе, о вопросах Мартина и Магнолии?
– С вопросами все в порядке. И мне нравится, что Мартин…
– Ты могла бы обращаться непосредственно к нему? Роза повернулась к Мартину.
– Ты мне нравишься. Сама не знаю почему. – Она снова повернулась ко мне. – Он здесь уже неделю, но только сегодня, в группе, я впервые заговорила с ним. Кажется, что у нас много общего, но на самом деле ничего нет.
– Тебя понимают?
– Понимают? Я не знаю. Может быть.
– Я увидел вот что. Я увидел, что Мартин пытался понять тебя. И больше он ничего не пытался сделать – ни управлять тобой, ни советовать тебе, что ты должна делать.
– Хорошо, что он не пытался это делать. Добра бы от этого не было.
Тут Роза повернулась к Кэрол, и они обменялись костлявыми усмешками соучастия. Мне захотелось встряхнуть их так сильно, чтобы зазвенели их кости. Мне хотелось закричать: “Прекратите пить эту диетическую колу! Бегите от этих проклятых колясок! Это не шутки; вы обе всего в пяти или шести фунтах от смерти. А когда вы наконец умрете, всю вашу жизнь можно будет описать тремя словами – “Я умерла худой”.
Но, конечно же, я держал свои эмоции при себе. Это могло привести только к разрыву едва налаженных отношений. Напротив, я сказал Розе:
– Ты знаешь, что благодаря своему разговору с Мартином ты почти выполнила часть сегодняшней установки? Ты сказала, что хочешь, чтобы тебя хоть кто‑то понял, и, кажется, Мартин как раз это и сделал.
Я повернулся к Мартину.
– Что ты чувствуешь?
Мартин только пристально посмотрел на меня. Это, наверное, было его самое оживленное взаимодействие за все эти годы.
– Вспомни, – обратился я к нему, – ты начал встречу, сказав, что не в состоянии принести пользу кому бы то ни было. Я слышал, как Роза сказала, что ты помог ей. Ты это слышал?
Мартин кивнул. Я видел, как блестели его глаза и что он готов был говорить дальше. Тем не менее было достаточно. Даже в этом самом крошечном из вступлений я провел достаточную работу с Мартином и Розой. По крайней мере, мы не разошлись с пустыми руками (признаться, я думал об ординаторах не меньше, чем о пациентах).
Я повернулся к Розе:
– Что ты чувствуешь при словах, которые тебе сегодня говорит Магнолия? Мне кажется, не так‑то легко уехать из Калифорнии, чтобы покушать. Но то, что я видел, – это желание Магнолии помочь тебе.
– Желание? Странно слышать это, – ответила Роза. – Помогать для нее так же естественно, как и дышать. Это чистая душа. Мне хотелось бы взять ее с собой или поехать к ней домой.
– Милая, – Магнолия широко улыбнулась, обнажив зубы, – ты не можешь поехать ко мне домой. Их невозможно выкурить. Они всегда возвращаются. – Очевидно, Магнолия говорила о насекомых из своих галлюцинаций.
– Вам, парни, стоило бы взять на работу Магнолию, – сказала Роза, поворачиваясь ко мне. – Вот кто действительно помогает, и не только мне. Всем. Даже сестры приходят к Магнолии со своими проблемами.
– Дитя, ты делаешь много шума из ничего. Ты очень худенькая и быстро сдашься. Но у тебя большое сердце. Ты всегда готова прийти на выручку. Такой должна быть медицина.
– Такой должна быть медицина, доктор, – повторила Магнолия, глядя на меня. “Вы должны позволить мне помочь людям”.
На несколько мгновений я потерял дар речи. Я был очарован Магнолией – ее мудрыми глазами, приятной улыбкой, ее щедростью. А ее руки – они напоминали мне руки моей мамы, с плотью, каскадом спадающей на локти. Каково это, наверное, когда тебя держат, укачивают в таких мягких шоколадных руках? Я вспомнил все напряжение моей жизни – книги, преподавание, консультирование, пациенты, жена, четверо детей и сейчас смерть мамы. Мне необходимо было расслабиться. Расслабление Магнолии – вот что мне было нужно, ее мягкие, большие руки. В моей памяти всплыли строчки из старой песни Джуди Коллинз: “Слишком много грустных дней… Слишком много плохих дней… Но если бы ты смог собрать все свои горести и отдать их мне… Ты бы избавился от них… Я знаю, как их использовать… Отдай их все мне”.
Я уже давно не вспоминал эту песню. Много лет назад, когда я впервые услышал приятный голос Джуди Коллинз: “Собери все свои горести и отдай их мне…”, глубоко внутри зашевелилось желание. Я хотел добраться до радио, найти эту женщину и отдать ей все мои проблемы и горести.
Роза вывела меня из задумчивости:
– Доктор Ялом, вначале вы спросили, почему окружающие меня здесь люди лучше, чем я. Ну, я думаю, теперь вы понимаете, что я имела в виду. Взгляните, какая особенная Магнолия. И Мартин. Они оба заботятся о других. Люди – мои друзья, мои сестры – всегда говорили, что я эгоистка. И они были правы. Мне не хочется делать ничего для других. Все, чего я хочу, – чтобы люди оставили меня в покое.
Магнолия повернулась ко мне:
– Она ловкая.
“Ловкая” – странное слово. Я ждал, что она скажет дальше.
– Вы бы посмотрели на салфетку, которую она вышила для меня на трудотерапии. Две розы в центре, а вокруг них цветки фиалок, должно быть, штук двадцать вдоль края. А края вышиты нежно‑розовым. Милая, – Магнолия повернулась к Розе, – ты могла бы принести эту салфетку на нашу следующую встречу? А картину, которую ты нарисовала?
Роза покраснела, но кивнула в знак согласия. Время шло. Я вдруг осознал, что группа ничего не предложила Магнолии. Я был слишком очарован ее щедростью и занят воспоминаниями песни: “Ты бы избавился от них… Я знаю, как их использовать…”.
– Знаешь, Магнолия, тебе бы тоже стоило что‑нибудь получить от группы. Ты хотела научиться быть хорошим слушателем, с этого ты начала встречу. И я поражен, действительно поражен, каким хорошим слушателем ты стала. Ты также хороший наблюдатель: посмотри, сколько ты рассказала о салфетке Розы. Поэтому мне кажется, что тебе больше не нужна помощь в том, чтобы стать хорошим слушателем. Чем еще может тебе помочь наша группа?
– Я не знаю, как группа может помочь мне.
– Я слышал много добрых слов о тебе сегодня. Что ты чувствуешь?
– Ну, это хорошо.
– Но, Магнолия, мне кажется, ты все это уже слышала – что люди любят тебя за то, сколько ты им даешь. Сестры сказали, что ты поставила на ноги сына и еще пятнадцать приемных детей и никогда не переставала всем помогать.
– Но только не сейчас. Я ничего уже не могу дать. Я не могу передвигаться на своих ногах, а эти жуки… – Она вдруг задрожала, но не переставала мягко улыбаться. – Я не хочу возвращаться домой.
– Я хочу сказать, Магнолия, что не всегда полезно выслушивать от людей то, что ты уже о себе знаешь. Если ты хочешь помочь себе, мы должны постараться дать тебе что‑нибудь. Может быть, мы поможем тебе узнать о себе больше, узнать о тех вещах, которые ты в себе еще не открыла.
– Я же сказала, я получаю помощь, помогая другим.
– Я это знаю, и это то, что мне в тебе очень нравится. Но пойми: хорошо, когда любой человек полезен окружающим. Возьмем Мартина – подумай, сколько для него значило помочь Розе быть понятой.
– Мартин – это что‑то! Он не может хорошо передвигаться, но у него на плечах светлая, ясная голова.
– Ты помогаешь людям и делаешь это прекрасно. Ты чудо, и я согласен с Розой, что тебе надо работать в больнице. Но, Магнолия, – я сделал паузу, чтобы придать словам большую весомость, – для других было бы полезно, если бы ты позволила им помочь тебе. Когда ты полностью отдаешь себя, ты не позволяешь остальным получить пользу, помогая тебе. Когда Роза предложила поехать жить к тебе, я подумал, как было бы здорово получать от тебя поддержку в любое время. Мне бы тоже хотелось. Но потом, когда я начал больше об этом думать, я осознал, что никогда бы не смог отплатить тебе, помочь тебе, потому что ты никогда не жалуешься; ты никогда не просишь ни о чем. Проще говоря, – я снова приостановился, – я бы никогда не испытал удовольствие, помогая тебе.
– Я никогда не думала об этом, – задумчиво сказала она. Улыбка сошла с ее лица.
– Но это ведь правда? Может быть, нам следует помочь тебе научиться говорить о своих трудностях? Может быть, тебе нужен опыт, когда тебя слушают.
– Моя мама учила меня, что о себе нужно думать в последнюю очередь.
– Я не всегда согласен с матерями. По правде говоря, я обычно с ними не согласен. Но в данном случае, я думаю, твоя мама была права. Так почему бы не попробовать пожаловаться? Скажи нам, что тебя тревожит? Что ты хотела бы изменить?
– У меня не такое хорошее здоровье… все эти штучки, ползающие по моей коже. И эти ноги… Я не могу ходить.
– Вот мы и начали, Магнолия. Я знаю, что это настоящие проблемы твоей жизни. Мне бы хотелось, чтобы группа помогла тебе, но она не сможет. Попробуй поделиться с нами трудностями, в которых мы могли бы тебе помочь.
– Я волнуюсь из‑за своего дома. Он противный. Они не могут, а может быть, просто не хотят обкуривать его. Я не хочу возвращаться туда.
– Я знаю, что ты волнуешься из‑за своего дома, ног, кожи. Но это не ты. Это все про тебя, а не ты настоящая. Посмотри в глубь себя. Что ты хочешь изменить там?
– Ну, я не совсем довольна своей жизнью. У меня есть о чем сожалеть. Это то, о чем вы говорили, Доктор?
– Как раз то, – энергично поддержал я. Она продолжала:
– Я разочаровалась в себе. Я всегда хотела быть учителем. Это была моя мечта. Но я так им и не стала. Иногда я задумываюсь и понимаю, что ничего не достигла.
– Магнолия, – взмолилась Роза, – подумай, сколько ты сделала для Дарнела и для приемных детей. И это ты называешь ничего?
– Иногда кажется, что ничего. Дарнел похож на отца, он достигнет многого.
Тут снова вмешалась Роза. Она говорила со мной так, будто я был судьей, а она – адвокатом, представляющим дело Магнолии.
– У нее не было даже возможности учиться, доктор Ялом. Когда она была подростком, ее отец умер, а мать просто исчезла на пятнадцать лет.
Внезапно вступила Кэрол, также обращаясь ко мне:
– Ей пришлось почти в одиночку воспитывать семь сестер и братьев.
– Не одной. Мне помогали – пастор, церковь, многие люди.
Не обращая внимания на реплику Магнолии, Роза продолжала:
– Я встретила Магнолию в больнице около года назад. Потом, когда нас выписали, я взяла ее, усадила в машину, и мы катались весь день. Мы проехали через Пало Альто, Стэнфорд, Менло Парк, потом наверх, в горы. Магнолия устроила мне экскурсию. Она все мне показывала и обо всем рассказывала, и не только то, что важно сейчас, но и то, что происходило тридцать‑сорок лет назад. Это была самая лучшая поездка за всю мою жизнь.
– Что ты ощущаешь, когда Роза рассказывает об этом, Магнолия?
Магнолия смягчилась:
– Это очень хорошо. Эта крошка знает, что я люблю ее.
– Похоже, Магнолия, – сказал я, – ты, несмотря ни на что, стала учителем. Хорошим учителем!
Теперь дело потихоньку стало налаживаться. Я гордо посмотрел на психиатров. Мои последние слова – великолепный пример рефреминга – были блестящей находкой. Надеюсь, они их слышали.
Магнолия точно слышала. Она была тронута до глубины души, и слезы катились у нее из глаз. Мы почтительно молчали. Но фраза Магнолии вывела меня из оцепенения. Очевидно, я плохо слушал ее.
– Да, конечно, вы правы, доктор, – сказала она. – Вы правы и не правы. У меня была мечта. Я хотела стать настоящим учителем, получать зарплату, какую получают белые учителя, иметь настоящих учеников, чтобы они звали меня “миссис Клэй”. Вот что я хотела!
– Но, Магнолия, – продолжала настаивать Роза, – подумай о том, что ты сделала, подумай о Дарнеле и тех пятнадцати детях, которые называют тебя мамой.
– Это не то, о чем я мечтала, – сказала Магнолия резко и властно. – У меня тоже были мечты, как и у белых. Черные имеют право на мечты! Меня разочаровало мое замужество. Мне хотелось, чтобы оно продлилось всю жизнь, а оно продлилось всего четырнадцать месяцев. Я оказалась в дураках; мне попался не тот мужчина. Он любил свой джин намного сильнее меня. Бог мне свидетель, – она продолжала, повернувшись ко мне, – я никогда прежде, до этой встречи, не говорила о своем муже ни единого плохого слова. Я не хочу, чтобы Дарнел слышал гадости о своем отце. Но, доктор, вы правы. Правы. У меня есть жалобы. Есть много вещей, которые я хотела получить, но никогда не получила. Моя мечта никогда не исполнилась. Есть от чего чувствовать горечь.
Она тихо рыдала, и слезы катились по ее щекам. Вдруг она отвернулась от группы, уставилась в окно и начала щипать кожу, сначала мягко, а затем все сильней и сильней.
– Горечь, горечь, – повторяла она.
Я растерялся. Так же, как и Роза, я встревожился. Я хотел, чтобы вернулась прежняя Магнолия. Ее движения беспокоили меня. Может быть, она старалась избавиться от насекомых? У меня было желание схватить ее руки и держать, пока она не расцарапала себя.
Наконец после долгой паузы она произнесла:
– Есть еще и другие вещи, но они очень личные.
Магнолия разошлась. Я знал, что малейший толчок – и она все рассказала бы. Но мы зашли уже далеко, слишком далеко. Обезумевшие глаза Розы говорили: “Пожалуйста, не надо больше! Остановите это!” Для меня этого тоже было достаточно. Я обнаружил секретную дверь, но впервые не заглянул внутрь.
Через две или три минуты Магнолия перестала чесаться и рыдать. Постепенно вернулась ее улыбка, и голос снова стал мягким.
– Я понимаю, что у господа есть свои причины каждому из нас давать свое бремя. Но не будет ли справедливо выяснить эти причины?
Группа молчала. Немного обеспокоенные, все они – за исключением Дороти – смотрели в окно. Это, продолжал говорить я себе, и есть результативная терапия: Магнолия столкнулась с некоторыми из своих демонов и теперь, казалось, проделывала некоторую психотерапевтическую работу.
Я был уверен, что оскорбил ее. Наверное, все остальные чувствовали то же, хотя и молчали. Молчание становилось все тягостнее. Я ловил на себе пристальные взгляды участников и старался без слов убедить их заговорить. Наверное, я видел в Магнолии слишком много от вселенской матери. Возможно, только я лишился иконы. Изо всех сил я старался сказать что‑то, что разрядило бы атмосферу и могло бы стать полезным группе. Но ничего не происходило. Мой разум молчал. Признавая себя проигравшим, я хмуро произнес фразу, которую произносил бесчисленное количество раз на бесчисленных групповых встречах:
– Магнолия много рассказала. Какие чувства вызвали у вас ее слова?
Я терпеть не мог говорить это, ненавидел заурядность этих слов, их банальность. Стыдясь себя, я упал на стул. Я заранее знал ответы членов группы и угрюмо ожидал их обычных комментариев:
– Вот теперь я по‑настоящему знаю тебя, Магнолия.
– Мне кажется, теперь мы стали ближе.
– Теперь я вижу в тебе личность. Даже один из ординаторов, выйдя из роли молчаливого наблюдателя, добавил:
– Магнолия, мне тоже кажется, что теперь я увидел в тебе цельную личность, того, с кем хочется иметь дело.
Наше время вышло. Мне нужно было как‑нибудь подвести итог нашей встречи и высказать очевидную и обязательную интерпретацию:
– Знаешь, Магнолия, это была короткая, но очень богатая встреча. Я уверен, что мы начали работать с твоим неумением жаловаться, скорее с чувством, что у тебя нет права жаловаться. Твоя работа сегодня не была приятной, но это было началом настоящего прогресса. Вопрос в том, что внутри тебя очень много боли, и, если ты научишься говорить о ней напрямую, как ты сделала сегодня, тебе не придется говорить о ней косвенно ‑ например, через проблемы, связанные с домом, или с твоими ногами, а может быть, даже с насекомыми на твоей коже.
Магнолия ничего не ответила. Она лишь пристально посмотрела на меня, а в глазах у нее стояли слезы.
– Ты понимаешь меня. Магнолия?
– Конечно, понимаю, доктор, Я хорошо понимаю. – Она вытерла глаза тоненьким носовым платком. – Прошу прощения, что плакала так много. Я не сказала вам сразу, но завтра день смерти моей мамы. Завтра годовщина.
– Я понимаю твои чувства. Я потерял свою маму месяц назад.
Я удивил сам себя. Обычно я не стал бы разговаривать так откровенно с пациентом, которого только что узнал. Наверное, я хотел дать ей что‑то. Но Магнолия не оценила мой дар. Группа начала расходиться. Открыли двери. Вошли медсестры, чтобы помочь пациентам выйти. Я наблюдал, как Магнолия продолжала царапать себя, пока выезжала из комнаты.
Мне понравилось обсуждение после групповой встречи и то, какой урожай собрали мои подопечные. Они были полны благодарности. Кроме того, их в достаточной мере поразило зрелище возникновения чего‑то из ничего. Несмотря на скудный материал и слабую мотивацию пациентов, группа достигла достаточного взаимодействия, особенно в конце встречи: участники, которые не замечали существования других пациентов в больнице, заинтересовались окружающими и стали беспокоиться о них. Стажеров также восхитила моя заключительная установка для Магнолии, что, если она хотела прямо попросить о помощи, ей стоило отказаться от своих симптомов, от символической просьбы помочь.
– Как вам это удалось? – удивлялись они. – В начале встречи Магнолия казалась такой непробиваемой.
– Было очень трудно, – объяснил я им. – Найдите верный ключ и вы откроете дверь к любому страданию. Для Магнолии этим ключом являлась одна из ее глубинных ценностей – помощь людям. Убедив ее, что она может помочь другим, позволив им помочь ей, я быстро сломил ее сопротивление.
Пока мы разговаривали, Сара, старшая медсестра, заглянула в дверь, чтобы поблагодарить меня за работу.
– Вы снова совершили волшебство, Ирв. Давайте я вас обрадую. Перед тем как соберетесь уходить, взгляните на пациентов, они сейчас завтракают и все сидят близко друг к другу. Что вы сделали с Дороти? Вы можете себе представить, она, Мартин и Роза разговаривают между собой!
Пока я ехал обратно в офис, слова Сары звенели у меня в ушах. Я знал, что у меня были все причины радоваться утренней работе. Ординаторы были правы: это была хорошая встреча – одна из превосходных, – и не только потому, что убедила пациентов улучшить взаимоотношения в своей жизни, но и заинтересовала терапевтической программой.
Но что важнее всего, я показал им, что не бывает скучных или пустых пациентов или группы. Внутри каждого пациента, как и внутри каждой клинической ситуации, заложена большая человеческая драма. И психотерапия направлена на то, чтобы активизировать эту драму.
Но почему же такая прекрасная работа дала мне так мало профессионального удовлетворения? Я чувствовал вину – как будто я совершил мошенничество. Похвала, так часто преследовавшая меня, была в тот день не оправданна. Студенты (тайно подстрекаемые мною) наполнились необыкновенной мудростью. В их глазах, я предложил “могучую” установку, сработало “чудо”, я вел группу, умело используя предвидение. Но я знал правду: во время сессии я постоянно импровизировал. И студенты, и пациенты увидели меня ненастоящего, больше, чем я был на самом деле, чем я мог быть. И в этом отношении у нас с Магнолией было много общего.
Я напоминал себе, что малое – прекрасно. Моей задачей было провести единичную встречу и постараться сделать ее полезной для максимально большего количества участников. Разве я не сделал этого? Я прокрутил нашу сессию с самого начала, с момента обозначения перспективы каждого члена группы.
Мартин и Роза? Несомненно, хорошая работа. В них я был уверен. Их установки на встречу в определенной мере были выполнены; деморализация Мартина, его уверенность в никчемности, были успешно опровергнуты, как и уверенность Розы в непонимании окружающих и в их желании манипулировать ею.
Дороти и Кэрол? Хотя и неактивные, но тоже поучаствовали в процессе. Вероятно, они получили пользу от терапии наблюдения: наблюдение того, как кто‑то успешно участвует в терапии, обычно приводит пациентов к результативной работе в будущем.
Магнолия? Это и был камень преткновения. Помог ли я ей? Доступна ли она была для помощи? Из краткого рассказа старшей медсестры я узнал, что она не реагировала на многочисленные психотерапевтические медитации и любые усилия других людей, включая ее социального работника, работавшего с ней в течение нескольких лет. Так почему же я решил попробовать?
Помог ли я ей? В этом я сильно сомневался. И хотя студенты сочли мою заключительную интерпретацию “значительной” и на самом деле я сказал то, что чувствовал, в глубине сердца я знал, что это был обман: моя установка не несла ничего полезного для Магнолии. Ее симптомы – необъяснимый паралич ног, галлюцинации с ползающими по ее коже насекомыми, ее уверенность, что за пребыванием насекомых в ее доме скрывался какой‑то заговор, – находились за пределами психотерапии. Скорее всего, даже при благоприятных обстоятельствах, таких, как неограниченное время и опытный психотерапевт, – психотерапия смогла бы предложить Магнолии очень мало. В данном же случае не было ни одной удобной возможности: у нее не было денег, не было страховки, ее могли беспрепятственно выписать в дешевую лечебницу без дальнейшей психотерапии. Объяснение, что моя установка могла бы привести Магнолию к успехам в дальнейшей работе, была чистой иллюзией.
А моя интерпретация? В чем она была значительной? Значительность была лишь призраком; в реальности моя речь была направлена не на силы, сковавшие Магнолию, а на присутствовавших студентов. Она же стала жертвой моего тщеславия.
Теперь я был ближе к истине. Беспокойство не пропало. Я вновь вернулся к вопросу о том, почему моя оценка была такой скудной. Я нарушил правило психотерапии: не снимать защиту пациента, если в его случае нечего предложить. Какая сила стояла за моими действиями? Почему Магнолия стала значить для меня так много?
Причина, я полагаю, в смерти моей мамы. Я снова вспомнил занятие. В какой момент оно затронуло меня так глубоко? Первое появление Магнолии: эта улыбка, эти руки. Руки моей мамы. Как они укачивали меня! Как мне хотелось оказаться в объятиях этих мягких рук. И эта песня, песня Джуди Коллинз, – как же там было? Я пытался вспомнить слова.
Но вместо слов в памяти возникли образы из одного давно забытого вечера. В субботние вечера, когда мне было лет восемь или девять и я жил в Вашингтоне, мы с моим другом Роджером ездили на велосипедах в парк на пикник. И вот однажды, вместо того чтобы поджарить себе колбаски, мы решили украсть в доме около парка живого цыпленка и приготовить его на костре, разведенном в лесу.
Но сначала его нужно было убить – пройти посвящение в обряд смерти. Роджер взял на себя инициативу и ударил предназначенного в жертву цыпленка об огромный камень. Разбитый и весь в крови, он продолжал бороться за жизнь. Я был в ужасе. Я отвернулся, чтобы не видеть его мучения. Дело зашло слишком далеко. Мне захотелось вернуть все обратно. И именно там и тогда я расхотел становиться взрослым. Я хотел скорее вернуться к маме, хотел чтобы она обняла меня. Мне хотелось заново начать весь день, повернуть время вспять. Но это было невозможно и не оставалось ничего, кроме как смотреть на Роджера, добивающего цыпленка. Мы должны были сначала ощипать его, очистить, нанизать на вертел. Мы должны были зажарить его и съесть. Наверное, даже с удовольствием. Всю эту чудовищную катастрофу я помню на протяжении многих лет, но события, произошедшие потом, напрочь стерлись из памяти.
Воспоминания того вечера не давали мне покоя, пока я не задал себе вопрос: почему эта история всплыла именно сейчас, после долгих лет забвения? Что связывало больничную комнату для групповых занятий, заполненную инвалидными колясками, с костром в парке? Наверное, мысль о том, что все зашло слишком далеко‑в данном случае с Магнолией. А может быть, предчувствие необратимости времени. Может быть, горе, тоска по маме, которая всегда защищала от жестокой реальности жизни и смерти.
Хотя вкус, оставшийся после группового занятия все еще был горьким, я был близок к его источнику. Несомненно, это было вызвано огромной жаждой материнского тепла, усиленной смертью мамы, которая отождествлялась большей частью с образом Магнолии как вселенской матери. Без сомнения я сорвал этот образ, лишил ее силы в надежде расстаться с тоской по матери. Эта песня – песнь вселенской матери – я начал вспоминать слова: “Собери все свои страдания и отдай их мне. Избавься от них… Я найду, что с ними сделать”. Дурацкие слова. Я помнил только аккуратное, теплое место, куда они однажды привели меня. Эти слова больше не работали. Закрывая глаза, я стараюсь восстановить альтернативный образ, пытаясь переключить мой мозг обратно на то место, но все оказывается тщетно.
Мог бы я справиться без этой иллюзии? Всю свою жизнь я искал успокоение у многочисленных вселенских матерей. И теперь все они предстали передо мной: моя умершая мать, от которой я всегда чего‑то хотел – сам не зная чего, – даже когда она испускала последний вздох; огромное количество чернокожих домохозяек, воспитывавших меня в младенчестве и детстве, чьи имена давно уже вылетели из головы; моя сестра, постоянно предлагавшая мне остатки со своей тарелки; учительницы, выделявшие меня похвалой; старый психоаналитик, тихо сидевшая около меня целых три года.
Теперь мне стало ясно, как все эти чувства – назовем их “подавляемыми эмоциями” – не позволили оказать Магнолии неконфликтную терапевтическую помощь. Если бы я только позволил ей установить малые цели, я бы не осуждал себя за использование своего пациента в своих интересах. Произошло так, что я изменил ее защитную систему и теперь осуждал себя за принесение ее в жертву целям учебного показа. Что я не смог или просто не сделал – так это собраться с силами и реально встретиться с Магнолией – с Магнолией, человеком из плоти и крови, а не образом, придуманным мною.
На следующий после занятия день Магнолию выписали. Мне посчастливилось увидеть ее в больничном коридоре около окна, ожидающую лекарств. На ней были ее тонкая ажурная шляпка и вышитый платок (подарок Розы), закрывающий ее ноги в инвалидной коляске. Она выглядела обычно – усталая, потрепанная, неразличимая в толпе страждущих. Я кивнул ей, но она не заметила меня, и я продолжил свою дорогу. Вдруг я передумал и обернулся, чтобы увидеть ее. Все еще стоя у окна, она укладывала свою карту в старенькую сумку, лежащую на коленях. Я смотрел, как она выезжала из дверей больницы, но вдруг она остановилась, сняла очки и изящно смахнула слезы, текущие по щекам. Я подошел к ней.
– Магнолия, здравствуй. Помнишь меня?
– Ваш голос звучит очень знакомо, – ответила она, надевая очки. – Подождите, я надену очки и посмотрю на вас. – Она пристально меня разглядывала, моргнув два или три раза, а затем на ее лице появилась теплая улыбка. – Доктор Ялом, конечно, я вас помню. Как мило, что вы подошли. Я ждала вас, мне нужно было поговорить с вами с глазу на глаз. – Она указала на стул в конце коридора. – Там есть где посидеть. Я‑то свое место всегда ношу с собой. Прокатите меня?
Когда мы подъехали и я сел, Магнолия сказала:
– Я не могу остановиться и весь день плачу, так что вам придется привыкнуть к моим слезам.
Стараясь заглушить нарастающий страх, что сессия все же стала деструктивной, я мягко сказал:
– Магнолия, наверное, ваши слезы связаны с нашей вчерашней встречей?
– Встречей? – переспросила она недоверчиво. – Доктор Ялом, вы не можете забыть о том, что я сказала вам в конце встречи? Сегодня день смерти моей мамы – ровно год назад.
– Ах, да, конечно. Извини, я несколько рассеян. Слишком много происходит в моей собственной жизни, Магнолия. – Извинившись, я быстро перешел к профессиональным вопросам. – Тебе плохо без нее, правда?
– Да, очень. А вы помните, Роза сказала вам, что моя мама исчезла, когда я была еще ребенком, – она просто однажды появилась через пятнадцать лет.
– А потом, когда она вернулась, она заботилась о тебе? Она дала тебе материнскую заботу?
– Мама мамы. Я получила от них немного. Но знаете, мама нечасто обо мне заботилась, она умерла в девяносто лет. Но это было не то. Я не знаю… представьте, она значила для меня то, в чем я всегда нуждалась. Вы понимаете, о чем я говорю?
– Я прекрасно знаю, о чем ты говоришь, Магнолия. Правда.
– Не мне говорить, доктор, но, кажется, мы похожи – вы тоже остались без мамы. Докторам тоже нужны мамы, как и их мамам нужны мамы.
– Ты права, Магнолия. У тебя хорошая интуиция, как сказала Роза. Но ты сказала, что хотела поговорить со мной?
– Да, о том, что вы потеряли маму. Это одно. А еще об этом групповом занятии. Я просто хотела поблагодарить вас – вот и все. Я многое поняла после нашей встречи.
– Можешь рассказать, что ты получила от нее?
– Я узнала что‑то очень важное. Я узнала, что я сделала со своими приемными детьми. То, что я сделала, – навсегда… – Ее голос затих, она смотрела в сторону, куда‑то в пространство.
Важное? Навсегда? Ее неожиданные слова заинтриговали меня. Мне хотелось продолжать разговор, и я очень расстроился, услышав ее слова:
– Смотрите, за мной приехала Клаудия.
Клаудия вывезла ее из дверей больницы к фургону, который должен был доставить Магнолию в дом престарелых, куда ее выписали. Я проводил ее до дверей и наблюдал, как ее поднимали на кресле, чтобы посадить в фургон.
– Прощайте, доктор Ялом, – сказала она, помахав рукой. – Берегите себя.
Странно, размышлял я, наблюдая, как отъезжает фургон, я, который всю жизнь посвятил предугадыванию мира других, никогда, пока не встретил Магнолию, не понимал, что те, кого мы превращаем в миф, сами находятся в его власти. Они впадают в отчаяние, они оплакивают смерть своих матерей, они жаждут восторгов, они злятся на судьбу и готовы искалечить свою жизнь, жертвуя собой ради других.
Глава 4. Семь уроков терапии печали.
Несколько лет назад мой старинный приятель Эрл позвонил мне и рассказал, что его близкому другу Джеку поставили диагноз злокачественной неоперабельной опухоли мозга. Я не успел выразить своего сочувствия, как он продолжил: “Знаешь, Ирв, я звоню не по его поводу, а по поводу кое‑кого другого – человека очень для меня значимого. Ты мог бы поработать с его женой, Ирен? У Джека будет страшная смерть – наверное, самая тяжелая смерть, какую только можно представить. Не помогает даже то, что Ирен хирург: она знает слишком много, и мне будет нестерпимо больно за нее, беспомощно наблюдающую, как рак поедает его мозг. А затем она останется одна с маленькой дочкой и практикой. Это будет ее ночным кошмаром”.
Выслушав просьбу Эрла, я захотел ему помочь. Я хотел сделать все, о чем он просил. Но были определенные проблемы. Хорошая терапия предполагает четкие границы, а я знал и Джека, и Ирен. Правда, не так хорошо, но мы встречались на нескольких вечеринках в доме Эрла. Несколько раз мы играли с Джеком в теннис.
Все это я рассказал Эрлу и предложил:
– Работать с кем‑то из знакомых – занятие, никогда не приносящее хорошего результата. Лучший способ помочь вам – найти хорошего терапевта, который незнаком с этой семьей.
– Я знал, что ты так скажешь, – ответил он. – Я готовил Ирен к такому ответу. Я прорабатывал его много раз, но она ни с кем больше не желает общаться. Она достаточно решительна, и хотя к психотерапии в целом относится не совсем уважительно, она говорит только о тебе. Она говорит, что следила за твоей работой, и настаивает, уж бог знает почему, что ты единственный психотерапевт, который ей подходит.
– Утро вечера мудренее. Я перезвоню тебе завтра утром.
Что же делать? С одной стороны, долг дружбы обязывал помочь: мы с Эрлом никогда ни в чем не отказывали друг другу. Однако меня беспокоило размывание границ. С Эрлом и его женой, Эмили, мы были в доверительных отношениях. Но Эмили была близкой подругой Ирен. Я мог себе представить их разговор один на один обо мне. Без сомнения, то был отзвук тревожных звоночков. Я приглушил их звук. Ведь я могу взять с них обеих – и с Ирен, и с Эмили – обещание обходить при обсуждении тему терапии. Но если, на ее взгляд, я был настолько подходящим, наверное, можно за это взяться.
Повесив трубку, я удивился, почему я так усиленно игнорировал тревожные сигналы. Я осознавал, что просьба Эрла была просто роковым стечением обстоятельств. Мой коллега и я три года назад закончили эмпирическое исследование супружеских утрат, изучив восемьдесят мужчин и женщин, которые не так давно стали вдовами и вдовцами. Мы опрашивали их через определенные промежутки и непродолжительное время занимались с ними в группах по восемь человек. Мы наблюдали за ними в течение года, собирая информацию и публикуя ее в нескольких профессиональных журналах. Я убедился, что немногие люди знали об этой проблеме больше, чем я. Как же я мог, будучи сознательным человеком, отказать Ирен?
Кроме того, она высказала могущественное признание – я был единственным подходящим человеком, способным ей помочь. Отличная игра на моем тщеславии.
Урок первый: Первый сон.
Спустя несколько дней состоялась наша первая с Ирен сессия. Первым делом следует признать, что она оказалась самой интересной, умной, упрямой, вспыльчивой, чувствительной, властной, изящной, трудолюбивой, изобретательной, непреклонной, отважной, привлекательной, гордой, холодной, романтической и приводящей в бешенство женщиной, какую я когда‑либо знал.
Во второй половине первой сессии она описала мне сон, который видела предыдущей ночью: “Я работаю хирургом, и одновременно я выпускница университета факультета филологии. Мне необходимо подготовить два различных текста, современный и древний, с одинаковыми названиями. Но я не готова к семинару, потому что не читала ни один из этих текстов. Что важно, я не читала старинный текст, первый, который должен был подготовить меня ко второму тексту”.
– Что ты еще помнишь, Ирен? – спросил я, когда она закончила. – Ты сказала, что у них было одинаковое название. Ты его помнишь?
– Да, конечно. Я точно его помню. И старая книга, и новая назывались “Смерть невинности”.
Слушая Ирен, я погрузился в мечтательность. Этот сон был чистым золотом, интеллектуальной амброзией – подарком богов. Награда терапевту за терпеливость, расплата за бесконечные, утомительные терапевтические наблюдения, проводимые со сдержанностью бывалого сапера.
Этот сон заставил бы даже самого раздражительного и сварливого терапевта замурлыкать от удовольствия. Я тоже начал мурлыкать. Два текста – старинный и современный. Мур‑мур. Старинный помогал понять современный. Мур‑мур. А название – “Смерть невинности”. Мур‑мур‑мур.
Сон Ирен предполагал быть не только интеллектуальной добычей высшего порядка, но он был к тому же первым. Начиная с 1911 года, когда Фрейд впервые описал это, первый сон, о котором пациент рассказывает психотерапевту, окружает мистический ореол. Фрейд верил, что рассказ о первом сне бесхитростен, потому что начинающий пациент еще наивен и беззащитен. Позже, если терапевт явно преуспевает в интерпретации снов, навеватель снов, живущий в бессознательном каждого, настораживается, начинает бить тревогу, а затем производит более сложные и запутанные сны.
Вслед за Фрейдом я считал навевателя снов пухлым, жизнерадостным человечком, безмятежно живущим в чаще дендритов и аксонов [4]. Днем он спит, а ночью, откинувшись на подушки из жужжащих синапсов и попивая сладкий нектар, лениво выстраивает сны в определенной последовательности для своего хозяина. В ночь перед первым визитом к терапевту хозяин укладывается спать, полный противоречивых мыслей о предстоящей терапии. Человечек, как всегда, выходит на ночную работу, беспечно переплетая все страхи и ожидания в простой, прозрачный сон. Потом, в большой тревоге, он понимает, что психотерапевт ловко провел его. И с этого времени он очень тщательно прячет значение сна все глубже и глубже от терапевта, который быстро расшифровал его сон.
Глупая сказка! Типичный антропоморфизм девятнадцатого века. Распространенная ошибка конкретизации абстрактных психических структур в независимых, свободных эльфов. Если бы только я не верил в это!
Десятилетиями многие считали первый сон бесценным документом, отражающим перевод на язык снов общего содержания невроза. Фрейд пошел еще дальше, предположив, что полная интерпретация первичного сна могла бы совпадать с полным анализом.
Мой собственный первый сон запомнился мне во всех подробностях и ощущениях того дня – сорок лет назад – вскоре после начала психиатрической ординатуры.
Я лежу на операционном столе. Простыня слишком маленькая, чтобы полностью накрыть меня. Я вижу, как сестра вводит иглу мне в ногу – в голень. И внезапно врывается булькающий звук – ВУУУУШ.
Центральный сюжет сна – громкий звук – я слышал отчетливо. Ребенком я страдал от хронического синусита, и каждую зиму моя мама возила меня к доктору Дэвису на промывания. Я ненавидел его желтые зубы и рыбьи глаза, которые пялились на меня через отверстие в круглом зеркальце на повязке вокруг головы, которое обычно используют отоларингологи. Пока он вставлял трубку в пазуховый канал, я чувствовал острую боль, потом слышал оглушительный вууууш – это вводимый соляной раствор вымывал гной. Глядя на дрожащую, омерзительную смесь в полукруглом хромированном дренажном лотке, я думал, что вместе с гноем и слизью частично вымывались мои мозги.
В соответствии с предположениями Фрейда, мой сон означал годы аналитической работы: мои страхи разоблачения, потери разума, промывания мозгов, страдания от тягчайшей телесной травмы (выкачивания) длинной, твердой части тела (запечатленной как кость голени).
Фрейд и последующие аналитики предостерегали от слишком быстрого погружения в значение первого сна, чтобы ранняя интерпретация бессознательного материала не сокрушила пациента и не демобилизовала его навевателя снов полностью. Эти предостережения, казалось мне, были больше направлены не на повышение эффективности терапии, а на защиту узкого эгоизма аналитической дисциплины, и я им всегда сопротивлялся.
С 1940‑х по 1960‑е в науке царствовал подход, сравнимый с хождением по яичной скорлупе. Вмешательство было темой бесконечных нудных дебатов внутри аналитических институтов. Задавленные пропагандой обязательности тонко рассчитанных и сформулированных интерпретаций, новички, переполненные ужасом и страхом, затаив дыхание, на цыпочках продвигались в терапии, чураясь даже намека на спонтанность и лишаясь эффективности. Я обнаружил, что такой формализм антипродуктивен, так как мешал более значимой цели создания подлинно сочувственного отношения к пациенту. По‑моему, предостережение Фрейда не работать со снами, пока не установится довольно прочный терапевтический союз, кажется странно перевернутым: совместная работа над снами как раз и есть наилучший путь к возведению союза между терапевтом и пациентом.
Исходя из всего этого, я погрузился прямо в сон Ирен.
– Итак, ты не прочитала ни одного текста, – начал я, – а самое главное ‑ старинный.
– Да, да, я ожидала, что ты спросишь меня об этом. Конечно, это не имеет смысла, я знаю. Но именно так было во сне. Я не прочитала задания, я также не прочитала тексты, но самое главное – старинный текст.
– Тот, который готовил тебя к прочтению современного текста. У тебя есть какие‑нибудь догадки, что могут означать эти два текста в твоей жизни?
– Едва ли это догадка, – ответила Ирен, – я точно знаю их значение.
Я ждал, что она продолжит, но она просто сидела в тишине, глядя в окно. Я еще не знал об этой раздражающей черте ее характера – не проявлять желания продолжать до тех пор, пока я ясно не попрошу ее об этом.
С досадой я подождал минуту или две, а затем все‑таки сказал:
– Следовательно, значение двух текстов…
– Смерть моего брата, когда мне было двадцать, – старинный текст. Будущая смерть моего мужа – современный текст.
– Значит, сон передает нам, что ты не сможешь примириться со смертью твоего мужа, пока не примиришься со смертью брата.
– Ты понял это. Точно.
Обсуждение первого сна предвосхищало не только содержание терапии, но и ее процесс, природу взаимоотношений психотерапевт – пациент. С одной стороны, Ирен была всегда очень вдумчива. Задавая вопрос, я всегда получал самобытный и всесторонний ответ. Знала ли она названия двух текстов? Безусловно, знала. Догадывалась ли она, почему необходимо было прочитать сначала старинный текст, чтобы понять современный? Конечно, она точно знала, что это значило. Я получал, наверное, впервые за пять лет терапии такой богатый урожай ответов даже на банальные вопросы: “О чем ты сейчас думаешь, Ирен?” Но ее ответы расстраивали меня: они были слишком быстрые и точные. Она напоминала мне мою учительницу пятого класса, которая обычно говорила: “Поторапливайся, Ирв!”, нетерпеливо топталась на месте, ожидая, когда же я наконец перестану мечтать и присоединюсь к классу.
Я вышвырнул мисс Фернанд из своих мыслей и продолжал:
– Что значит для тебя название “Смерть невинности”?
– Представь, что для меня, двадцатилетней, значил мой брат. Я мечтала, как мы будем идти по жизни вместе, но автомобильная авария отобрала его у меня. Потом я нашла Джека. И представь, что значит сейчас, в сорок пять, потерять его. Только вообрази, моим родителям семьдесят, и они живы, а мой брат умер, и мой муж при смерти. Что‑то не так со временем. Умирают молодые.
Ирен рассказала мне о прекрасных отношениях между ней и ее братом Аленом, который был старше ее на два года. Пока она росла, он всегда был ее защитником, ее доверенным лицом, наставником, словом, таким братом, о котором мечтает каждая девочка. Но потом в один момент его жизнь была перечеркнута на улице Бостона. Она рассказала, как ей позвонили из полиции, в маленький дом, который она снимала вместе с однокурсницами. Каждая деталь того дня врезалась в ее память навсегда.
– Я помню все: звонок телефона внизу, мой халат с рядами розовых и белых кисточек, шлепанье моих тапочек по лестнице, когда я спускалась в комнатку около кухни, где на стене висел телефон, деревянную трубку у меня в руке. Я еще подумала, что эту трубку уже отполировали выпускники Гарварда и Рэдклифа, жившие здесь до меня. Потом этот мужской голос, этот незнакомец, старающийся как можно мягче сказать о том, что мой брат мертв. Я просидела несколько часов, уставившись в перекошенное окно. Я даже сейчас вижу радужные снежинки за окном.
Бесчисленное количество раз за время терапии нам пришлось вернуться к двум текстам и значению “Смерти невинности”. Потеря брата оставила след в ее жизни. Его смерть навсегда взорвала ее невинность. Ушли все мифы детства: справедливость, предсказуемость, доброжелательное божество, естественный порядок вещей, безопасность дома. Одна, не защищенная от прихотей судьбы, Ирен боролась именно за достижение чувства защищенности. Ален должен был выжить, верила она, если бы ему сразу оказали правильную медицинскую помощь. Ее заманила медицина – она предлагала единственный способ борьбы со смертью. На похоронах Алена она решила поступить в медицинскую школу и стать хирургом.
Другим решением, принятым ею в связи с воспоминаниями о смерти Алена, были многочисленные значения для нашей терапевтической работы.
– Я вычислила путь избежать любой боли: я никогда больше не переживу такой боли, если не будет никого столь значимого для меня.
– Как это решение отразилось на твоей жизни?
– В течение следующих десяти лет я не предпринимала никаких попыток полюбить, не давала себе ни одного шанса. Я знала многих мужчин, но быстро с ними расставалась – до того, как отношения станут серьезными и у меня появятся чувства.
– Потом что‑то изменилось. Ты вышла замуж. Как это случилось?
– Я знала Джека с четвертого класса и уж не знаю почему, но была уверена, что он тот единственный. Даже когда он вдруг исчез из моей жизни и женился, я твердо знала, что когда‑нибудь он вернется. Мой брат знал и уважал его. Можно сказать, мой брат благословил Джека.
– Значит, выйти замуж тебя убедило одобрение Джека твоим братом?
– Это было не так просто. Потребовалось много, много времени. Я отказывалась выйти за него замуж, пока он не пообещал мне не умирать молодым.
Я оценил ее иронию и взглянул на нее с ухмылкой, надеясь получить в ответ улыбку. Но не было никакой улыбки, и Ирен не говорила с иронией; она была предельно серьезна.
Этот сценарий появлялся снова и снова в течение всей нашей работы. Безусловно, причина давала о себе знать. Я частенько забрасывал приманку: я сопоставлял ее нелогичность; спорил; обращался к ее причинам; пытался пробудить ее остро отточенный ум. Потом я просто ждал. Но во всех случаях результат был один и тот же: она никогда не попадалась на крючок; она ни разу не оставила своих позиций. А я так и не смог привыкнуть к ее двойственной натуре, к ее удивительной ясности, скрытой за нелепой абсурдностью.
Урок второй: стена из тел.
Если первый сон Ирен предвосхищал развитие наших дальнейших отношений, то сон, о котором она рассказала на втором году психотерапии, был точно противоположен – луч, направленный назад, освещающий путь, пройденный нами за это время.
Я в этом кабинете, сижу на этом стуле. Посередине комнаты, прямо между нами, находится очень странная стена. Я не вижу тебя. Поначалу я и стену не вижу отчетливо; она вся с множеством щелей и выпуклостей. Я вижу небольшой кусок красной ткани на стене; потом я узнаю руку, затем ступню и колено. И теперь я точно знаю, что это – это стена из тел, сложенных одно на другое.
– Что ты чувствуешь во сне, Ирен? – Это мой традиционный первый вопрос. Чувство во сне обычно ведет в самый центр его значения.
– Ощущение неприятное, ужасное. Но самое сильное чувство было вначале, когда я увидела стену и ощутила себя потерянной. Одна – потерянная – в ужасе.
– Расскажи мне о стене.
– Когда я сейчас описывала ее, это звучало отвратительно – как груда тел в Освенциме. Кусок красной ткани – я знаю, что означает этот паттерн, Джек был в такой пижаме в ночь перед смертью. Но все же стена не так ужасна – в ней есть что‑то, что я пытаюсь обнаружить и изучить. Наверное, она даже смягчила некоторые из моих страхов.
– Стена из тел между нами – что это значит?
– Никакого секрета, никакой тайны во всем сне. Здесь то, что я все это время чувствовала. Сон говорит о том, что ты не можешь по‑настоящему видеть меня из‑за этих мертвых тел, из‑за этих смертей. Ты не можешь себе этого представить. С тобой ничего такого не происходило! В твоей жизни не было трагедий.
В жизни Ирен потери шли одна за другой. Сначала ее брат. Затем муж, умерший в конце первого года терапии. Несколькими месяцами позже ее отцу поставили диагноз – рак простаты, вслед за этим у ее матери обнаружили болезнь Альцгеймера. И когда казалось, что она начинает приходить в себя и появляется прогресс в терапии, ее крестник, которому был всего двадцать один год, единственный сын ее двоюродной сестры, подруги всей жизни, утонул, катаясь на лодке. Эта последняя потеря была вершиной горечи и отчаяния, и во сне она увидела стену из тел.
– Продолжай, Ирен, я слушаю.
– Мне кажется, ты не можешь понять меня. Твоя жизнь ненастоящая – теплая, уютная, невинная. Она похожа на этот кабинет. – Она указала на книжные стеллажи позади нее и на алый японский клен, пламенеющий за окном. – Здесь еще не хватает ситцевых подушек, камина и потрескивания поленьев. Тебя окружает семья – вы все живете в одном городе. Нерушимый семейный союз. Что ты можешь знать о потерях? Ты думаешь, ты бы справился с ними лучше? Представь, что твоя жена или твой ребенок должны вскоре умереть. Что бы ты сделал? Даже твоя самодовольная полосатая рубашка – я ее ненавижу. Каждый раз, когда ты надеваешь ее, меня трясет. Я терпеть не могу то, о чем она говорит.
– А о чем она говорит?
– Она говорит: “Я решил все свои проблемы, теперь расскажите мне о своих”.
– Ты уже говорила об этих чувствах прежде. Но сегодня они имеют какую‑то необычайную силу. Почему именно сегодня? И твой сон, почему ты увидела его именно сегодня?!
– Я говорила, что хотела поговорить с Эриком. Вчера мы вместе обедали.
– И?. – подсказал я после ее очередной абсурдной паузы, подразумевавшей, что я должен был установить связь между Эриком и ее сном. Она лишь один раз упоминала этого мужчину, рассказывая о том, что его жена умерла десять лет назад и они встретились на лекции для людей, переживших тяжелую утрату.
– Он подтвердил все, что я сказала. Он говорит, что ты в корне неправ по поводу моего отношения к смерти Джека. Ты не прошел через это, ты это не пережил. У Эрика новая жена и пятилетняя дочь, но рана все еще кровоточит. Каждый день он говорит со своей умершей женой. И он понимает меня. Я убеждена, что это смогут понять только те люди, которые сами испытали это. Существует подпольное общество…
– Подпольное общество?
– Из тех людей, которые действительно знают, те, кто остался в живых, все те, кто пережил тяжелую утрату. Все это время ты пытался убедить меня отделиться от Джека, вернуться к жизни, найти новую любовь – это было ошибкой. Это ошибка самодовольных людей типа тебя, которые никогда не испытывали горечь утраты.
– Значит, с вами может работать только тот человек, который сам пережил потерю?
– Кто‑то, кто прошел через это.
– Я слышу это на протяжении всех лет практики, с того времени, как решил выбрать этот путь. Только алкоголики могут лечить алкоголиков? Наркоманы – наркоманов? Должен ли быть у психотерапевта нарушен процесс принятия пищи, чтобы лечить анорексика? Он что, должен быть депрессивным или маниакальным для того, чтобы общаться с людьми, у которых аффективные расстройства? Надо обязательно быть шизофреником, чтобы лечить шизофреника?
Ирен знала, как выключить меня. Она с бесхитростной ловкостью определяла и сводила на нет основные раздражители.
– Конечно же, нет, – отрезала она. – Я участвовала в дискуссии в Рэдклифе и знаю эту стратегию – reductio ad absurdum [5]! Но она не работает. Согласись, в моих словах есть доля правды.
– Нет, я не согласен. Это основательно пересматривает подготовку психотерапевтов! В моей профессии есть правило – достигать чувствительности, сочувствия – уметь войти во внутренний мир другого, пережить то, что он пережил.
Я был раздражен. Но я научился не отступать. Работа проходила лучше, когда я высвобождал свои чувства. Порой Ирен приходила ко мне в кабинет настолько угнетенной, что едва ли могла говорить. Но, однажды запутавшись в чем‑то, она неизбежно оживлялась. Я знал, что принял на себя роль Джека. Он был единственным, кто когда‑либо противостоял ей. Ее ледяное спокойствие обескураживало окружающих (практиканты прозвали ее Королевой), но только не Джека. Она рассказывала, что он не испытывал большого желания скрывать свои эмоции и, выходя из комнаты, обычно говорил:
“У меня нет желания выслушивать эту чушь”.
Меня же раздражала не только ее настойчивость, что лишь психотерапевты, пережившие потерю, могут работать с пациентами, у которых горе, но и Эрик, утверждавший, что ощущение потери бесконечно и длится всю жизнь. Эта идея была частью непрекращавшихся споров между мной и Ирен. Я принимал хорошо известную позицию, о которой много говорили, то есть что работа со скорбью заключается в том, чтобы полностью отделить себя от умершего человека и направить свою жизнь и энергию на окружающих. Фрейд впервые разработал это понимание горя в 1915 году в своей работе “Скорбь и меланхолия”, и с тех пор эта концепция поддерживается множеством клинических наблюдений и эмпирических исследований.
В моем собственном исследовании, законченном как раз перед тем, как я начал работу с Ирен, каждый одинокий вдовец и вдова полностью отделились от своего умершего супруга и отдали все свои силы чему‑то или кому‑то еще. Это произошло даже с теми, кто безумно любил своего умершего супруга. Мы обнаружили устойчивую закономерность: те, у кого был удачный брак, проходили через утрату и процесс отделения легче, чем те, кто жил в постоянном противоречии. (Объяснение этого парадокса, как мне кажется, заложено в “сожалении”: для того, кто всю жизнь думал, что рядом с ним находится не тот человек, пережить утрату было сложнее, потому что он также скорбел по себе, по утраченным впустую годам.) Когда я представил замужество Ирен полным любви и понимания, я сначала предсказывал относительно легкое переживание потери.
Но Ирен критически относилась ко многим традиционным подходам к вопросу утраты. Она ненавидела мои высказывания об отделении и отвергала руку помощи:
“Мы, те, кто пережил утрату, научились давать исследователям те ответы, какие они хотят получить. Мы знаем, что мир хочет поскорее вернуть нас к жизни, окружающие становятся нетерпеливыми к тем, кто надолго остается привязан к людям, которых уже не вернуть”.
Она очень сильно обижалась на любое мое предложение позволить себе уйти от Джека: два года спустя после его смерти все его личные вещи так и лежали в ящиках, его фотографии были развешаны по дому, его любимые журналы и книги были на своих местах, а она продолжала вести долгие ежедневные беседы с ним. Меня беспокоило то, что ее разговоры с Эриком сдвигали всю терапию на несколько месяцев назад и убеждали ее в мысли, что я сильно заблуждался. Теперь было труднее убедить ее в том, что со временем она могла бы излечиться от своего горя. А что касается ее глупой веры в тайное сообщество людей, переживших горе утраты, которые были согласны с ней, это было еще одной стороной ее безрассудного тщеславия. Нет смысла удостаивать это ответом.
Некоторые суждения Ирен попадали в точку. Например, история о швейцарском скульпторе Альберто Джакометти, сломавшем ноги в автокатастрофе. Лежа на улице в ожидании “Скорой”, он произнес: “Наконец‑то со мной что‑то произошло”. Я точно знаю, что значили эти слова и в чей огород был камень. Я преподавал в Стэнфорде в течение тридцати лет, жил в одном и том же доме, наблюдая, как мои дети ходят в одну и ту же школу, никогда не сталкивался с темной стороной жизни. Не было никаких тяжелых, безвременных потерь: мои родители умерли старыми, отцу было семьдесят, матери за восемьдесят. Моя старшая сестра здорова. Я не терял близких друзей, а мои четверо детей всегда рядом и процветают.
Для мыслителя, охватившего жизненную систему координат, размеренная жизнь – это большая ответственность. Как часто, сидя в стенах университета, я тосковал по мукам настоящего мира. Годами я мечтал провести свой творческий отпуск как обыкновенный рабочий, возможно, водителем “Скорой помощи” в Детройте, или поваром в ресторанчике в Бовери, или приготовляя сандвичи в Манхэттене. Но никогда ничего не получалось: настойчивые приглашения венецианских коллег или поездка с друзьями на озеро Комо всегда брали верх. Я никогда не сталкивался с разводами и не наблюдал одиночества взрослых. Я встретил Мэрилин, мою жену, когда мне было всего пятнадцать, и моментально решил, что это и есть женщина моей мечты. (Я даже заключил пари с другом на пятьдесят долларов, что женюсь на ней, – и забрал их восемь лет спустя.) Наша совместная жизнь не всегда была плавной, но Мэрилин была любящим другом, стоящим на моей стороне. Иногда я завидовал пациентам, идущим по краю, которые имели смелость переехать, уйти с работы, поменять профессию, развестись, начать все заново. Мне не нравилось быть наблюдателем, и я всегда удивлялся, когда у меня получалось незаметно поощрить своих пациентов сделать решительный шаг за меня.
Все это я рассказываю Ирен, ничего не утаив. Я говорю ей, что она права по поводу моей жизни – до последней детали.
– Но ты не права, когда говоришь, что я никогда не переживал трагедии. Я делаю все, чтобы точнее понять трагедию. Я всегда помню о своей смерти. Когда я работаю с тобой, я всегда представляю, что было бы, если моя жена была бы смертельно больна, и каждый раз меня охватывает неописуемая грусть. Я уверен, абсолютно уверен, что я бы двигался вперед, я бы перешел на другой уровень жизни. Мое увольнение из Стэнфорда было бы безусловным шагом. Все признаки старения – порванный коленный хрящ, постепенная потеря зрения, боли в спине, седеющие борода и волосы, мысли о собственной смерти – говорят, что я двигаюсь прямо к концу своей жизни.
В течение десяти лет, Ирен, я работал с умирающими пациентами, надеясь, что они ближе познакомят меня с трагическим ядром жизни. Это, конечно же, случилось, и я на три года вернулся к терапии, наблюдая за Ролло Мэем, чья книга “Экзистенция” стала очень важной для меня в психиатрической практике. Эта терапия была не похожа ни на одну работу, проводимую мною до этих пор. Я глубоко погрузился в изучение собственной смерти.
Ирен кивнула. Я знал эту манеру – характерный набор движений, одно движение подбородком, затем два или три легких кивка, ее соматическая азбука Морзе, говорящая, что я предложил что‑то рациональное и удовлетворительное. Я прошел тест – по крайней мере пока.
Но я еще не закончил работать со сном.
– Ирен, мне кажется, есть еще что‑то в твоем сне. – Я обратился к своим записям (наверное, единственные записи, которые я делаю во время сессии, касаются снов; вследствие того, что они исчезают из памяти, пациенты часто при повторном пересказе искажают их) и вслух прочитал первую часть сна: “Я в этом кабинете, сижу на этом кресле. Посередине комнаты, прямо между нами, находится очень странная стена. Я не вижу тебя”.
– Что меня удивляет, – продолжаю я, – так это последнее предложение. Во сне ты не видишь меня. До сих пор во время всей этой сессии мы обсуждаем немного другую сторону – я тебя не вижу. Позволь тебя спросить: несколько минут назад, когда я рассказывал о своем старении, ты помнишь, мое колено, мои глаза…
– Да, да, я все это уже слышала, – воскликнула Ирен, перебивая меня.
– Ты слышала это – но как всегда, когда бы я ни заговорил о собственной смерти, твои глаза тускнеют. Так же, как и в те две недели после операции на глаза, когда у меня было трудное время и я носил темные очки, ты ни разу не спросила меня об операции, о том, как мои дела.
– Мне не обязательно знать о твоем здоровье, я здесь пациент.
– Нет, это намного больше, чем простое отсутствие интереса, больше, чем отношение пациента и доктора. Ты избегаешь меня. Ты закрываешься от любой информации обо мне. Особенно от той, которая каким‑либо образом ослабляет меня. С самого начала я предупреждал, что из‑за наших социальных отношений, из‑за общих друзей, Эмили и Эрла, я не мог скрыть себя от тебя. Но до сих пор ты не проявила никакого желания узнать обо мне что‑либо. Тебе не кажется это странным?
– Когда мы начали наши встречи, я не рискнула еще раз потерять дорогого для меня человека. Я не пережила бы это. У меня было только два выбора…
Как обычно, Ирен замолчала, то есть я должен был догадаться о конце предложения. Я не торопился помогать ей, сейчас было лучше позволить ей самой высказаться.
– Какие два выбора?
– С одной стороны, не позволить тебе значить для меня слишком много, – но это было невыполнимо. Либо не видеть в тебе настоящего человека с историей.
– С историей?
– Да, с историей жизни – от начала до конца. Мне хочется держать тебя вне времени.
– Сегодня, как всегда, ты пришла в мой кабинет и направилась прямо к стулу, не глядя на меня. Ты избегаешь смотреть мне в глаза. Это и значит “вне времени”?
Она кивнула:
– Если я буду видеть тебя, ты станешь слишком настоящим.
– А настоящим людям приходится умирать.
– Теперь ты понял.
Урок третий: гнев печали.
– Я только что узнал, Ирен, – начал я сессию одним утром, – что мой зять умер несколько часов назад. Внезапно. Коронарит. Я потрясен этим и сейчас не в форме, – я слышал, как дрожал мой голос, – но постараюсь сделать все, чтобы наша встреча прошла полноценно.
Мне трудно было сказать это, но я должен был, у меня не было выбора. Мортон, муж моей единственной сестры, был моим лучшим другом и очень важным человеком в моей жизни с того времени, как мне исполнилось пятнадцать лет. Застигнутый врасплох дневным звонком сестры, я сразу же заказал билет на ближайший рейс до Вашингтона, чтобы поддержать ее. Когда я переносил встречи, назначенные на несколько следующих дней, увидел, что одна двухчасовая сессия была с Ирен, я мог провести эту встречу и даже успевал на самолет. Может, стоило с ней встретиться?
За три года нашей совместной работы Ирен никогда не опаздывала и не пропускала сессии, даже в те ужасные дни, когда опухоль разрушала мозг и личность Джека. Несмотря на кошмар наблюдения за необратимым разрушением своего мужа, Ирен была предана нашей работе. Как и я. Со времени нашей первой встречи, когда я пообещал ей: “Я пройду через все это вместе с тобой”, я дал себе слово быть с ней настолько искренним, насколько мог. И поэтому мой выбор был ясен: я встречусь с ней и буду честен.
Но Ирен не ответила. После нескольких минут молчания я решил подогнать ее:
– Где сейчас твои мысли?
– Я думала, сколько ему было лет.
– Семьдесят. Он как раз собирался оставить медицинскую практику.
Я замолчал в ожидании. Чего? Наверное, короткого сочувствия для приличия. А может, выражения признательности за встречу с ней, несмотря на мое горе.
Тишина. Ирен сидела молча, не сводя глаз с маленького бледного пятна кофе на ковре.
– Ирен, что происходит в пространстве между нами сегодня?
Я безошибочно задавал этот вопрос каждую сессию, убежденный, что приоритетным было исследование наших отношений.
– Наверное, он был хорошим человеком, – ответила она, не поднимая глаз, – иначе ты бы так не горевал.
– Ну ладно, Ирен, скажи правду. Что происходит? Вдруг она подняла на меня сверкающие глаза.
– Мой муж умер в сорок пять, и если я каждый день буду оперировать моих пациентов, сидеть в кабинете, обучать студентов, будь уверен, для меня наступит ад!
Меня поразили не ее слова, а то, каким тоном они были сказаны. Это была не Ирен. Это был не ее голос. Он напоминал сверхъестественный гортанный голос девочки из “Изгоняющего дьявола”. И до того как я смог что‑либо ей ответить, Ирен потянулась за сумочкой.
– Я ухожу! – заявила она.
Мои мускулы напряглись – я твердо верил, что смогу удержать ее, если она направится к двери.
– Ну нет, только не после этого. Ты останешься здесь, и мы все обсудим.
– Я не могу, не могу работать, не могу остаться здесь с тобой! Не могу остаться ни с кем!
– Есть одно правило в этом кабинете: то, что ты говоришь, это то, что ты думаешь. Ты работаешь. Ты никогда не сделаешь это лучше.
Подняв свою сумку с пола, Ирен опустилась на стул.
– Я рассказывала тебе, что после смерти брата мои отношения с мужчинами заканчивались всегда одинаково.
– Как? Расскажи мне еще раз.
– У них всех были какие‑то неприятности, проблемы, они могли болеть, а я злилась и вычеркивала их из своей жизни. Быстрый хирургический разрез! Я разрезаю чисто. И навсегда.
– Из‑за того, что ты сравнивала их проблемы с безмерной потерей Алена? Это огорчало тебя? Она кивнула, соглашаясь:
– Это основная причина, я уверена. Поэтому я не хотела, чтобы они слишком много для меня значили. Я не хотела слышать об их ничтожных проблемах.
– Что произошло сегодня?
– Разукрась в красный цвет! Гнев! Мне хотелось что‑нибудь бросить в тебя!
– Потому что я, похоже, собирался сравнивать свою потерю с твоей?
– Да. А потом я подумала, что, когда мы закончим сессию, ты понесешь свою потерю по дорожке сада к своей жене, которая будет ждать тебя с чистой, уютной жизнью. Тогда‑то это и окрашивается в красный цвет.
Мой офис, в нескольких сотнях футов от моего дома, удобный коттедж с красной крышей утопает в пышном цветении люпинов, глициний и испанской лаванды. И, хотя Ирен любила безмятежность моего кабинета, она обычно подтрунивала над моей книжной жизнью.
– Я не на тебя рассердилась, – продолжала она, – а на всех, чья жизнь не пострадала. Ты рассказывал мне о вдовах, которые ненавидят быть без роли, которые не любят быть пятым колесом на вечеринках. Но суть не в том, чтобы остаться за бортом: это ненависть ко всем, у кого есть жизнь; это зависть; это переполнение горечью. Ты думаешь, мне нравится это чувствовать?
– Некоторое время назад, когда ты собиралась покинуть эту комнату навсегда, ты сказала, что не способна находиться рядом с кем бы то ни было.
– Правда? А ты бы мог находиться рядом с человеком, который ненавидит тебя за то, что твоя жена жива? Неужели кто‑нибудь захочет общаться с таким человеком? Гиблое болото. Никто не хочет испачкаться, не правда ли?
– Я остановил тебя, ты помнишь?
Тишина.
– Я все думаю, какое же головокружительное чувство должно преследовать тебя, если ты так злишься на меня, но все же с благодарностью остаешься.
Она кивнула.
– Немного громче, Ирен. Я не могу расслышать.
– Я взбесилась, думая, почему ты рассказал мне про своего зятя.
– Ты подозрительна.
– Очень.
– Ты догадываешься почему?
– Это больше, чем догадка. Мне кажется, ты пытался манипулировать мною. А потом посмотреть, как я отреагирую. Своего рода тест.
– Понятно, почему ты взорвалась. Может быть, тебе поможет, если я расскажу, что именно происходило внутри меня сегодня после того, как я получил известие о смерти Мортана. – Я рассказал, что отменил все свои встречи, но решил увидеться с ней. – Я не мог отменить нашу встречу после того, как ты проявила мужество приходить сюда в любой ситуации. Но, – продолжал я, – передо мной все еще стоит проблема, как работать с тобой и с моей потерей одновременно. Какой у меня был выбор, Ирен? Прекратить работу и сбежать от тебя? Это было бы хуже, чем отменить встречу. Пытаться быть ближе к тебе, быть с тобой честным и не сказать тебе об этом? Невозможно – я выучил много лет назад, что если двое людей, между которыми есть что‑то большое, и они не говорят об этом, не будут говорить ни о каких важных вещах. Это пространство, – я очертил воздух между нами, – мы должны сохранять чистым и свободным, и это настолько же твоя работа, насколько и моя. Поэтому я прямо рассказал тебе о том, что происходит со мною. Так откровенно, как мог – без манипуляций, без тестов, без скрытого мотива.
Ирен еще раз кивнула, давая понять, что я опять сделал разумное предположение.
Позже, почти в конце занятия, Ирен извинилась за свое высказывание. Через неделю она рассказала мне, как это происшествие ошеломило ее друга жестокостью по отношению ко мне, и еще раз извинилась.
– Не извиняйся, – утешал я ее, и я на самом деле желал ее утешения. Вообще‑то, курьезным образом я приветствовал ее вспышку: это было оживление, это было по‑настоящему, это сближало нас. Это было ее истинным отношением ко мне. Это была правда или хотя бы часть правды – я надеялся, что придет время, и она расскажет мне все до конца.
Гнев Ирен, с которым я впервые столкнулся на втором месяце терапии, был глубинным и всепроникающим. И хотя открыто он проявлялся лишь от случая к случаю, он грохотал внутри ее. Проведенные исследования убедили меня, что подобные вспышки гнева не причиняли большого беспокойства по сравнению с постоянными обвинениями, извинениями или опровержениями и скоро рассеивались. Но в случае с Ирен, во всей работе с ней, подобное наблюдение вводило в заблуждение. Снова и снова я обнаруживал, что “статистически существующая” правда была неуместна по отношению к человеку из плоти и крови, сидящему напротив меня.
Во время одной из сессий на третьем году терапии я задал ей вопрос:
– Какие чувства ты вынесла с нашей последней встречи? Ты думала обо мне во время прошедшей недели?
Этот вопрос часто был частью моей работы для привлечения внимания к подходу здесь и сейчас – во время встречи между мной и пациентом. Некоторое время она сидела молча, а затем спросила:
– А ты думал обо мне между сессиями?
Подобные вопросы пациента, которых избегают большинство терапевтов, не очень распространены, и я не ожидал услышать его от Ирен. Наверное, для меня была неожиданностью ее забота или, по крайней мере, свидетельство ее заботы.
– Я… я… я часто думаю о твоей ситуации, – пробубнил я. Лживый ответ! Она встала.
– Я ухожу, – сказала она и вышла, не закрыв за собой дверь.
Я видел, как она шла через сад, куря сигарету. Я сидел и ждал. Как же легко психотерапевту, не включенному во взаимодействие, думал я, отреагировать на ее вопрос чем‑то вроде “Почему ты спрашиваешь?”, или “Почему сейчас?”, или “На что ты надеешься?”. Для терапевтов, которые, как и я, обратились к более равноправным, взаимно ясным отношениям, это нелегко. Возможно, потому что вопрос выходит за рамки терапевтической правды: неважно, насколько искренним старается быть терапевт, насколько он пытается сблизиться с пациентом и быть с ним честен, все равно остается непреодолимая пропасть, базовое неравенство между пациентом и психотерапевтом.
Я знал, что Ирен ненавидела то, что я думал о ней, как о “ситуации”, – ненавидела то, что позволила мне значить для нее слишком много. Должно быть, мне следовало использовать более прочувствованное и теплое слово, чем ситуация. Но я верю, что никакое подходящее предложение не дало бы ей того, что она хотела. Она хотела, чтобы я думал по‑другому – любя, восхищаясь, сочувствуя, и, скорее всего, только о ней.
Докурив свою сигарету, она с апломбом вернулась в комнату и уселась на свое место, как будто не произошло ничего необычного. Я продолжил вызывать ее чувство реальности.
– Конечно, ‑ сухо продолжал я, – пациенты думают о психотерапевтах намного чаще, чем психотерапевты о них. В конце концов, у терапевтов множество пациентов, а у пациента только один терапевт. То же самое происходило и со мною, когда я участвовал в терапии. Но разве не то же самое происходит с твоими пациентами, которых ты оперируешь, и с твоими студентами?
Ситуация на самом деле не такая четкая. Я не говорил о том, что терапевты думают о своих пациентах между сессиями, – а особенно о проблематичных, которые так или иначе сильно досаждают психотерапевту. Терапевт может проанализировать свои сильные эмоциональные реакции или обдумать лучший подход. (Терапевту, который поймал себя на злых, мстительных, любовных мыслях или эротических фантазиях относительно пациента, несомненно, следует переговорить об этом со своим другом‑коллегой, профессиональным консультантом или личным психотерапевтом.)
Я не сказал Ирен, что часто думал о ней между встречами. Она озадачивала меня. Я беспокоился о ней. Почему у нее нет улучшений? Большинство вдов, с которыми я работал, показывали улучшения уже после первого года терапии; каждая из них далеко продвигалась к концу второго года. Но не Ирен. Ее отчаяние и безнадежность усиливались с каждым днем. Она не испытывала радости от жизни. Каждый вечер, уложив дочку, она долго плакала; она упорно продолжала долгие беседы с умершим мужем; она не принимала приглашений встречаться с новыми людьми и отказывалась от любой возможности наладить отношения с мужчинами.
Я стал нетерпеливым терапевтом, и моя фрустрация росла. Так же как и беспокойство по поводу Ирен: величина и сила ее скорби беспокоили меня. Я боялся суицида – я был убежден, что она могла наложить на себя руки, если бы не ее дочь. Два раза я посылал ее на официальные консультации к своим коллегам.
Хотя я был утомлен взрывами ее гнева, еще труднее было иметь дело с умеренными, но все более распространяющимися выражениями этого гнева. Список ее обид на меня продолжал расти, и нам редко удавалось проработать хотя бы час без вспышек гнева.
Она злилась на меня за попытки отделить ее от Джека, направить ее энергию на что‑то еще, постоянные подталкивания к знакомству с мужчинами. Ее злило то, что я не Джек. В результате нашего долгого знакомства, равноправных обменов, наших стычек, взаимной заботы она перенесла свои чувства по отношению к своему мужу на меня. Потом, в конце часа, она вдруг не хотела возвращаться к жизни ни со мной, ни с Джеком. Именно это делало окончания наших встреч такими шумными. Она отказывалась принимать то, что у наших отношений были официальные границы. Трудно описать, как каждый раз я намекал, что час подошел к концу. Она всегда вспыхивала: “И ты называешь это настоящими отношениями? Это не по‑настоящему! Ты только и смотришь на часы в ожидании момента, когда сможешь вытолкать меня за дверь!”
Иногда в конце встречи она продолжала сидеть, отказываясь сдвинуться с места. Всякий призыв к разуму – напоминание о необходимости придерживаться расписания, о ее встречах с пациентами, предложения, чтобы она сама следила за временем и заканчивала час, повторение, что окончание встречи не означало отказа от нее, – не находил понимания. Гораздо чаще она уходила из моего офиса взбешенная.
Она сердилась на то, что я стал для нее значим, но не мог делать того, что делал Джек; например, восхищаться ее лучшими чертами – ее внешним видом, ее изобретательностью, ее умом. У нас была постоянная борьба на почве комплиментов. Мне казалось, что открытое перечисление ее достоинств сделает ее инфантильной, но она настолько акцентировала свое внимание на них, так настаивала, что я часто сдавался. Я спрашивал о том, что она хотела услышать, и почти слово в слово повторял сказанное, всегда стараясь дополнить кое‑какими оригинальными наблюдениями. То, что казалось для меня шарадой, поднимало ей дух. Но ненадолго: у нее была дырявая память, и на следующей встрече она настаивала на повторении.
Она злилась на мои попытки понять ее. Если я сражался с ее пессимизмом, напоминая, что мы находимся только в середине процесса, у которого есть и начало и конец, и заверял в результатах моего исследования, она гневно отвечала: “Ты ведешь меня к деперсонализации. Ты игнорируешь уникальность моего опыта”.
При любом оптимистическом высказывании по поводу ее улучшения она обвиняла меня в желании сделать так, чтобы она забыла Джека.
Любой намек на встречу с другими мужчинами был похож на минное поле. Она высокомерно относилась к мужскому полу и злилась на предложение попробовать поработать с ее суждениями. Любое практическое предложение с моей стороны зажигало вулкан. “Если я захочу найти себе мужчину, – в бешенстве говорила она, – то смогу это сделать сама! Зачем платить тебе деньги за совет, который мне может дать любой из моих друзей?”
Она становилась свирепой, если я предлагал ей конкретные вещи: “Прекрати заострять внимание на вещах! – говорила она. – Это именно то, что пытался делать мой отец в течение всей моей жизни”.
Она была в бешенстве от моей нетерпеливости по отношению к ее медленному прогрессу и от моих неудач в определении усилий, приложенных ею, чтобы помочь себе (но никогда не обозначенных для меня).
Ирен хотела, чтобы я оставался сильным и здоровым. А моя немощь – порванное колено, требующее операции на мениске, простуда, грипп – вызывала много раздражения. Я также знал, что у нее были свои опасения, которые она хорошо скрывала.
Но больше всего ее раздражало то, что я был жив, а Джек – мертв.
Но ничто из этого не приносило мне облегчения. Я никогда не смаковал подробности ссор и в личной жизни избегал злых людей. Я осмотрительный мыслитель и писатель, а конфронтация замедляет поток моих мыслей. За все время своей карьеры я всегда отклонял публичные дебаты и препятствовал попыткам сделать из меня председателя.
Так как же мне быть с гневом Ирен? С одной стороны, из одной терапевтической поговорки я выучил, что надо разделять роль и личность. Обычно проявления злости пациента направлены на роль терапевта, а не на его личность. “Не принимайте это близко к сердцу, – учат молодых психотерапевтов. – Или по крайней мере не принимайте все близко к сердцу. Сделайте попытку определить, что относится к вашей личности, а что к роли”. Казалось очевидным, что гнев Ирен относился ко всему: к жизни, судьбе, богу, космическому безразличию, но она легко переносила это на ее ближайшую цель: на меня, ее психотерапевта. Она знала, что ее злость угнетает меня, но, кроме этого, и позволяла узнать меня с разных сторон. Например, однажды, когда моя секретарша позвонила ей, чтобы перенести встречу, так как мне нужно было попасть к дантисту, Ирен ответила: “Ну да, конечно, увидеться с дантистом для него большее удовольствие, чем встретиться со мною”.
Но, пожалуй, основная причина того, что я не был повержен гневом Ирен, была в том, что я видел в этом маску ее глубинной грусти, отчаяния и страха. Ее злобу на меня я иногда воспринимал с раздражением и нетерпением, но чаще с состраданием. Мне часто вспоминались некоторые из образов или выражений Ирен. Особенно один прочно закрепился у меня в памяти и помог смягчить мое исследование ее гнева печали. Это было в одном из снов про аэропорт (в течение первого года после смерти мужа ей часто снились аэропорты).
Я пробираюсь через терминал в поисках Джека. Я не знаю ни номера самолета, ни рейса. Я в отчаянии… просматриваю расписание, чтобы найти какую‑нибудь зацепку, но все слова написаны какими‑то бессмысленными слогами. Потом у меня появляется надежда – я смогла прочитать один знак над воротами для отъезжающих: “Микадо”. Я бросаюсь туда, но поздно. Самолет только что взлетел. Я просыпаюсь в слезах.
– Микадо [6] – это направление? Какие у тебя возникают ассоциации со словом “Микадо”? – спрашиваю я.
– Мне не нужны ассоциации, – отрезает она. – Я точно знаю, почему мне приснилось Микадо. Так я называла одну оперетту, когда была ребенком. Я никак не забуду несколько строчек:
Хотя ночь может прийти слишком скоро, У нас есть много лет, наполненных дневным светом.
Ирен остановилась и посмотрела на меня. В глазах у нее стояли слезы. Бессмысленно говорить что‑либо еще. Ни ей. Ни мне. Ей не нужно было утешение. Начиная с этого дня строчка “у нас есть много лет, наполненных дневным светом” крутилась у меня в голове. Они с Джеком не получили своих лет, наполненных светом, и за это я готов был простить ей что угодно.
Мой третий урок, гнев печали, доказал ценность других клинических ситуаций. Там, в прошлом, я слишком быстро отворачивался от гнева, пытаясь понять его и решить проблему как можно быстрее. Теперь я учился работать с гневом, выискивать его и погружаться вовнутрь, в основные механизмы урока? Вот здесь‑то и появлялось гиблое болото.
Урок четвертый: гиблое болото .
В день смерти моего зятя, когда Ирен грозилась уйти и спрашивала, хотел бы я находиться рядом с человеком, который ненавидит меня за то, что моя жена жива, она часто обращалась к гиблому болоту. “Помнишь? – спрашивала она. – Никому не хочется пачкаться, правда?” Это была метафора, которую она часто произносила на сессиях во время первых двух лет терапии.
Что такое гиблое болото? Снова и снова она напряженно подыскивала нужные слова. “Это какая‑то черная, отвратительная, едкая масса, которая просачивается сквозь меня, образуя вокруг большую лужу. Она отвратительна и зловонна. Она отталкивает и внушает отвращение любому, кто осмеливается приблизиться ко мне. Она очерняет их и таит для них много опасностей”.
Хотя у гиблого болота было много значений, первым и главным был гнев печали. Так, она ненавидела меня за то, что моя супруга была жива. Дилемма Ирен была ужасна: она могла молчать, задыхаясь от собственной ярости, и чувствовать себя абсолютно одинокой. Или она могла взорваться в гневе, отталкивая всех подряд, и чувствовать себя абсолютно одинокой.
С тех пор как образ гиблого болота прочно укоренился в ее голове, не поддаваясь вытеснению, я стал использовать эту метафору в качестве основного направления терапии. Чтобы постепенно удалить ее, мне необходимо было не столько терапевтическое слово, сколько терапевтический поступок.
Поэтому я старался оставаться поблизости от нее в пору ее гнева, смотреть в лицо ее злости – как это делал Джек. Я должен был следовать за ней, бороться с ее злостью, не давать ей оттолкнуть меня. У ее гнева было много граней – она постоянно устраивала испытания для меня и расставляла ловушки. Одна обучающая ловушка стала благотворной возможностью для терапевтического действия.
Однажды, после нескольких месяцев серьезных колебаний и уныния, она пришла в офис необъяснимо умиротворенная.
– Как я рад видеть тебя такой спокойной, – заметил я. – Что произошло?
– Я приняла очень важное решение, – сказала она, – я вычеркнула все ожидания, связанные с личным счастьем или самореализацией. Больше никаких сожалений о любви, сексе, дружбе, художественных произведениях. С этого момента я собираюсь полностью посвятить свою жизнь дочери и профессиональной деятельности – быть матерью и хирургом. – Все это было произнесено с большим самообладанием.
В течение нескольких предыдущих недель меня сильно беспокоили глубина и неукротимость ее отчаяния, и я удивлялся, как много она была способна вынести. Поэтому, несмотря на странность внезапной перемены, я был чрезвычайно признателен за то, что она все же нашла какой‑то путь, любой путь, чтобы уменьшить свою боль. Поэтому я решил не выяснять источник ее решения. Вместо этого я принял его как благословенное событие – сродни умиротворению, достигаемому буддистами, которые через медитацию облегчают страдания систематическими отказами от всех личных потребностей.
Честно говоря, я не ожидал от Ирен перехода к смирению, но надеялся, что даже временный отдых от ее нескончаемой боли может дать толчок к более позитивному витку в ее жизни. Если состояние покоя позволило ей перестать мучить себя, принимать приемлемые решения, заводить новых друзей, а возможно, даже встретить подходящего мужчину, тогда, я убежден, неважно, как она пришла к этому: она могла просто поставить лестницу и подняться по ней на уровень выше.
Тем не менее на следующий день она позвонила мне в бешенстве: “Ты понимаешь, что ты сделал? Что ты за терапевт? Твоя забота обо мне! Это все притворство! Притворство! Правда в том, что ты тихо сидишь и наблюдаешь, как я отказываюсь от всего жизненно важного – от любви, радости, удовольствий – от всего! Ты даже не просто сидишь в стороне; ты соучастник моего самоубийства!”
В очередной раз она сделала попытку прервать терапию, но в конце концов я убедил ее прийти на следующую встречу.
В течение нескольких последующих дней я размышлял о произошедших событиях. И чем больше я думал о них, тем злее становился. Я опять сыграл головой, как Чарли Браун, пытавшийся отбить футбольный мяч, посланный ему на последних секундах Люси. Во время нашей следующей сессии моя злость столкнулась со злостью Ирен. Это сессия была больше похожа не на терапию, а на боксерский поединок. Это была самая грандиозная битва за все время. Обвинения так и сыпались из нее:
– Ты сдался, ты отступился от меня! Ты хочешь, чтобы я пошла на компромисс, убив в себе все живое!
Я даже не сделал попытки понять и посочувствовать ей:
– Я болен и устал от твоих минных полей, – сказал я в ответ. – Я устал от твоих постоянных экзаменов, которые я проваливаю. И больше всего от всех твоих обучающих тестов. У нас много работы, Ирен, – закончил я, взяв пример с ее умершего мужа. – У нас нет времени на всю эту чушь.
Это были одни из лучших часов. По их окончании (конечно, после очередной перепалки из‑за ограничения времени и обвинения меня в желании вышвырнуть ее из офиса) наш терапевтический союз стал крепче, чем когда бы то ни было прежде. Ни в своих учебниках, ни на лекциях я даже не думал о том, чтобы посоветовать студентам столкнуться с пациентом в гневной схватке; но все же эта сессия значительно продвинула Ирен вперед.
В данных попытках я руководствовался метафорой о гиблом болоте. Устанавливая контакт с ней, эмоциональный контакт, борясь с ней (конечно, я выражаюсь в переносном смысле, но были моменты, когда мне казалось, что дело дойдет до физического столкновения), я все время пытался доказать, что гиблое болото – лишь фикция, что оно не пачкает меня, никак не отражается на мне, не затягивает меня. Ирен жадно хваталась за метафору в убеждении, что каждый раз, когда я пытаюсь заговорить о ее гневе, я ожидаю либо ее ухода, либо смерти.
В конце концов, желая показать, что ее гнев не сможет ни оттолкнуть меня, ни уничтожить, я решил предпринять новый терапевтический шаг и ввел новое правило: “Когда ты по‑настоящему будешь проявлять на занятии свою злость, мы будем назначать еще одну дополнительную встречу на этой же неделе”. Это оказалось очень действенным; оглядываясь назад, я полагаю, что данный взгляд вдохновлял.
Метафора о гиблом болоте была особенно важна, будучи сверхдетерминированной [7] : это был единичный образ, который удовлетворял и объяснял несколько различных бессознательных динамик. Одно из важных значений имел гнев печали. Но были и другие: например, то, что она отвратительна, ее влияние губительно и она роковым образом приносит несчастье.
– Любой, кто вступает в гиблое болото, – сказала она мне на одной из сессий, – подписывает себе смертный приговор.
– Поэтому ты предпочитаешь не любить вообще, боясь, что способна предложить лишь любовь медузы, которая уничтожает любого, кто приблизится к ней?
– Всем мужчинам, которых я любила, пришлось умереть – моему мужу, отцу, брату, моему крестнику и Сэнди, о котором я тебе недавно рассказывала, – тот умственно отсталый паренек, который двадцать лет назад покончил жизнь самоубийством.
– Опять совпадения! Пора бы тебе отпустить их! – настаивал я. – Это неудачи, но они не имеют никакого значения для будущего. У игры в кости нет памяти.
– Совпадения, стечение обстоятельств – твои любимые словечки! – огрызалась она. – Лучше сказать карма, и она точно говорит мне, что я не должна больше любить ни одного мужчину.
Ее образ себя, приносящей несчастье, напоминал мне Джо Ола, персонажа комиксов, над чьей головой все время парило огромное дождевое облако. Как я мог изменить веру Ирен в проклятую карму? Я многого достиг. Нужно было нечто большее, чем слова: я должен был предложить ей терапевтическое действие, которое состояло бы в игнорировании ее тревоги, в постепенном приближении к ней, в проникновении в ее губительное и загрязненное пространство и выходе оттуда живым и невредимым.
Было и еще одно значение гиблого болота, связываемое ею с одним из ее снов, в котором она увидела прекрасную темноглазую женщину с розой в волосах, лежавшую, откинувшись, на диване.
Подойдя ближе, я понимаю, что женщина не такая, какой казалась: ее диван – это катафалк, в ее глазах не темная красота, а тень смерти, а темно‑красная роза – это не цветок, а смертельная рана.
– Я знаю, что эта женщина – я, и любой, приближающийся ко мне, видит смерть постфактум – это еще одна причина избегать меня.
Образ женщины с темно‑красной розой в волосах напомнил мне сюжет необычного футуристического романа Филипа Дика “Человек в лабиринте”, в котором героя посылают на только что открытую планету, чтобы наладить контакт с существами высшей расы. И хотя он использует всевозможные типы коммуникации – геометрические символы, математические знаки, музыкальные мелодии, приветствия, крики, жестикуляцию – все бесполезно. Однако его усилия нарушают покой существ, которые не оставляют его напористость безнаказанной. Как раз перед отлетом героя на Землю они подвергают его таинственной нейрохирургической процедуре. Но только позднее он понимает суть наказания: в результате операции он становится неспособным сдерживать свой экзистенциальный страх. Он не только оказывается подвержен непрерывным приступам ужаса перед абсолютной непредсказуемостью существования и неизбежностью собственной смерти, но и обречен на полное одиночество, поскольку любого человека, приблизившегося к нему, накрывает та же волна экзистенциального страха.
Чем больше я убеждал Ирен в том, что гиблого болота не существует, тем больше понимал, что часто тонул в нем сам. Работая с Ирен, я разделял судьбу тех, кто приближался слишком близко к герою романа Филипа Дика: я подвергался ударам собственной экзистенциальной действительности. Снова и снова наши сессии сталкивали меня с моей смертью. Хотя я знал, что впереди меня ожидает смерть, я твердо решил выжить ее из мыслей.
Конечно, есть свои благотворные моменты существования, побеждающие смерть: мне понятно, что хотя факт (физическая сторона) смерти разрушает нас, идея смерти может нас спасти. Это древняя мудрость, потому монахи веками держали в своих кельях черепа, а Монтень советовал жить в комнате с видом на кладбище. Мое понимание смерти долго служило оживлению моей жизни, помогая упрощать простое и ценить драгоценное. Я понимал эти вещи умом, но я также знал, что не смогу жить с постоянным страхом приближающейся смерти.
Поэтому в прошлом я основательно запрятал мысли о смерти на задворки сознания. Однако моя работа с Ирен не позволяла удерживать их там и дальше. Снова и снова часы, проведенные с ней, обостряли не только мою восприимчивость к смерти и чувство ценности жизни, но и мой страх, связанный с конечностью жизни. Слишком часто я стал размышлять над тем, что ее мужа сразило в сорок пять, а я уже переступил черту шестидесятилетия своего существования. Я знаю, что нахожусь в зоне смерти, в том периоде жизни, когда в любой момент могу угаснуть.
И кто сказал, что психотерапевтам много платят?
урок пятый: оправдание против измены.
Пошел третий год нашей работы, я все больше и больше падал духом. Терапия безнадежно затягивалась. Ирен так сильно завязла в своей депрессии, что я с трудом вытаскивал ее оттуда. Я никак не мог к ней подступиться: когда на сессии я пытался узнать, насколько близко или далеко она себя ощущает, она отвечала:
– За сотни миль отсюда – я с трудом могу различить тебя.
– Ирен, я знаю, что ты устала выслушивать это, но мы, безусловно, должны решить начать принимать антидепрессанты. Настало время понять, почему ты настроена против лечения.
– Мы оба знаем, что значит лечение.
– Правда?
– Это значит, ты сбегаешь, ты сдаешься. Я не хочу, чтобы со мною быстро расправились.
– Быстро расправились, Ирен? Три года?
– Я говорю о том, что заставить меня чувствовать себя лучше – это не решение проблемы. Это только уводит в сторону от того, чего я лишилась.
Любые аргументы были бесполезны, я не мог изменить ее убеждений, но в конце концов она пошла мне навстречу, позволив выписать ей антидепрессанты. Результат повторил предыдущий опыт двухгодовалой давности. Три вида лекарств оказались не только неэффективными, но и повлекли за собой неприятные побочные последствия: сильную сонливость, пугающие сны, полное угасание сексуальной функции и чувственности, чудовищное чувство бессмысленности всего окружающего, отказа от самой себя и своих забот. Когда я посоветовал ей обратиться к психофармакологу, она категорически отказалась. В отчаянии я поставил ей ультиматум: “Ты должна обратиться к консультанту и следовать его рекомендациям, либо я прекращаю работать с тобой”.
Ирен смотрела на меня не мигая. Как всегда точная, она не проявила ничего особенного ни в словах, ни в движениях.
– Я подумаю и дам тебе ответ при следующей встрече, – сказала она.
Но в следующий раз она не ответила на мой ультиматум прямо. Вместо этого она протянула мне выпуск “Нью‑Йоркера”, открытый на статье русского поэта Иосифа Бродского под заголовком “Печаль и оправдание”.
– Здесь, – сказала она, – ты найдешь ключ к ошибкам в терапии. Если же нет, если ты прочитаешь и не найдешь ответа, тогда я поговорю с твоим консультантом.
Пациенты часто просят меня прочесть что‑то, как им кажется, интересное – какие‑то книги о самопомощи, статью о новом виде лечения, литературу, в которой затрагивается их собственная проблема. Иногда пациенты‑писатели дарили мне свои труды со словами: “Вы многое узнаете обо мне, прочитав эту книгу”. Эти случаи никогда не оправдывались: пациент мог предоставить материал вербально за более короткое время. Да они и не ждали от меня откровенного суждения об их работах – я обычно считал, что для пациента важнее свободно выразить объективный комментарий. Очевидно, им необходимо было что‑то другое – мое одобрение и восхищение, – а у терапевта всегда есть более прямые и эффективные пути разобраться с потребностями пациента, нежели долгими часами читать его манускрипты. Я старался найти мягкий способ отказаться от таких предложений – или хотя бы предложить быстрый просмотр. Я ценил свое время для чтения и дорожил им.
Я не почувствовал себя обремененным, когда стал читать статью, принесенную Ирен. Я уважал ее вкус и ясность ее суждений. И если она считала, что в статье был выход из тупика, я верил, что время, отданное чтению, будет полезным. Безусловно, я предпочел бы прямое обсуждение, но научился воспринимать поэтические наклонности и способ беседы Ирен – язык, который она усвоила от матери. В отличие от отца, образца рациональности, который преподавал науку в маленькой школе в Мидвесте, ее мать, артистка, общалась весьма утонченно. Ирен узнавала о настроении матери по косвенным признакам. В лучшие дни, например, та могла сказать: “Наверное, я поставлю несколько синих и белых ирисов в вазу”, – или обнаружить свое настроение, каждое утро определенным образом рассаживая кукол на кровати Ирен.
Статья начиналась с анализа двух строф из стихотворения Роберта Фроста “Войди!”:
Только я до опушки дошел,
Слышу – песня дрозда!
А в полях уже сумрак стоял,
А в лесу – темнота.
Так темно было птице в лесу,
Что она б не могла
Даже ветку свою разглядеть,
Даже перья крыла. [8]
Мне всегда казалось, что это веселое, простое стихотворение. Я выучил его еще в детстве и декламировал, катаясь на велосипеде по мемориальному парку в Вашингтоне. Но здесь, в своем неспешном анализе, Бродский показал, что в произведении имеется и скрытый смысл. Например, в первой строке – есть что‑то зловещее в прилете дрозда на край леса и рассматривании погруженных во тьму окрестностей. А не звучит ли вторая строфа более лирично? Что означает то, что поэту слишком темно в лесу? Возможно, Фрост глубоко переживает, что слишком поздно, что он наказан проклятьем? И на самом деле – следующие строфы подтверждают эту точку зрения. Короче говоря, Бродский приводит веские аргументы, что стихотворение не просто является мрачным, но и сам Фрост – поэт намного более печальный, чем я всегда считал.
Я был очарован. Это обсуждение объясняло, почему стихотворение, такое простое, как и многие произведения Фроста, так захватило меня в молодости. Но какая связь с Ирен? Где обещанный ключ к проблемам, возникшим в психотерапии? Я продолжил читать.
Далее Бродский обратился к анализу повествовательной поэмы, мрачной пасторали “Домашние похороны”. Сюжет произведения – разговор между фермером и его женой, происходящий на лестнице в небольшом фермерском доме. (Тут я подумал о родителях Ирен, живших на ферме в Мидвесте, и о перилах лестницы, которые описывала Ирен, рассказывая о телефонном звонке, из которого она узнала о смерти Алена.) Поэма начиналась так:
Он снизу лестницы ее увидел ‑
Она из двери вышла наверху
И оглянулась, точно бы не призрак.
Фермер спрашивает жену: “На что ты там все время смотришь наверху, хотелось бы мне знать”. Хотя его жена напугана и отказывается отвечать, она уверена, что он ни за что не увидит того, что видит она, и позволяет ему подняться к ней. Подойдя наверху к окну, он выглядывает из него и обнаруживает то, на что она смотрела. Он удивлен, что никогда прежде не замечал этого.
Отсюда я ни разу не глядел.
Проходишь мимо, где‑то там, в сторонке,
Родительское кладбище.
Подумать – Все уместилось целиком в окне.
Оно размером с нашу спальню, да?
Плечистые, приземистые камни,
Гранитных два и мраморный один,
На солнышке стоят под косогором…
Я знаю, знаю: дело не в камнях ‑
Там детская могилка… – Нет! Не смей!
Тут жена, проскользнув за его спиной, спускается вниз, бросив на него “устрашающий взгляд”, и направляется к двери. Озадаченный, он спрашивает:
– Что, человеку нельзя говорить о ребенке, которого он потерял?
– Только не тебе! – отвечает она. – Да и вряд ли найдется такой человек, – добавляет она, надевая шляпку.
Фермер, желающий разделить ее горе, продолжает, неумело подбирая слова:
К тому же ты хватила через край.
Как можно материнскую утрату,
Хотя бы первенца, переживать
Так безутешно – пред лицом любви.
Слезами ты его не воскресишь…
Видя, что жена по‑прежнему отчуждена, он восклицает: “Господи, что за женщина! И все закончилось тем, что мужчина не способен говорить о собственном умершем ребенке”.
Она отвечает, что он не знает, как говорить об этом, что он бесчувствен. Она видела, как он усердно закидывал землей могилу их сына, “подбрасывая и подбрасывая песок в воздух”. Закончив копать, он пришел на кухню. Она вспоминает:
Ты мог сидеть на кухне в ботинках, запачканных землей
С могилы твоего собственного ребенка,
И говорить о повседневных делах,
Поставив лопату к стене у дверей.
Я видела…
Она утверждает, что будет переживать свою печаль иначе. Она не позволит ей рассеяться так просто.
Смертельно болен, значит, ты один
И будешь умирать совсем один.
Конечно, ближние придут к могиле,
Но прежде, чем ее зароют, мысли
Уже вернулись к жизни и живым,
К обыденным делам. Как мир жесток!
Я так не убивалась бы, когда бы
Могла хоть что поправить. Если б! Если б! [9]
Муж снисходительно отвечает, что ей станет легче, если она облегчит душу словами. Он считает, что пришло время перестать горевать: “Твое сердце освободилось. Зачем же продолжать печалиться?”
Поэма заканчивается тем, что жена открывает дверь и собирается уходить. Муж пытается удержать ее:
Куда ты собралась? Скажи! Постой!
Я силой возвращу тебя. Силком!
Восторженный, я дочитываю до конца, и только потом напоминаю себе, зачем я начал читать. Что же за ключ к внутреннему миру Ирен сокрыт здесь? Сперва я думаю о ее первом сне, в котором ей необходимо было прочитать сначала древний текст, а затем современный. Очевидно, нам необходимо было больше работать с ее переживаниями, связанными с потерей брата. Я только что понял, что его смерть оттеняла многие другие потери. Ее семья перестала быть прежней: мать, так и не сумевшая оправиться после смерти сына, пребывала в глубочайшей депрессии; отношения родителей сильно изменились.
Наверное, эта поэма была иллюстрацией того, что происходило в семье Ирен после смерти ее брата, особенно после разрыва ее родителей, которые каждый в одиночестве и абсолютно разными способами справлялись с этой утратой. Подобная ситуация – не такое уж редкое явление: у мужа и жены разные способы горевания (они следуют половым стереотипам: женщины чаще переживают горе открыто и отрицание эмоционально, в то время как мужчины – через подавление и активное отвержение). У многих супружеских пар эти два паттерна приходят в столкновение – это как раз и есть причина частых разводов после потери ребенка.
Я размышлял о связи Ирен с другими образами Фроста. Разница в восприятии размеров кладбища была блестящей метафорой: для фермера кладбищенская площадь не превосходила размеров спальни и была такой маленькой, что периметра оконной рамы было бы вполне достаточно для ее охвата. Для жены фермера эта площадь была настолько большой, что заслоняла от нее все остальное. И еще окна. Ирен была привязана к окнам. “Мне бы хотелось жить на последнем этаже высокого здания, из окна которого я могла бы видеть далеко вокруг”, – рассказала она однажды. Или она представляла, как переедет в викторианский дом на побережье, где посвятила бы все свое время созерцанию океана из окна и прогулкам вокруг дома.
Жену фермера огорчал и тот факт, что после короткого посещения могилы усопшего его друзья сразу же обращаются к своим повседневным делам. И эта тема была близка терапии Ирен. Однажды для наглядности она принесла копию картины Питера Брейгеля “Падение Икара”. “Посмотри на крестьян, – обратилась она ко мне, – которые идут прочь, не обращая внимания на мальчика, падающего с неба”. Она даже принесла поэтическое описание картины – стихотворение Одена:
К примеру, в “Икаре” Брейгеля: как все, не торопясь, отворачиваются
От несчастья; пахарь, возможно,
Слышал всплеск и крик отчаяния.
Но для него это незнаменательное событие.
Солнце осветило белые ноги, исчезнувшие в зеленой воде.
Дорогой изящный корабль, с которого, возможно, и видели что‑то необычное,‑
Мальчика, падающего с неба, ‑
Спокойно проплыл мимо.
Что еще об Ирен в “Похоронах в доме” Фроста? Погруженность матери в печаль и то, как нетерпеливо подталкивал ее отец избавиться от скорби: все это я тоже слышал в рассказах о ее семье.
Но эти наблюдения, хотя и наглядные и информативные, не объясняли, почему Ирен придавала такое значение прочтению мною этой статьи. “Ключ к тому, что пошло не так в терапии”: это были ее слова, ее обещание, и я чувствовал себя разочарованным. Наверное, я переоценил ее, думал я; на этот раз она просчиталась.
В начале нашей очередной встречи Ирен, как всегда, зашла в кабинет и сразу же направилась к своему месту, не взглянув на меня. Она устроилась на стуле, положив свою сумку на пол, а затем, вместо того чтобы уставиться в окно и сидеть несколько минут в молчании, как она это обычно делала, она быстро повернулась ко мне и спросила:
– Ты читал статью?
– Да, и мне она показалась бесценным экземпляром. Спасибо, что дала ее мне.
– И? – напомнила она.
– Это было захватывающим; я слышал, как ты рассказывала о жизни своих родителей после смерти Алена, но стихотворение с еще большей силой донесло до меня смысл этого. Теперь для меня многое стало яснее: и почему ты никогда не сможешь жить с ними снова, и насколько сильно ты идентифицируешь свою жизнь с жизнью матери, ее борьба с отцом и…
Я не смог продолжить. Выражение растущего недоверия на лице Ирен резко остановило меня. Оно было похоже на выражение лица учителя, когда тот с удивлением видит какого‑нибудь болвана, странным образом попавшего в его класс.
И вот наконец сквозь зубы Ирен прошипела:
– Фермер и его жена в стихотворении – это не мои отец и мать. Это мы – ты и я. ‑ Она замолчала и через мгновение продолжила более мягким голосом: – То есть у них, конечно, могут быть черты моих родителей, но, по существу, фермер и его жена – это ты и я в этой комнате.
Я покачал головой. Конечно! Конечно! Мгновенно каждая строчка “Похорон в доме” приобрела другое значение. Неистово закрутились мысли в голове. Еще никогда мой мозг не работал так быстро.
– Значит это Я тот, кто приносит грязь в дом? Ирен оживленно закивала.
– И Я тот, кто входит на кухню в грязных ботинках, испачканных землей?
Ирен опять кивнула. Но уже не так радостно. Наверное, быстрое понимание искупило мою вину.
– И Я тот, кто упрекает тебя за глубину печали? Кто советует тебе все забыть, кто спрашивает: “Зачем страдать, если уже почтили его память?” Это Я закапываю могилу так усердно, что песок летит во все стороны? Я наношу обиду словами? И значит, это Я пытаюсь встать между тобой и твоей печалью? И, конечно же, это Я преграждаю тебе путь в дверях и заставляю тебя проглотить пилюлю от печали?
Ирен кивнула, и по ее щекам потекли слезы. Впервые за три года отчаяния она открыто расплакалась в моем присутствии. Я протянул ей платок. И достал еще один для себя. Она взяла меня за руку. Мы снова были вместе.
Как случилось, что мы настолько отдалились? Оглядываясь назад, я понимаю, что произошло грандиозное столкновение чувствительностей: я – экзистенциональный рационалист, она – печальный романтик. Вероятнее всего, образование трещины было неизбежным; по‑видимому, наши поведенческие паттерны в трагические минуты были прямо противоположными. Как можно по‑хорошему воспринимать чудовищные события жизни? Я верю, что в глубине души Ирен знала, что есть только две, одинаково горькие, стратегии: принять ту или иную форму отречения или жить с невыносимо тревожным осознанием. Не Сервантес ли озвучил эту дилемму бессмертным вопросом Дон Кихота: “Что бы ты хотел иметь: мудрое безумство или глупое здравомыслие?”
Я имею убеждение, которое тесно связано с моим терапевтическим подходом: я никогда не считал, что тревога доводит до сумасшествия или отречение ведет к здравомыслию. Я очень долго воспринимал отречение как вред, но по возможности часто вызывал его как в терапии, так и в личной жизни. Мне приходилось не только отрекаться от всех личных иллюзий, которые сужали мое поле зрения и способствовали зависимости, но и поощрять подобные поступки моих пациентов. Я был убежден, что честная конфронтация с определенной возникающей ситуацией могла вызвать страх и трепет, но в конечном счете заживляла раны и духовно обогащала. Мой терапевтический подход, таким образом, воплотился в реплике Томаса Харди: “Если есть в мире путь к Хорошему, то это точное воплощение Плохого”.
Поэтому с самого начала терапии я говорил с Ирен голосом разума. Я поощрял ее заново разбирать со мной события, происходившие вокруг нее во время и после смерти мужа:
– Как ты узнаешь о его смерти?
– Ты будешь с ним, когда он умрет?
– Что ты будешь чувствовать?
– Кого ты позовешь?
Тем же способом мы разбирали его похороны. Я говорил, что буду присутствовать на похоронах, и, если ее друзья не задержатся на могиле, пусть будет уверена, я останусь с ней. Если бы окружающие были слишком напуганы ее мрачными мыслями, я бы сам с ними поговорил. Я пытался вывести ужас из ее ночных кошмаров.
Всякий раз, когда она выходила за границы рационального, я все же рассчитывал на ее рассудительность. Например, ее чувство вины за флирт с другим мужчиной. Она считала любое свое развлечение предательством по отношению к Джеку. Если она шла с мужчиной на пляж, в ресторан, любое другое место, где они однажды бывали с Джеком, она считала себя предательницей, оскверняющей память об их любви. Даже посещение презентации нового пятновыводителя вызывало в ней чувство вины: “Почему я жива и радуюсь происходящему, когда Джек мертв?” Она также переживала вину за то, что не была хорошей женой. В результате психотерапии она во многом изменилась: она стала мягче, стала более внимательной и нежной. “Как несправедливо по отношению к Джеку, – говорила Ирен, – что другому мужчине я смогу дать больше, чем ему”.
Снова и снова я подвергал сомнению подобные утверждения. “Где сейчас Джек?” – спрашивал я. И она всегда отвечала: “Нигде – только в памяти”. В ее памяти и в памяти других. У нее не было никаких религиозных убеждений, и она не настаивала на жизни после смерти. Поэтому я часто надоедал ей уговорами: “Если он не святой и не видит твоих "поступков, как же ты сможешь причинить ему боль, если будешь с другим мужчиной? И кроме того, – напоминал я, – Джек перед смертью ясно выразил свое желание, чтобы ты была счастлива и еще раз вышла замуж. Неужели бы он хотел, чтобы вы с дочерью захлебнулись слезами? Даже если бы его сознание все еще существовало, он не ощущал бы себя преданным; он был бы рад твоему восстановлению. В любом случае, – закончил я, – независимо от того, сохранилось ли сознание Джека или нет, такие понятия, как несправедливость и предательство, не имели бы значения”.
Временами Ирен видела ясные сны, что Джек жив – частый феномен при супружеских утратах, – и, только просыпаясь, осознавала, что это был лишь сон. Иногда она оплакивала его страдания “там”. Часто после посещений кладбища она плакала от “ужасной мысли”, что он заперт в холодном ящике. Она мечтала, что откроет холодильник – и там будет сидеть маленький Джек, с широко раскрытыми глазами, разглядывая ее. Методично и неуклонно я переубеждал ее, что его там не было, что он больше не существовал как разумное существо. Я также старался переубедить ее в том, что он за ней мог наблюдать. Опыт показывает, что супруг, понесший тяжелую потерю, ощущает, что его жизнь постоянно находится под наблюдением.
Ирен твердо держалась за Джека, часто перебирала содержимое ящиков его письменного стола, чтобы найти какой‑нибудь сувенир, когда ей необходимо было подарить дочери подарок надень рождения. Она настолько окружила себя материальными напоминаниями о Джеке, что я волновался, как бы она не превратилась однажды в мисс Хэвишем из “Больших надежд” Диккенса, в женщину, настолько сильно поглощенную горем (ее возлюбленный покинул ее прямо у алтаря), что она годами жила в паутине потерянности, никогда не снимая свадебного платья и не убирая свадебный стол. Таким образом, через терапию я убеждал Ирен отречься от прошлого, возродиться к жизни, разорвать связь с Джеком: “Сними несколько его фотографий. Измени обстановку своего дома. Купи новую кровать. Поезжай в путешествие. Сделай что‑нибудь такое, чего до этого еще не делала. Перестань говорить так много о Джеке”.
Но то, что я называл здравым смыслом, Ирен определяла как измену. Возрождение к жизни, к которому я ее призывал, по ее мнению, было изменой любви, а отчуждение от смерти – отречением от любви.
Я думал, что я тот рационалист, который ей был нужен; ей казалось, что я отравляю чистоту ее траура. Я считал, что возвращаю ее к жизни, она – что я заставляю ее отречься от Джека. Я был убежден, что вдохновляю ее на борьбу с отчаянием, она считала, что я самодовольный наблюдатель, созерцающий ее трагедию с безопасного расстояния.
Я был ошеломлен ее упрямством. Ну почему она не понимала этого? Я был крайне удивлен. Почему она не понимала, что Джек по‑настоящему мертв, что его сознание погасло? Что это не ее вина? Что она не проклята, что она не станет причиной моей смерти или смерти любого мужчины, которого полюбит? Что ей не предопределено переживать трагедии всю жизнь? Что она привязана к извращенным представлениям, потому что боится альтернативы: осознать, что живет в мире, которому абсолютно безразлично, счастлива она или нет.
Ее ранило мое непонимание: “Ну почему Ирв этого никак не поймет? Почему он не понимает, что стирает память о Джеке, оскверняет мою скорбь могильной грязью и оставляет лопату на кухне? Почему он не хочет понять, что я всего лишь хочу смотреть на могилу Джека из окна? Что он приводит меня в бешенство, стараясь вырвать его из моего сердца? Что бывает время, когда, несмотря на мою потребность в нем, я готова уйти просто подышать свежим воздухом? Что я тону, я цепляюсь за обломки моей жизни, а он старается расцепить мои пальцы? Почему он не видит, что Джек умер от моей пагубной любви?”
Как мне помнится, в тот вечер в моей памяти всплыл образ другой пациентки, с которой я работал несколько десятилетий назад. Всю свою жизнь она была погружена в длительную, неприятную борьбу со своим все отрицающим отцом. Однажды он подвозил ее, когда она, покидая дом, отправилась в колледж, и, как всегда, портил поездку своим непрерывным ворчанием об отвратительном, замусоренном потоке вдоль дороги. Ей же с другой стороны виделся прекрасный чистый, нетронутый ручей. Годами позже, после его смерти, ей случилось побывать в тех местах снова, и она заметила, что по обеим сторонам дороги имелось два ручья. “Но в этот раз я вела машину, – печально сказала она, – и поток, который я увидела с водительского места, был именно таким – безобразным и грязным, каким его описывал мой отец”.
Все составляющие этого урока – тупик, в который я зашел с Ирен, ее настойчивость в том, чтобы я прочел поэму Фроста, воспоминания, связанные с рассказом моей пациентки об автомобильной поездке, – были очень поучительными. С поразительной ясностью я вдруг понял, что для меня настало время внимать, отложив в сторону мой личный взгляд на жизнь, перестать навязывать мой стиль и мои убеждения пациентам. Настало время посмотреть из окна Ирен.
Урок шестой: никогда не пытайся узнать, по ком звонит колокол.
Однажды, на четвертом году терапии, Ирен пришла на встречу с огромным портфелем. Она поставила его на пол, медленно расстегнула и достала оттуда большой холст, держа его обратной стороной ко мне, чтобы я ничего не увидел.
– Я говорила тебе, что посещала курсы рисования? – спросила она непривычно игривым тоном.
– Нет, я впервые слышу об этом. Но это здорово.
Я не обиделся, что она сказала об этом как бы между прочим; любой терапевт привыкает к забывчивости пациентов, когда дело касается позитивных моментов их жизни. Возможно, непонимание пациентом того, что терапия ориентирована не только на негативное и психотерапевт хотел бы слышать не только о проблемах, – это лишь недоразумение. Кроме того, существуют пациенты, зависимые от терапии, предпочитающие скрывать свое позитивное развитие, чтобы терапевты не заподозрили, что те больше не нуждаются в помощи.
И вот, затаив дыхание, Ирен развернула полотно.
Предо мной предстал натюрморт: простая деревянная ваза с лежащими в ней лимоном, апельсином и авокадо. Потрясенный ее изобразительным мастерством, я был разочарован ее выбором объектов, таких однозначных и бессмысленных. Я надеялся на что‑то более уместное в нашей совместной работе. Но притворился заинтересованным и попытался похвалить ее. Но вскоре понял, что это получилось не очень убедительно. На следующей сессии она заметила:
– В течение следующих шести месяцев я буду посещать занятия по искусству.
– Это прекрасно. Те же учителя?
– Да, те же учителя, тот же класс.
– Ты говоришь о классе натюрморта?
– Ты, конечно, надеялся, что нет. Вообще‑то есть кое‑что, что ты от меня скрыл.
– Что же это? – Я начал чувствовать себя неуютно. – Каковы твои догадки?
– Вижу, что задела тебя, – ухмыльнулась Ирен. – Ты, наверное, никогда не прибегал в своей практике к ответу вопросом на вопрос.
– Тебя не обманешь, Ирен. Ну хорошо, правда в том, что твоя картина вызвала у меня два разных чувства. – Здесь я прибегнул к приему, которому всегда обучаю студентов: когда два разных чувства приводят тебя к дилемме, наилучший выход из ситуации – выразить свои чувства и дилемму. – Сначала, как я и сказал, я восхитился твоей работой. У меня самого нет никакого художественного таланта, и я очень уважаю работы такого уровня. – Я колебался, и Ирен подтолкнула меня:
– Но…
– Но… я… мне настолько приятно, что ты нашла себя в рисовании, что я боялся сказать тебе хоть малейшее слово критики. Но я надеялся, что ты могла бы посвятить свои занятия искусством чему‑нибудь такому, что могло – как бы это лучше сказать – усилить нашу терапию.
– Усилить?
– Мне нравится, что ты всегда отвечаешь мне, даже если я спрашиваю тебя о том, что происходит в твоей голове. Иногда это мысль, но чаще ты описываешь некий мысленный образ. С твоей удивительной визуальной интуицией я надеялся, что ты сможешь соединить свое искусство и терапию в какой‑нибудь необычной манере. Я не знаю, наверное, я ждал, что картина будет более выразительной, более очищающей, освещающей. Может быть, через свои полотна ты могла бы проработать пугающие тебя моменты. Но натюрморт, хотя и прекрасно исполненный технически, такой… э… безмятежный, он так далек от боли и конфликта.
Видя округлившиеся глаза Ирен, я добавил:
– Ты спрашивала о моих ощущениях, и я тебе ответил. Мне нечего скрывать. По сути, я могу ошибаться, критикуя то, что дает тебе успокоение.
– Ирв, мне кажется, ты не все понимаешь о картине. Ты знаешь, как французы называют натюрморт? Я покачал головой.
– Nature morte.
– Мертвая природа.
– Правильно. Писать натюрморт – это размышлять о смерти и распаде. Когда я рисую фрукт, я наблюдаю, как умирают день за днем мои модели. Когда я рисую, я нахожусь очень близко к нашей терапии, зная, что Джек превратился в пыль, уверенная, что смерть существует во всем живущем.
– Во всем? – рискнул я.
Она кивнула.
– В тебе? Во мне?
– Во всем, – ответила она, – особенно во мне.
Наконец‑то! Я пытался вытянуть из Ирен последнее Утверждение, или что‑то похожее на него, с самого начала нашей работы. Оно означало новый этап в терапии, как я узнал из сна, о котором она рассказала несколькими неделями позже.
“Я сижу за столом, похожим на стол в каком‑нибудь министерском кабинете. За ним также сидят и другие, а ты сидишь во главе. Мы над чем‑то работаем – наверное, обсуждаем выдачу стипендий. Ты просишь принести тебе какие‑то бумаги. Это маленькая комната, а чтобы дойти до тебя, мне приходится пройти очень близко к огромным, от пола до потолка окнам, которые открыты настежь. Я легко могу выпасть из окна и просыпаюсь с мыслью: как же ты мог подвергнуть меня такой опасности?”
Эта основная тема – она находится в опасности, а я не защищаю ее – начала набирать обороты. Спустя несколько ночей ей приснилось два парных сна – один сразу же вслед за другим. (Парные сны могут нести одну и ту же информацию. Наш друг – навеватель снов – развлекает себя составлением нескольких вариаций на захватывающую тему.)
Первый:
“Ты – руководитель группы. Должно произойти что‑то ужасное – я точно не знаю что. Но ты ведешь группу в лес, в какое‑то защищенное место. Дорога становится каменистой, узкой и темной. Потом она и вовсе исчезает. Ты тоже исчезаешь, а мы остаемся одни, потерянные и напуганные”.
Второй:
“Мы – та же группа – все в комнате отеля, и снова надвигается какая‑то опасность. Может быть, нападение, может быть, торнадо. И снова ты уводишь нас от опасности. Мы идем по пожарной лестнице с черными ступеньками. Мы карабкаемся и карабкаемся, но она ведет в никуда. Она лишь заканчивается потолком. И мы вынуждены повернуть обратно”.
Затем были другие сны. В одном мы с ней сдаем экзамен вместе, и никто из нас не знает ответа. В другом она смотрит на себя в зеркало и видит на щеках красные пятна разложения. Еще в одном она танцует с подвижным молодым человеком, который внезапно бросает ее на танцевальной площадке. Она поворачивается к зеркалу и в ужасе отскакивает, увидев свое лицо, покрытое воспаленной рябой кожей с ужасными кровяными волдырями.
Послание этих снов стало ясно как день: опасность и разложение неизбежны. И я не спаситель – напротив, я нереален и бессилен. Скоро другое, особенно запоминающееся сновидение добавило еще один компонент.
“Ты мой проводник в пустыне в незнакомой стране – то ли в Греции, то ли в Турции. Ты за рулем открытого джипа, и мы спорим о том, что нам посетить. Мне хочется посмотреть старинные живописные развалины, а ты хочешь поехать в современный, душный город. Ты ведешь машину так быстро, что я пугаюсь. Вдруг наш джип начинает терять опору под собой, нас качает вперед и назад над каким‑то обрывом. Я смотрю вниз и не могу разглядеть дна”.
Этот сон, содержащий прекрасные старинные развалины и современный город, – наш затяжной спор об “измене и причине”. Какую дорогу выбрать? Старинные развалины (первый текст) ее прежней жизни? Или прискорбно уродливую жизнь, которую она видит впереди? Но, кроме этого, он предлагал и новый аспект нашей совместной работы. В более ранних снах я был неумелым: я терял тропинку в лесу, вел Ирен по пожарной лестнице к потолку, в котором нет выхода, не знал, что отвечать на экзамене. Но в этом сне я не только неумелый и не способный ее защитить, но я еще и опасный ‑ я веду Ирен на край смерти.
Несколько дней спустя ей приснилось, что мы обнимаемся и нежно целуемся. Но то, что начиналось так сладко, обернулось ужасом – мой рот начал раскрываться все шире и шире, и я проглотил ее. “Я боролась и боролась, – сказала она, – но не смогла высвободиться”.
“Никогда не пытайся узнать, по ком звонит колокол; он звонит по тебе”. Так писал Джон Донн [10] около четырехсот лет назад; в этих теперь хорошо всем известных строках похоронные колокола звонят не только по умершим, но и по тебе, и по мне – оставшихся жить, но ненадолго. Эта догадка стара как мир. Четыре тысячи лет назад, в эпоху Вавилонского царства, Гильгамеш [11] понял, что смерть его друга, Энкиду, предвещала его собственную: “Энкиду ушел во тьму и не слышит меня. Когда я умру, не стану ли я похож на Энкиду? Печаль завладела моим сердцем. Я боюсь смерти”.
Смерть других сталкивает нас лицом к лицу с нашей собственной смертью. Хорошо ли это? Следует ли провоцировать такое столкновение в психотерапии скорби? Вопрос: к чему чесать там, где не зудит? К чему раздувать пожар тревоги и страха смерти у переживших потерю людей, уже и так сломленных встречей с нею? Ответ: к тому, что столкновение с чьей‑либо смертью может способствовать позитивным личностным переменам.
Мое первое понимание терапевтического потенциала столкновения со смертью в терапии скорби пришло несколько десятилетий назад, когда шестидесятилетний мужчина описал мне свой кошмар в ночь после того, как он узнал, что цервикальный [12] рак у его жены опасно развился и не поддается лечению. В кошмаре он бежит сквозь разрушающийся дом – разбитые окна, обрушивающиеся стены, протекающая крыша, – преследуемый монстром Франкенштейна. Он как может защищается: толкает, пинает, бьет монстра и в конце концов сбрасывает его с крыши. Но‑и это основное послание сна – монстра не остановить: он появляется снова и снова и продолжает преследование. Его не удивляет, что он видит монстра, пробравшегося в его сны еще когда ему было десять лет, вскоре после похорон его отца. Чудовище несколько месяцев мучило его по ночам и в конце концов исчезло, чтобы вновь появиться спустя пятьдесят лет, при известии о смертельном заболевании его жены. Когда я спросил, что он думает по поводу своего сна, он сказал: “За моей спиной будто тысячи пройденных миль”. Тогда я понял, что смерть других – сначала отца, а теперь и надвигающаяся смерть его жены – поставила его перед лицом его собственной. Монстр являлся олицетворением смерти, а разрушающийся дом символизировал его старение и болезни.
После этого разговора я понял, что открыл новую великолепную идею, чрезвычайно важную для терапии скорби. Вскоре я начал выискивать ее в каждом случае работы с пациентом, пережившим утрату. Необходимо было подтвердить мою гипотезу, и за несколько лет до встречи с Ирен мы с моим коллегой, Нортоном Либерманом, погрузились в проект изучения тяжелой утраты.
Из восьмидесяти изученных нами пациентов, переживших тяжелую утрату, существенная часть – почти тридцать один человек – сообщила об усиливающемся беспокойстве по поводу собственной кончины, и это волнение было, в свою очередь, существенно связано с процессом личностного роста. Хотя возвращение на предыдущий уровень функционирования рассматривалось как конечный этап переживания потери, наши данные предполагали, что некоторые вдовы и вдовцы идут дальше: в результате возникающей конфронтации они становятся более зрелыми и мудрыми.
Еще задолго до рождения психологии как самостоятельной дисциплины были выдающиеся психологи в лице великих писателей, и литература богата примерами того, как осознание смерти ускоряет преобразование личности. Вспомним экзистенциальную шоковую терапию Эбинизера Скруджа из “Рождественской песни” Диккенса. Ошеломляющее личностное изменение Скруджа является не результатом рождественского настроения, а его столкновения с собственной смертью. Вестник, придуманный Диккенсом (Дух Будущих Святок) применяет мощную экзистенциальную шоковую терапию: он переносит Скруджа в будущее, где тот наблюдает свои последние часы жизни, подслушивает, как другие с легкостью отделываются от мыслей о его смерти, и видит незнакомцев, обсуждающих его материальное положение. Трансформация Скруджа обнаруживается непосредственно после сцены, в которой он, стоя на коленях перед своим надгробным камнем, ощупывает буквы на нем.
Или, к примеру, Пьер из романа Толстого, потерянная душа, бродящая бесцельно по первым девятистам страницам “Войны и мира”, пока его не захватывают в плен солдаты Наполеона; он видит пятерых мужчин, направивших на него винтовки в ожидании команды открыть огонь, но вдруг получает одну минуту отсрочки. Эта близость смерти преобразует Пьера, и он проходит заключительные триста страниц с интересом, целью и пониманием ценности жизни. Наверное, еще более замечателен Иван Ильич из романа Толстого, подлый бюрократ, умирающий от брюшного рака. Он успокаивает себя ошеломляющим озарением: “Я умираю так тяжело, потому что прожил плохую жизнь”. И в несколько последних дней Иван Ильич подвергается потрясающим внутренним изменениям, достигает такой степени великодушия, сочувствия и целостности, каких не знал за всю прожитую жизнь.
Таким образом, противостояние неизбежности смерти может сделать человека более мудрым и открыть ему новую глубину бытия. Я работал со многими группами умирающих пациентов, которые соглашались, чтобы студенты наблюдали за ними, потому что были уверены, что смогут многому их научить. “Как жаль, – слышал я от этих пациентов, – что нам пришлось ждать, пока наши тела не будут изъедены раком, чтобы научиться жить”. В главе “Странствия с Паулой” я описал, как несколько человек, у которых была терминальная стадия рака, набирались мудрости, сталкиваясь лицом к лицу со смертью.
А как же обычные психически здоровые пациенты в психотерапии – мужчины и женщины, не имеющие никакой смертельной болезни и не стоящие перед расстрелом? Как мы, клиницисты, можем показать им правду об их настоящей ситуации? Я стараюсь найти все достоинства возникающей ситуации, обычно называемой “пограничный опыт”, которая дает возможность заглянуть в глубинные уровни существования. Очевидно столкновение с собственной смертью является наиболее действенным пограничным опытом, но есть и другие – серьезные болезни, разводы, неудачи в карьере, важные жизненные события (выход на пенсию или увольнение уход детей из дома, кризис среднего возраста, юбилеи) и, конечно же, вынужденный опыт утраты близких людей.
Соответственно, моя стратегия терапии с Ирен была направлена на использование рычагов возникающей конфронтации, когда это только было возможно. Снова и снова я предпринимал попытки отвлечь ее внимание от смерти Джека и привлечь к ее собственной жизни и смерти. Когда она, например, говорила о жизни лишь ради дочери, об ожидании смерти, о проведении остатка жизни в созерцании фамильного склепа из своего окна, я мог рефлексивно сказать что‑то вроде: “Но не выбираешь ли ты тогда путь растраты своей жизни – единственной жизни, какая у тебя когда‑либо будет?”
После смерти Джека Ирен часто снились сны, в которых ее постигает бедствие – обычно сильные пожары, – от которого страдает вся ее семья. Она рассматривала эти сны как размышление над смертью Джека и над концом их семейной жизни.
– Нет, нет, ты кое‑то пропустила, – отвечал я. – Этот сон не только о Джеке и семье – это также сон о твоей собственной смерти.
В течение первых лет Ирен быстро опровергала такие комментарии:
– Ты не понимаешь. У меня было слишком много потерь, слишком тяжелые травмы, слишком много смертей.
Она искала пути отделаться от боли, и смерть казалась ей спасением, а не угрозой. Это распространенная позиция: многие страдающие люди считают смерть волшебным миром покоя. Но смерть – это не состояние покоя, это также не то место, где люди продолжают жизнь без боли; это угасание сознания.
Возможно, я не был внимателен при оценке ее ситуации. Может быть, я ошибался, как это обычно бывает, когда опережаешь своего пациента. Или Ирен была просто из тех, кто не способен извлечь для себя пользу из столкновения с существующей ситуацией. В любом случае, обнаружив, что двигаюсь в никуда, в конце концов я отказался от этой тактики и начал искать другие способы помочь ей. Затем, несколько месяцев спустя, когда я меньше всего этого ожидал, произошел эпизод с натюрмортом и последовавшими за ним образами и снами, обильно наполненными осознанием смерти.
Теперь ситуация была самой подходящей, и она стала воспринимать мои интерпретации. Ей приснился еще один сон, настолько захватывающий, что она не могла выкинуть его из головы.
“Я стою на крытом крыльце маленького летнего домика и вижу угрожающее чудовище с огромной пастью, ожидающее неподалеку от парадной двери. Я в ужасе. Я беспокоюсь о том, что может случиться с моей дочерью. Чтобы умилостивить чудовище, я бросаю ему из дверей красное клетчатое чучело животного. Чудовище принимает жертву, но остается на месте. Его глаза горят. Он пристально смотрит на меня. Я – его добыча”.
Ирен сразу же определила жертвенное животное: “Это Джек. На нем была пижама такого же цвета в ту ночь, когда он умер”. Сновидение было настолько сильным, что она не могла забыть его в течение нескольких недель. И она постепенно поняла, что, хотя сначала и перенесла свой страх смерти на дочь, на самом деле она сама и была добычей смерти. “Это меня так отчаянно ищет чудовище, а значит, есть только один вариант прочтения этого сна”. Она заколебалась. “Сон показывает, что бессознательно я воспринимаю смерть Джека как жертву для того, чтобы я могла жить дальше”. Она была потрясена своими мыслями, но еще больше тем, что смерть поджидала не кого‑то другого, не дочь, а ее.
Используя эту новую систему, мы постепенно повторно исследовали некоторые из наиболее постоянных и болезненных чувств Ирен. Мы начали с чувства вины, которое мучило ее, как и большинство супругов, переживших смерть другого. Однажды я лечил женщину, которая неделями ни на минуту не покидала больничную палату мужа, не приходившего в сознание. Однажды, когда она на несколько минут выскользнула из палаты, чтобы купить себе газету, ее муж умер. Вина за то, что она оставила его в одиночестве, несколько месяцев мучила ее. Ирен же была неистощима в своем внимании к Джеку: она ухаживала за ним с поразительной преданностью и отказывалась от любых моих уговоров сделать перерыв, дать себе отдых, поместив его в больницу или воспользовавшись услугами медсестры. Вместо этого она взяла для него из больницы кровать, поставила ее рядом со своей и спала так до того момента, когда он умер. Но до сих пор она думала, что могла бы сделать для него больше:
– Мне не следовало вообще отходить от его кровати. Я должна была относиться к нему нежнее, внимательнее, быть ближе.
– Наверное, вина – это средство отрицания смерти, – убеждал я. – Возможно, подтекст твоего “Я должна была сделать больше” такой: если бы все пошло по‑другому, ты бы смогла предотвратить его смерть.
Возможно также, что отрицание смерти было подтекстом многих ее заблуждений: она – единственная причина смертей тех, кто любил ее; она несет несчастье, от нее исходит черная, ядовитая, смертельная аура; она зло; ее любовь убивает; ее постоянно что‑то или кто‑то наказывает за непростительные ошибки. Наверное, все эти заблуждения должны были скрыть жестокие факты жизни. Если она на самом деле проклята или несет ответ за все эти смерти, это должно значить, что смерть не неизбежна; что у нее есть причины, которых можно избежать; что жизнь не каприз; что человек не является заброшенным в этот мир одиночкой; что есть какой‑то закон, хотя и непостижимый, космический паттерн; и что Вселенная наблюдает за нами и судит нас.
Временами Ирен могла говорить открыто о возникающем страхе и переформулировать причины своего отказа от новых знакомств, особенно с мужчинами. Раньше она утверждала, что избегает встреч, в том числе встреч со мной, чтобы избежать боли очередной потери. Теперь она предполагала, что боялась не столько потери других, сколько напоминания о быстротечности жизни.
Я познакомил ее с некоторыми взглядами Отто Ранка на людей со страхом смерти. Говоря, что “некоторые индивиды отказываются от ссуды жизни, чтобы не быть в долгу перед смертью”, Ранк, экзистенциально ориентированный ученик Фрейда, предельно точно описал дилемму Ирен. “Посмотри, как ты отказываешься от жизни, – упрекал я ее, – бесконечно глядя в окно, избегая любви, избегая встреч, погружаясь в то, что напоминает о Джеке. По твоему мнению, никакое морское путешествие не будет для тебя радостным. Зачем отдаваться чему‑либо, зачем заводить друзей, проявлять интерес к кому‑либо, если плавание все равно закончится? – таковы твои нынешние взгляды”.
Готовность Ирен согласиться с тем, что сейчас ее жизнь неполноценна, предвещала перемены. Учитывая и то, что если раньше она говорила о тайном обществе людей, которые потеряли тех, кого любили, то теперь она предложила другое сообщество, куда входили бы те посвященные, которые, как она сказала, “были уверены в своем предназначении”.
Из всех ее изменений самым приятным стало возрастание интереса к нашим встречам. Я был важен для Ирен. В этом у меня не оставалось никаких сомнений: было время, когда она говорила, что живет только ради наших встреч. И до сих пор, оставаясь близкими друг другу, как мне кажется, мы шли навстречу окольными путями. Она пыталась, как ранее рассказывала во время терапии, держать меня вне времени, знать обо мне как можно меньше, представлять, что у меня нет никакой жизненной истории. Теперь все стало иначе.
В начале терапии, во время поездки к родителям, Ирен наткнулась на старую иллюстрированную книгу Фрэнка Баума, которую она читала еще ребенком. Вернувшись, она сказала, что внешне я странно похож на Волшебника страны Оз. Теперь, спустя три года после начала терапии, она вновь просмотрела иллюстрации и обнаружила, что сходство уже не такое очевидное. Я ощущал, что происходит что‑то очень важное, когда она сказала:
– Может быть, ты не волшебник. Может быть, волшебников вообще нет. Возможно, – продолжала она, как бы размышляя вслух, – мне бы следовало принять твою идею, что мы, я и ты, всего лишь попутчики, путешествующие по этой жизни, и мы оба прислушиваемся к звону колокола.
Я не сомневался, что начался новый период в терапии, когда однажды на четвертом году она вошла в кабинет, глядя прямо на меня, села, еще раз окинув меня взглядом, и сказала:
– Очень странно, Ирв, но ты кажешься мне каким‑то маленьким.
Урок седьмой: я тебя отпускаю.
Наша последняя встреча была ничем не примечательна, кроме двух обстоятельств. Во‑первых, Ирен позвонила, чтобы уточнить время встречи. Хотя время наших занятий часто менялось из‑за расписания ее операций, она не забыла его ни разу за пять лет. Во‑вторых, перед встречей у меня сильно разболелась голова. У меня изредка были головные боли, но я подозревал, что это каким‑то образом было связано с опухолью мозга Джека, которая впервые дала о себе знать серьезной головной болью.
– Всю неделю меня интересовало вот что, – начала Ирен. – Ты планируешь написать о каком‑нибудь аспекте нашей совместной работы?
У меня не было мысли писать об этом, потому что в то время я думал над идеей романа. Я сказал ей об этом, добавив:
– Так или иначе, я никогда не описывал случаи из терапии, до того, как они завершились. Работая над книгой “Палач любви” [13], я годами, а то и десятилетиями ожидал, прежде чем находил возможным описать историю лечения того или иного пациента. И хочу тебя заверить, что если когда‑нибудь решу написать о тебе, то в первую очередь спрошу твоего разрешения на это…
– Нет‑нет, Ирв, – перебила она, – меня не беспокоит, что и как ты пишешь. Меня волнует, что ты не пишешь. Я хочу, чтобы мою историю узнали. Есть столько всего, чего терапевты еще не знают, работая с людьми, пережившими утрату. Я хочу, чтобы ты поведал им не то, что я узнала, а то, чему ты научился.
В последующие после завершения работы недели я не только скучал по Ирен, но снова и снова вспоминал о ее словах. И вскоре, потеряв интерес к другим проектам я начал делать наброски, сначала от случая к случаю, а затем со все более возрастающим интересом.
Несколько недель спустя мы встретились с Ирен на заключительной, контрольной сессии. Она переживала из‑за прекращения наших отношений. Например, ей казалось, что мы все еще встречаемся; она представляла как мы разговариваем, ей казалось, что она видит в толпе мое лицо или слышит мой голос, окликающий ее. Ко времени нашей встречи ее печаль, связанная с окончанием терапии, прошла, и она наслаждалась жизнью, в которой отношения с другими и с собой у нее складывались весьма благополучно. Больше всего ее поразило изменение визуального восприятия: все стало живым, тогда как в течение нескольких лет окружающие ее предметы имели как бы всего два измерения. Кроме того, ее отношения с мужчиной по имени Кевин, которого она встретила в последний месяц терапии, не только выдержали испытание временем, но и процветали. Когда я упомянул, что изменил решение и заинтересовался описанием нашей терапии, она обрадовалась и согласилась прочитать первые наброски.
Несколько недель спустя я послал Ирен черновик первых тридцати страниц, предложив встретиться и обсудить их в одном из кафе в Сан‑Франциско. Я был необычайно напряжен, когда вошел в кафе и огляделся в поисках ее. Увидев ее до того, как она увидела меня, я медленно направился к ней. Мне хотелось полюбоваться ею издалека – ее свитером и брюками пастельного цвета, ее непринужденной позой, когда она потягивала капуччино, проглядывая газету. Я подошел. Увидев меня, она встала, обняла меня и поцеловала в щеки, как это делают старые добрые друзья, – каковыми мы и были. Я заказал себе капуччино. После того как я сделал первый глоток, Ирен улыбнулась и достала бумажный платок, чтобы промокнуть белую пену, оставшуюся у меня на усах. Мне понравилась ее забота обо мне и эти легкие прикосновения платком.
– Вот теперь, – сказала она, закончив вытирать меня, – намного лучше. Никаких белых усов. Я не хочу, чтобы ты старел раньше времени.
Затем, достав из портфеля мою работу, она сказала:
– Мне это нравится. Как раз то, что, я надеялась, ты и напишешь.
– А я надеялся, что как раз это ты и скажешь. Но сначала, может, стоит поговорить о проекте в целом? – Я сказал ей, что, пересмотрев работу, решил законспирировать Ирен, чтобы никто не смог ее узнать. – Как ты смотришь на то, чтобы быть изображенной в образе мужчины, занимающегося искусством?
Она покачала головой:
– Я хочу быть сама собой. Мне нечего скрывать, нечего стесняться. Мы оба знаем, что я не умственно отсталая: я страдала.
У меня был еще один повод для беспокойства, связанный с идеей книги, и я решил облегчить душу.
– Ирен, позволь я расскажу тебе одну историю. Я рассказал ей о Мэри, моей близкой подруге, очень хорошем и сострадательном психотерапевте, и о ее пациенте, Говарде, с которым она работала в течение десяти лет. С Говардом чудовищно обращались в детстве, и она предприняла колоссальные усилия, чтобы воскресить его. В первый год психотерапии его несколько раз госпитализировали после попыток самоубийства, а также с тяжелейшей анорексией. Она была всегда рядом, изумительно работала и так или иначе провела его через все, включая окончание школы, колледжа и школы журналистов.
– Ее преданность поражала, – рассказывал я. – Порой она встречалась с ним семь раз в неделю – и даже снизила для него оплату за сеансы. Я часто предостерегал ее, говорил, что она слишком много отдает ему и ей необходимо больше жить собственной жизнью. Офис располагался у нее в доме, и ее муж был категорически против вторжения Говарда в их жизнь и возражал против того, чтобы Мэри встречалась со своим пациентом по выходным и вообще тратила на него столько времени и сил. Случай Говарда был очень показателен, и каждый год Мэри проводила с ним сеанс психоанализа перед группой студентов‑медиков в качестве части базового курса психиатрии. На протяжении долгого времени, наверное, лет пяти, она трудилась над учебником по психотерапии, в котором описание терапии с Говардом играло важную роль. В каждой главе обсуждался определенный аспект (конечно же, сильно замаскированный) ее работы с ним. Говард был благодарен ей за все ее труды и дал свое согласие на участие в занятиях со студентами и использование его истории в книге.
Наконец книга была завершена, и осталось лишь опубликовать ее, когда Говард (теперь известный журналист, женатый и имеющий двоих детей) внезапно передумал и отказался от своего разрешения. В коротком письме он объяснил, что хотел бы оставить эту часть своей жизни в прошлом. Мэри попросила аргументировать его решение, но он отказался вдаваться в детали и в конечном итоге порвал с ней все отношения. Мэри была вне себя: все эти годы она посвятила книге – и в результате должна была похоронить ее. Долгие годы она оставалась озлобленной и угнетенной.
– Ирв, Ирв, я поняла, куда ты клонишь, – сказала Ирен, касаясь моей руки, чтобы остановить меня. – Я понимаю, что ты не хочешь повторить путь Мэри. Я тебя уверяю: я не просто даю свое согласие на описание своей истории; я прошу тебя написать ее. Я разочаруюсь, если ты не сделаешь этого.
– Это звучит серьезно.
– Именно это я и хочу сказать. Я уже говорила о многих терапевтах, которые не знают, как работать с людьми, перенесшими тяжелую утрату. Ты научился из нашей совместной работы, научился многому, и я не хочу, чтобы на тебе все закончилось.
Заметив мои поднятые от удивления брови, Ирен добавила:
– Да, да, я наконец‑то поняла. Ты не всегда будешь рядом.
– Хорошо, – сказал я, вынимая блокнот, – я согласен, что узнал очень много из нашей работы, и я изложил свое видение на этих страницах. Но мне хотелось бы, чтобы был услышан и твой голос, Ирен. Могла бы ты сформулировать основные моменты, которые нельзя упустить?
Ирен возразила:
– Ты знаешь их так же хорошо, как и я.
– Мне необходимо знать твое мнение. Я уже говорил тебе раньше, что моей первой идеей было – писать вместе, но раз ты не хочешь этим заниматься, помоги мне сейчас. Скажи мне, с твоей точки зрения, что было настоящим сосредоточием, ядром нашей работы?
– Твое присутствие [14], – вдруг сказала она. – Ты всегда был здесь. Сидел, подавшись вперед, добиваясь близости. Точно так же, как я, когда вытирала следы капуччино с твоих усов минуту назад…
– Близости с тобой?
– Верно! Но в хорошем смысле. И не в каком‑то воображаемом, метафизическом аспекте. Мне нужно было только одно: чтобы ты был рядом и был готов противопоставить себя той смертоносной атмосфере, которую я создала вокруг себя. Это было твоей задачей.
Терапевты обычно не понимают этого, – продолжила она. – Ни один из них, смог только ты. Мои друзья не могли остаться со мной. Они были слишком заняты чтобы скорбеть о Джеке, или держались подальше от этого болота, или старались похоронить свой страх смерти, или требовали – именно требовали, ‑ чтобы я чувствовала себя счастливой спустя год после его смерти.
Это то, что у тебя получалось лучше всего, – продолжала Ирен. Она говорила быстро, плавно, прерываясь лишь, чтобы сделать глоток кофе. – Ты нашел силы, чтобы остаться. Ты был связан со мною. Ты не просто находился рядом. Ты продолжал подталкивать меня, вынуждая говорить обо всех этих, порой ужасных, вещах. И если я не делала этого, ты старался догадаться – очень тактично, надо отдать тебе должное, – что я чувствовала.
Твои действия были очень важны – одни слова не помогли бы. И, конечно, одним из лучших твоих поступков было то, что ты позволил обращаться к тебе в любое время, помимо запланированных встреч, всякий раз, когда я почувствую, что ужасно зла на тебя.
Она остановилась, и я посмотрел в свой блокнот.
– Еще какие‑нибудь полезные замечания?
– Помнишь похороны Джека? Даже находясь очень далеко в длительной поездке, ты позвонил мне, чтобы узнать, как я справляюсь. Ты протягивал мне руку, когда я нуждалась в ней. Для меня это было важно, особенно когда умирал Джек. Иногда мне казалось, что, если бы не твоя рука помощи, меня бы поглотило небытие. Странно, что я долгое время представляла тебя волшебником, который знает наперед все, что должно произойти. Этот твой образ начал тускнеть лишь несколько месяцев назад. Но, кроме этого, у меня все время было противоположное чувство – чувство, что у тебя нет ни сценария, ни правил, ни какого бы то ни было плана. Казалось, ты импровизировал на месте.
– Какие чувства вызывали у тебя эти импровизации? – спросил я, быстро записывая за ней.
– Иногда было очень страшно. Мне хотелось, чтобы ты был Волшебником страны Оз. Я потерялась, и мне хотелось, чтобы ты мог указать мне дорогу в Канзас. Иногда я подозрительно относилась к твоей неуверенности. Меня всегда интересовало, была ли твоя импровизация настоящей или это был обман, иллюзия импровизации, хитрость волшебника.
Еще одно: ты знал, как сильно я настаивала на том, что я должна знать и понимать, каково мое положение. В связи с этим, я думаю, что твоя импровизация была планом – этаким хитрым планом – как умиротворить меня.
И еще одна мысль… Ты хочешь, чтобы я продолжала в том же духе, Ирв?
– Да‑да. Продолжай.
– Когда ты рассказывал мне о других вдовах или своих исследовательских находках, я знаю, ты пытался подбодрить меня, и иногда благодаря этому я понимала, что нахожусь в центре событий, что могу пройти через это, так же, как это сделали другие женщины. Но в основном подобные комментарии унижали меня. Ты как будто пытался сделать меня заурядной, такой же, как все. Но я никогда не чувствовала себя заурядной во время импровизаций. Тогда я была необычной, уникальной. Мы были людьми, которые вместе ищут свой путь.
– Что еще было полезным?
– Самые простые вещи. Ты, наверное, даже не помнишь, но в конце одного из наших первых сеансов, когда я выходила из кабинета, ты положил руку мне на плечо и сказал: “Я хочу увидеть это твоими глазами”. Я никогда этого не забуду – это была мощная поддержка.
– Я помню это, Ирен.
– Особенно помогало, когда ты временами прекращал попытки анализировать или интерпретировать и говорил что‑нибудь простое и откровенное, например: “Ирен, ты живешь в кошмаре – в одном из наиболее жутких, какие я только могу себе представить”. Но лучше всего было, когда ты добавлял – правда, не так часто, – что ты восхищаешься мною и уважаешь меня за мое отважное упорство.
Обдумывая, что бы сказать сейчас о ее мужестве, я поднял глаза и увидел, как она смотрит на часы, и услышал ее слова:
– О господи, мне пора бежать!
Итак, встречу заканчивала она. Как низко я пал! На мгновение у меня возникло озорное желание закатиться в поддельной истерике и заставить ее остаться со мной, но решил, что не стоит ребячиться.
– Я знаю, что ты думаешь, Ирв.
–Что?
– Ты, наверное, нашел это забавным, что я, а не ты, заканчиваю сессию.
– Ты права, Ирен. Как обычно.
– Ты посидишь здесь еще пару минут? Я встречаюсь с Кевином на улице, мы договаривались позавтракать вместе, и могу позвать его сюда, чтобы он встретился с тобой. Мне этого очень хотелось бы.
Ожидая возвращения Ирен с Кевином, я пытался сопоставить ее мнение о терапии с моим собственным. Она считала, что в основном я помог тем, что был рядом, “присутствовал”, был верен ей, не отмахивался от нее, что бы она ни говорила и что бы ни делала. Я помог ей, протянув руку, я импровизировал, поддерживал ее в этих суровых испытаниях и обещал смотреть на все ее глазами.
Меня задело такое упрощение. Несомненно, мой подход к терапии был более сложным и комплексным! Но чем больше я думал об этом, тем больше понимал, что Ирен была абсолютно права.
Скорее всего, она была права в отношении “присутствия” – ключевой идеи моей психотерапии. С самого начала я решил, что мое присутствие – это самое эффективное, что я мог предложить Ирен. И это означало не просто быть хорошим слушателем, поощрять катарсис или утешать ее. Это означало, что я должен был стать как можно ближе к ней, должен был сосредоточиться на “пространстве между нами” (фраза, которую я использовал фактически каждый час наших встреч с Ирен), на подходе “здесь и сейчас”, на отношении между ней и мною здесь (в этом офисе) и сейчас (в данный момент).
Фокусирование на “здесь и сейчас” – это один из основных методов работы с пациентами, испытывающими проблемы во взаимоотношениях, но в случае с Ирен причина применения этого принципа была совершенно иной. Согласитесь: разве это не абсурд и не грубость требовать от женщины, находящейся в чрезвычайной ситуации (умирающий от опухоли мозга муж, скорбь по умершим матери, отцу, брату и крестнику), чтобы она направила свое внимание на мельчайшие оттенки взаимоотношений с терапевтом, которого она едва знает?
Тем не менее именно это я и делал. С самой первой нашей встречи, беспрерывно. На каждой сессии я непременно спрашивал о тех или иных аспектах наших взаимоотношений.
“Насколько сильно твое чувство одиночества сейчас, когда ты находишься со мной в этой комнате?”
“Как бы ты могла описать свои ощущения сегодня – насколько ты далека от меня или близка ко мне?” “Что ты чувствуешь сегодня?”
“Каковы твои ощущения сегодня – далека ли ты от меня или близка и насколько?”
Если она, как это часто бывало, говорила: “Я будто бы за тысячи миль отсюда”, – я, конечно, концентрировался непосредственно на этом чувстве. “В какой именно момент возникло это чувство?” Или: “Может быть, я сделал или сказал что‑то, что увеличило это расстояние?” И чаще всего: “Что мы можем сделать, чтобы сократить его?”
Я старался с вниманием относиться к ее ответам. Если она отвечала: “Если ты хочешь способствовать нашему сближению, назови мне книгу, которую я могла бы прочитать”, я всегда называл ее. Если она говорила, что ее отчаяние невозможно описать словами и самое лучшее, что я могу для нее сделать – просто взять ее за руку, то я придвигал свой стул ближе к ней и брал ее за руку, иногда на минуту или две, порой на десять или даже больше. Иногда мне было не по себе от прикосновений, однако не из‑за нормативного предписания, запрещавшего даже дотрагиваться до пациента. Скорее я испытывал неудобство из‑за того, что такое прикосновение было неизменно эффективным: это заставляло меня чувствовать себя всемогущим волшебником, обладающим необычайной силой, действие которой оставалось мне непонятным. В конце концов спустя несколько месяцев после похорон мужа Ирен перестала обращаться ко мне с просьбой подержать ее за руку.
На протяжении всей нашей терапии я упорно продолжал придерживаться принципа присутствия. Я отказался быть отвергнутым. На ее: “С меня достаточно, я не хочу больше говорить сегодня; я вообще не понимаю, что сегодня здесь делаю” – я реагировал обычно замечанием вроде: “Но ты здесь сегодня. Какая‑то часть тебя хочет быть здесь, и сегодня я хочу поговорить с этой частью”.
Когда это было возможно, я переводил события в их эквивалент “здесь и сейчас”. Взять, например, начало или окончание встречи. Очень часто Ирен входила в мой офис и быстро проходила к своему стулу, не глядя на меня. Я редко когда оставлял это без внимания. Я мог сказать: “Ну, похоже, у нас сегодня опять одна из этих сессий”, и обращал ее внимание на нежелание смотреть на меня. Иногда она отвечала: “Когда я смотрю на тебя, ты становишься настоящим, а это означает, что ты скоро должен умереть”. Или: “Если я буду смотреть на тебя, я стану беспомощной, и это даст тебе слишком много власти надо мной”. Или: “Если я буду смотреть на тебя, то, скорее всего, захочу поцеловать тебя”, или: “Я увижу твой взгляд, требующий скорой поправки”.
Завершение каждого занятия было проблематичным: она ненавидела мою пунктуальность и отказывалась уходить. Каждое окончание было похоже на смерть. Во время особо тяжелых периодов она была не способна удерживать в памяти образы и боялась, что однажды, оказавшись вне поля ее зрения, я перестану для нее существовать. Окончание сессии, по ее мнению, символизировало то, как мало она значит для меня, как мало я забочусь о ней, что я способен быстро отделаться от нее. Такие же проблемы возникали в связи с моими отпусками или командировками, и я старался звонить ей, чтобы поддерживать контакт.
Все становилось зерном для мельницы здесь и сейчас: ее желание слышать от меня комплименты и знать, что я думаю о ней больше, чем о других пациентах, получать подтверждения того, что мы не просто терапевт и пациент, что я восхищаюсь ею как женщиной.
Обычно сосредоточенность на подходе здесь и сейчас имеет свои преимущества. Она вызывает чувство непосредственности терапевтической встречи. Она предоставляет более точные данные, чем опора на несовершенное и постоянно меняющееся видение пациентом своего прошлого. Поскольку способ общения здесь и сейчас является социальным микрокосмом способа отношения с другими, то прошлое и настоящее, любые проблемы во взаимоотношениях проявляются во всех красках сразу же, как только начинают разворачиваться взаимоотношения с терапевтом. Кроме того, терапия становится более насыщенной, волнующей – ни одна индивидуальная или групповая сессия, выстроенная по принципу “здесь и сейчас”, никогда не будет скучной. “Здесь и сейчас” обеспечивает некую лабораторию, надежное место, где пациент может опробовать новые способы поведения, перед тем как перенести их в окружающий мир.
Важнее этих достижений то, что подход “здесь и сейчас” ускорил развитие близости между нами. Внешнее поведение Ирен – холодность, отчужденность, сознание своего превосходства – удерживало других от общения с ней. То же самое происходило и когда я устроил ее на шесть месяцев в терапевтическую группу в то время, когда умирал ее муж. Хотя Ирен сразу же заслужила уважение членов группы и в значительной мере помогала другим, она мало что получала в ответ. Ее вид независимого человека ясно говорил другим членам группы, что ей ничего от них не нужно.
Только муж мог пробиться к ней сквозь ее трудный характер; только ему удавалось достучаться до нее и только он мог рассчитывать на глубокие и тесные отношения. И только с ним она могла поплакать и позволить проявиться той маленькой девочке, которая жила в ней. Со смертью Джека она потеряла критерий близости. Это было очень самонадеянно, но я собирался стать ее критерием близости.
Собирался ли я занять место ее мужа? Это глупый, нелепый вопрос. Нет, я никогда не думал об этом. Я лишь стремился восстановить, один или два часа в неделю, островок близости. Постепенно, не сразу, она начала осознавать свою беспомощность и искать у меня поддержки.
Когда умер ее отец, вскоре после ее мужа, она была чрезвычайно подавленной, думая о поездке на похороны. Для нее была непереносима мысль о том, что придется находиться с матерью, пораженной болезнью Альцгеймера, и увидеть свежую могилу отца совсем рядом с надгробной плитой на могиле брата. Я советовал ей не ездить. Наоборот, я назначил ей встречу как раз во время похорон и попросил принести фотографии ее отца. Мы провели целый час в воспоминаниях о нем. Это был ценный, глубокий и плодотворный опыт, и позднее Ирен благодарила меня за это.
Где была граница между близостью и соблазном? Могла ли она стать слишком зависимой от меня? Смогла бы она когда‑нибудь найти силы покинуть меня? Мог ли сильный перенос испытываемых к мужу чувств остаться неразрешимым? Эта мысль давила на меня. Но я отложил решение этой проблемы на потом.
В работе с Ирен было легко придерживаться курса “здесь и сейчас”. Она была чрезвычайно трудолюбива и преданна. Работая с ней, я никогда, ни разу не слышал от нее слов, которые выражали бы сопротивление или претензии и требования, такие, как: “Это не имеет значения… Это к делу не относится… Моя жизнь не сводится к твоей персоне – я вижу тебя лишь дважды в неделю; мой муж умер всего лишь две недели назад – почему ты заставляешь меня говорить о моих чувствах к тебе? Это безумие… Все эти вопросы о том, как я воспринимаю тебя, о том, как я вхожу в этот кабинет, – слишком банальны, чтобы говорить о них. В моей жизни происходит так много по‑настоящему важных событий”. Напротив, Ирен хваталась за все мои попытки предпринять что‑либо, и на всем протяжении терапии излучала благодарность за мое участие к ней.
Замечания Ирен об “импровизированной” терапии заинтересовали меня. Позднее я выразил это фразой: “Хороший психотерапевт должен создавать терапию для каждого пациента”. Это крайняя позиция, более радикальная, чем даже давнее предложение Юнга создавать новый терапевтический язык для каждого пациента. Радикальные решения для радикальных времен.
Современный механизм администрирования в здравоохранении смертелен для психотерапии. Рассмотрим его заповеди: 1) терапия должна быть неправдоподобно короткой, в основном сосредоточенной на внешних симптомах, а не на внутренних конфликтах, породивших эти симптомы, 2) терапия должна быть неоправданно дешевой (что ударит и по специалистам, которые посвятили многие годы глубинной подготовке, и по пациентам, которым придется обращаться к слабо подготовленным терапевтам), 3) терапевты должны подражать медицинским моделям и проходить сквозь шарады формулирования точных медико‑подобных целей и процедуры их еженедельного оценивания, 4) терапевты должны работать только с эмпирически подтвержденными техниками (ЭПТ), таким образом, отдавая предпочтение кратким, скорее всего педантичным, когнитивно‑бихевиоральным моделям, которые демонстрируют угасание симптомов.
Но из всех этих ошибочных и даже трагических ультиматийных установок по отношению к психотерапии, ни одна не является более зловещей, чем ориентация на протокольную терапию. Так, некоторые оздоровительные программы и НМО [15] требуют от терапевта придерживаться в курсе психотерапии предписанного плана, иногда даже списка тех тем, которые необходимо поднять на следующих сессиях. Жадное до прибыли медицинское руководство и их дезинформированные профессиональные советники считают, что терапия функционирует успешно благодаря получению и распределению информации, а не является результатом взаимоотношений терапевта и пациента. А это печальная ошибка.
Из восьмидесяти мужчин и женщин, переживших утрату, случаи которых я изучил в процессе моего исследования перед работой с Ирен, ни один не был похож на нее. Никто не переживал подобного созвездия идущих одна за другой (и практически равнозначных) потерь: муж, отец, мать, друг, крестник. Никто в такой мере не был травмирован ранней потерей горячо любимого брата. Ни у кого не было таких взаимозависимых отношений с мужем, как у нее. Никому из них не приходилось наблюдать угасание супруга, постепенно пожираемого раком. Никто не был врачом, так ясно понимавшим природу патологии мужа и ее последствия.
Нет, Ирен была уникальна и требовала уникальной терапии, такой, какую мы должны были построить вместе. Но это не значит, что мы сперва создали терапию, а затем работали согласно ей, – все наоборот: проект создания новой, уникальной терапии и был самой терапией.
Я посмотрел на часы. Где же Ирен? Я подошел к дверям кафе, выглянул наружу и увидел ее. Она шла рука об руку с мужчиной, вероятно, это и был Кевин. Ирен держит за руку мужчину! Возможно ли такое? Я вспомнил бесконечные часы, потраченные на то, чтобы убедить ее, что она не проклята и не обречена на одиночество, что в конечном счете в ее жизни появится другой мужчина. Господи, какая же она была упрямая! Ведь была тысяча возможностей: когда она только стала вдовой, вокруг нее было множество привлекательных и подходящих поклонников.
Она быстро отказывала любому мужчине по одной или нескольким причинам из своего, по‑видимому, бесконечного, списка. “Я не посмею любить снова, я не смогу пережить еще одну смерть” (эта установка, верхняя из списка, заставляла ее отказывать любому мужчине хоть немного старше ее или находящемуся не в лучшем физическом состоянии). “Я не хочу, чтобы из‑за моей любви кто‑то оказался обреченным”. “Я не хочу предавать Джека”. Каждого мужчину она сравнивала с Джеком, который был безупречен и брак с которым был предопределен (он был знаком с ее семьей, был близким другом ее брата и олицетворял собой последнее связующее звено с ее умершим братом, ее отцом и умирающей матерью). Поэтому Ирен была убеждена, что не существовало ни одного мужчины, который смог бы понять ее, никого, кто не занес бы грязь на кухню, подобно фермеру Фросту. Наверное, единственным исключением были члены общества переживших утрату, люди, которые точно понимали свое окончательное предназначение и ценность жизни.
Требовательность и еще раз требовательность. Отличное здоровье. Сильный. Стройный. Младше ее. Недавно потерял любимого человека. Хороший художественный и литературный вкус, философский взгляд на вещи. Моя нетерпимость по отношению к Ирен и невероятным запросам, которые она установила, росла. Я вспоминал других вдов из числа своих пациентов, которые были бы рады малейшему вниманию со стороны любого мужчины, которым Ирен коротко отказывала. Я старался держать свои чувства при себе, но от Ирен нельзя было ничего скрыть, даже невысказанные мысли и растущее нетерпение от желания, чтобы она с кем‑нибудь познакомилась.
Возможно, она также чувствовала мою обеспокоенность тем, что она никогда не позволит мне уйти. Я был убежден, что ее привязанность ко мне была основной причиной отказа встречаться с другими мужчинами. Господи, неужели эта ноша навсегда? Скорее всего мне приходилось расплачиваться за то, что я преуспел в том, чтобы стать значимым для нее.
Затем в ее жизнь вошел Кевин. С самого начала она знала, что это и есть мужчина, которого она так долго искала. Я поражался ее уверенности. Я все думал о ее немыслимых, нелепых эталонах. Ну а он подходил под каждый. Молодой, здоровый, восприимчивый – он даже был членом общества людей, переживших утрату. Его жена умерла год назад, и они с Ирен полностью понимали и сочувствовали горю другого. Все произошло внезапно, и я был рад за Ирен – и рад своей свободе. Перед тем как она встретила Кевина, она полностью восстановила свое положение во внешнем мире, но осталась глубокая необъяснимая внутренняя тоска. Теперь и она быстро иссякала. Последовало ли улучшение после того, как она встретила Кевина? Или способность раскрыться мужчине стала результатом улучшения? Что было первым? Этого я никогда не узнаю.
А теперь она вела Кевина на встречу со мной.
Вот они вошли в кафе. Они направляются ко мне. Неужели я нервничаю? Посмотрите на этого мужчину: он великолепен – высокий, сильный, похоже, он каждый день занимается триатлоном перед завтраком, и этот нос… невероятно… и где они берут такие носы? Достаточно, Кевин, отпусти ее руку. Да хватит же! Неужели нет хоть чего‑то, что может не понравиться в этом парне? Ого, я собираюсь пожать ему руку. Почему мои руки такие влажные? Заметит ли он? Ну и что, что заметит?
– Ирв, – услышал я голос Ирен, – познакомься, это Кевин. Кевин, Ирв.
Я улыбнулся, протянул руку и сквозь зубы поздоровался. Проклятие, думал я, лучше бы ты позаботился о ней как следует. И, черт тебя побери, лучше бы тебе не умирать.
Глава 5. Двойное разоблачение.
И поэтому, доктор Лэш, я чувствую, что сдаюсь. Вокруг меня нет мужчин. А если они еще не женаты в свои сорок, то с ними, очевидно, что‑то не так – их отвергли или они больны – какая‑то другая женщина уже отвергла их. И обчистила. У последних трех мужчин, с которыми я встречалась, не было пенсии. Кто их будет уважать? Вы будете? Я думаю, вы достаточно откладываете на свою пенсию, а? Но не беспокойтесь, я знаю, что вы не собираетесь отвечать. Мне тридцать пять. Я просыпаюсь с мыслью, что это много. Почти полпути пройдено. Чем больше я думаю о своем прошлом, тем больше понимаю, что оно убило меня. Загублено десять лет моей жизни – самые важные десять лет. Десять лет – подумать страшно. Это похоже на дурной сон, а когда он уходит, я просыпаюсь, оглядываюсь вокруг – мне тридцать пять, мне осталось жить не так уж много, и все порядочные мужчины уже разобраны. (Несколько минут молчания.)
– О чем ты думаешь, Мирна?
– Я думаю о том, что попала в ловушку, думаю о поездке на Аляску, где отношения между мужчиной и женщиной гораздо лучше. Или о бизнес‑школе – там тоже хорошие отношения.
– Останься здесь, со мной, в этой комнате, Мирна. На что похоже твое сегодняшнее пребывание здесь?
– Что ты имеешь в виду?
– То же, что и всегда. Попытайся поговорить о том, что происходит здесь, между нами.
– Разочарование! Еще сто пятьдесят долларов уплыли, а я нисколько не чувствую себя лучше.
– Значит, сегодня я опять не оправдал ожиданий. Взял твои деньги и не помог. Скажи‑ка мне, Мирна, что, если, например…
Резко затормозив, Мирна уклонилась от грузовика, выехавшего на ее полосу. Она прибавила скорость, обогнала его и прокричала: “Осел!”
Выключив кассету, она сделала несколько глубоких вдохов. Несколько месяцев назад ее новый терапевт, доктор Эрнст Лэш, к которому она сейчас ехала, начал записывать их беседы, а затем давал ей прослушать до следующей недели, когда она придет на очередную встречу. Каждую неделю она возвращала кассету и он делал новую запись поверх старой. Хорошая возможность, сказал он, использовать время в пути от Лос‑Альтоса до Сан‑Франциско. Но она не была в этом уверена. Эти встречи сами по себе были разочарованием, и проходить через это вторично было еще большим разочарованием. Грузовик нагнал ее и ослепил светом фар. Ее машину вынесло с полосы, и она крепко обругала водителя. Может быть, это случилось из‑за того, что она отвлеклась, слушая кассету? Могла бы она предъявить иск своему психотерапевту? Притащить его задницу в суд? Эта мысль вызвала улыбку на ее лице. Наклонясь, она промотала кассету немного назад и снова включила запись.
“– То же, что и всегда. Попытайся поговорить о том, что происходит здесь, между нами.
– Разочарование! Еще сто пятьдесят долларов уплыли, а я нисколько не чувствую себя лучше.
– Значит, сегодня я опять не оправдал ожиданий. Взял твои деньги и не помог. Скажи‑ка мне, Мирна, что, если, например, мы могли бы вернуться на час назад и перед тобой стоял вопрос: что я могу сегодня сделать?
– Откуда я знаю. И за это ты получил плату, не правда ли? И к тому же хорошую плату.
– Я понимаю, Мирна, – ты не знаешь, но попробуй пофантазировать. Как бы я мог помочь тебе сегодня?
– Ты мог бы познакомить меня с кем‑то из своих одиноких богатых пациентов.
– Ты видишь на моей майке надпись “Бюро знакомств?”
– Ах ты, ублюдок, – пробормотала она, останавливая кассету. – Я плачу тебе сто пятьдесят в час за это хитрожопое дерьмо. Она опять перемотала назад и прослушала их обмен репликами.
“‑… Как бы я мог помочь тебе сегодня?
– Ты мог бы познакомить меня с кем‑то из своих одиноких богатых пациентов.
– Ты видишь на моей майке надпись “Бюро знакомств”?
– Не смешно, доктор.
– Ты права. Извини. Я хотел сказать, что ты находишься далеко от меня – далеко от того, чтобы сказать, что ты чувствуешь в отношении меня.
– Ты, ты, ты. Почему у меня должны быть чувства только к тебе? Ты не предмет беседы. Я не собираюсь идти с тобой на свидание – хотя из этого я могла бы извлечь больше, чем из того, что мы делаем сейчас.
– Давай еще раз обсудим это, Мирна. Ты пришла сюда, ко мне, сказав, что хочешь изменить что‑то в своих отношениях с мужчинами. На самой первой встрече я сказал тебе, что смогу лучше изучить твои отношения с другими, сосредоточившись на наших отношениях здесь, в этом офисе. Это пространство в моем кабинете является, или должно являться, безопасным местом, где, я надеюсь, ты можешь говорить свободнее, чем где бы то ни было еще. И в этом защищенном месте мы сможем изучить способ отношения друг к другу. Неужели это трудно понять? Итак, давай еще раз взглянем на твое отношение ко мне.
– Я уже сказала – разочарование.
– Постарайся сделать это более личным, Мирна.
– Разочарование и есть личное.
– Да, по сути это личное, это говорит мне о твоем внутреннем состоянии. У тебя голова идет кругом, я знаю. Когда ты здесь, все вокруг тоже перемешивается. С тобой и у меня голова начинает кружиться. И я чувствую твое разочарование. Но слово разочарование ничего не говорит мне о нас. Подумай о пространстве здесь, между нами. Постарайся остаться в нем хотя бы на минуту или на две. Каково сегодня это пространство? Несколько минут назад ты сказала, что больше получила бы от свиданий со мной, чем от психотерапии, – расскажи об этом.
– Я уже все сказала, между нами нет ничего. Пустое пространство. Сплошное разочарование.
– Это то, что происходит сейчас, в данный момент – как раз то, что я имею в виду, говоря, что ты избегаешь контакта со мной.
– Я сбита с толку, запуталась.
– Наше время почти закончилось, Мирна, но постарайся сказать что‑нибудь, прежде чем мы остановимся, – об этом же я просил тебя пару недель назад. Минуту‑две подумай о том, что мы могли бы делать вместе. Закрой глаза; позволь возникнуть какому‑нибудь образу, любому. Опиши, что происходит.
(Тишина.)
– Что ты видишь?
– Ничего.
– Постарайся. Сделай так, чтобы что‑нибудь случилось.
– Ладно, ладно. Я вижу, как мы идем вместе. Разговариваем. Радуемся друг другу. Какая‑то улица в Сан‑Франциско, может быть, Честнат. Я беру тебя за руку и веду в один бар. Ты не хочешь, но все же идешь со мной. Ты хочешь увидеть это… увидеть это место… увидеть своими глазами, что там нет ни одного подходящего мужчины. Это то ли бары для встреч, то ли служба знакомств по Интернету, о которой ты упоминал на прошлой неделе. Интернет хуже, чем бары. Обезличенность! Я поверить не могу, что ты действительно посоветовал мне это. Ты ждал, что я построю взаимоотношения, глядя на экран монитора, даже не видя другого человека… даже не…
– Вернись обратно в свою фантазию. Что ты еще видишь?
– Все почернело – исчезло.
– Так быстро! Что остановило тебя от продолжения?
– Не знаю. Почувствовала холод и одиночество.
– Ты была со мной. Ты держала меня за руку. Какие чувства возникли у тебя?
– Ничего нового, по‑прежнему одиночество.
– Мы заканчиваем, Мирна. Последний вопрос. Отличались ли последние минуты нашей встречи от ее начала?
– Нет, все было таким же. Разочарование.
– Я почувствовал, что пространство между нами сократилось. Ты почувствовала что‑нибудь подобное?
– Может быть. Я не уверена. Но мне до сих пор непонятна цель того, что мы делаем.
– Почему‑то мне кажется, что в тебе что‑то противится разглядеть цель. Итак, в четверг, в то же время?
Мирна услышала звук отодвигаемых стульев, свои шаги через комнату, звук закрываемой двери… Она свернула на шоссе. Лишняя трата денег и времени, думала она. Психиатры. Он такой же, как и все остальные. Ну конечно не совсем. По крайней мере, он разговаривает со мной. На минуту она представила себе его лицо: он улыбается, протягивает к ней свои руки, приглашает ее подойти. Правда в том, что мне нравится доктор Лэш. Он всегда со мной – кажется, он заботится обо мне и он деятельный: по крайней мере, он пытается заставить меня расшевелиться и почти добивается своего, он не оставляет меня сидеть в тишине, как два предыдущих терапевта. Она быстро отогнала от себя эти мысли. Он всегда требовал, чтобы она отслеживала свои дневные мысли, особенно по дороге на терапию и оттуда, но она не собиралась рассказывать ему эти банальные вещи. Вдруг она снова услышала его голос на кассете.
“Привет. Это звонит Эрнст Лэш. Жаль, что не встретились, Десмонд. Пожалуйста, постарайся найти меня по телефону 767‑1735 между восьмью и десятью вечера сегодня или в моем офисе завтра утром”.
Что это? Она была заинтригована. В памяти всплыло, что, покинув его офис по окончании встречи и проехав полпути, она вспомнила, что он забыл дать ей кассету, и вернулась за ней. Вторично припарковавшись напротив дома в викторианском стиле, она поднялась по лестнице на второй этаж, где располагался его офис. Зная, что в тот день ее встреча была последней, она не боялась побеспокоить другого пациента. Дверь была приоткрыта, и она, зайдя, увидела доктора Лэша, наговаривающего что‑то на диктофон. Когда она сказала ему, зачем вернулась, он вытащил кассету из магнитофона на столе около стула пациента и протянул ей.
– Увидимся на следующей неделе, – сказал он. Ясно, что он забыл выключить магнитофон, когда она в первый раз вышла из офиса, и запись продолжалась некоторое время, пока не закончилась пленка. Увеличив громкость, Мирна услышала слабый шум: возможно, звяканье кофейных чашек, убираемых со стола. Потом его голос, когда он звонил кому‑то, чтобы договориться о встрече. Шаги, скрип стула. А затем кое‑что поинтереснее, намного интереснее!
– Это доктор Лэш. Заметки к семинару по контрпереносу. Запись о Мирне, четверг, 28 марта.
Запись обо мне? Не могу поверить. Напряженно вслушиваясь, с волнением и любопытством, она придвинулась вперед, поближе к динамику. Внезапно машину занесло, и она чуть не потеряла контроль.
Свернув на обочину, она торопливо вытащила кассету, достала плеер из бардачка, вставила ее туда, перемотала, надела наушники, выехала на шоссе и прибавила громкость.
– Это доктор Лэш. Заметки к семинару по контрпереносу. Запись о Мирне, четверг, 28 марта. Обыкновенный, предсказуемый, фрустрирующий час. Она, как обычно, провела большую часть сессии, скуля о нехватке подходящих одиноких мужчин. Я становлюсь все более и более нетерпеливым… раздражительным – на какой‑то момент я забылся и позволил себе неуместную реплику: “Ты видишь на моей майке надпись “Бюро знакомств”?” Очень злобно – на меня не похоже – даже не могу припомнить, когда я так неуважительно относился к пациенту. Может, я стараюсь оттолкнуть ее? Я никогда не говорю ей ничего в качестве поддержки или одобрения. Я пытаюсь, но она делает это почти невозможным. Она приходит ко мне… такая скучная, недовольная, глупая, ограниченная. Все, о чем она думает, – это как бы заработать два миллиона на акциях и найти мужчину. Ничего больше… глупая и ограниченная… ни снов, ни фантазий, никакого воображения. Никакой глубины. Прочитала ли она хоть одну хорошую книгу? Рассуждала ли когда‑нибудь о чем‑нибудь прекрасном? Или интересном… хоть одна интересная мысль? Господи, я хотел бы увидеть ее пишущей стихотворение – или пытающейся написать. Итак, вот что могло бы быть терапевтическим изменением. Она высасывает все из меня. Я чувствую себя большой титькой. Снова и снова одно и то же. Снова и снова она изводит меня по поводу оплаты. Неделю за неделей я заканчиваю одинаково – я наскучил сам себе.
Сегодня, как всегда, я убеждал ее подумать, какова ее роль в сложившейся проблемной ситуации, что она сама делает для своего одиночества? Это не так трудно, но с таким же успехом я мог бы говорить на арамейском языке. Она просто не в состоянии понять. Вместо этого она обвиняет меня в непонимании того, что одиночество вредно для женщины. А потом, как обычно, она бросает фразу о желании встречаться со мной. Но когда я пытаюсь сосредоточить свое внимание на этом, а именно на том, что она чувствует по отношению ко мне или как она может чувствовать себя одинокой в этой комнате со мной, все становится еще хуже. Она отказывается понимать это; она не собирается взаимодействовать со мной и понимать это – она утверждает, что это неуместно. Не может же она быть такой тупой. Выпускница престижного колледжа, специалист высокого уровня по компьютерной графике, высокая зарплата, черт, намного выше моей – половина компаний в Силиконовой Долине бьются за нее, – но у меня впечатление, что я разговариваю с немым. Сколько же, черт побери, раз я объяснял ей, как это важно – рассмотреть наши взаимоотношения? А вся эта трескотня по поводу выброшенных на ветер денег – я чувствую себя униженным. Она вульгарна. Делает все возможное, чтобы устранить малейший намек на близость между нами. Все, что я делаю, недостаточно хорошо для нее…
Проезжавшая мимо машина просигналила, предупредив, что ее машину заносит. Сердце у нее колотилось. Это было опасно. Она выключила плеер и несколько минут ехала до своего поворота. Свернув в переулок, она остановила машину, перемотала назад и начала слушать:
– …я чувствую себя униженным. Она вульгарна. Делает все возможное, чтобы устранить малейший намек на близость между нами. Все, что я делаю, недостаточно хорошо для нее. Каждый раз, когда я спрашиваю ее о наших взаимоотношениях, она смотрит на меня с такой опаской, будто я собираюсь наброситься на нее. Может, так и есть? Проверяя свои чувства, я не вижу ни намека на это. Был бы я способен на это, если бы она не была моей пациенткой? Она хорошо выглядит – мне нравятся ее волосы, их блеск – видно, что она следит за собой. Прекрасная грудь – это, конечно же, плюс. Я боюсь уставиться на эту грудь, но стараюсь не думать об этом – спасибо Элис! Однажды в старшей школе я разговаривал с девочкой по имени Элис и даже не заметил, что уставился на ее грудь. Вдруг она взяла меня за подбородок, подняла мою голову и сказала: “Эй‑эй, я здесь!” Никогда этого не забуду. Эта девочка сделала хорошее дело.
Руки у Мирны большие; это не очень красиво. Но мне нравится приятный, сексуальный шелест ее колготок, когда она кладет ногу на ногу. Ото, мне кажется, У меня есть к ней какие‑то сексуальные чувства. Если бы я встретился с ней, когда был одинок, понравилась бы она мне? Думаю, что да, я бы мог увлечься ее внешностью, до тех пор пока она не открыла бы рот и не начала жаловаться или что‑нибудь требовать. Тогда бы мне захотелось сбежать от нее подальше. Я не чувствую к ней никакой нежности, никакого тепла. Она слишком много думает о себе, сплошные острые углы – локти, колени, не получившая…
(Щелчок, кассета закончилась.)
Ошеломленная, Мирна завела машину, проехала несколько минут и свернула на нужную улицу. Осталось всего несколько домов до офиса доктора Лэша. Она заметила с удивлением, что дрожит. Что же делать? Что ему сказать? Быстрее, быстрее – всего несколько минут до того, как его дурацкие часы начнут отмерять этот сто‑пятидесятидолларовый час.
В одном я уверена, говорила она сама себе, я не собираюсь отдавать ему кассету, как делала обычно. Мне нужно прослушать ее еще раз. Я совру, скажу, что забыла ее дома. Тогда я смогу переписать его замечания на другую кассету, а эту верну ему на следующей неделе. Или скажу, что просто потеряла ее. Ему это не понравится – вот дерьмо!
Чем больше она думала об этом, тем увереннее становилась в том, что не скажет ему об услышанном. Зачем выдавать себя? Может быть, она скажет ему об этом когда‑нибудь потом. А может быть, никогда. Ублю‑Док! Она вошла в его офис. Время общения.
– Проходи, пожалуйста, Мирна. – Эрнст всегда называл ее “Мирна”, а она его “доктор Лэш”, даже когда он отмечал неравнозначность обращений и просил называть его по имени. В этот день, как всегда, на нем были синяя куртка и белый свитер. Неужели у него нет другой одежды – удивлялась она. А его ботинки? Разве он никогда не слышал о том, что ботинки чистят? А его корсет вокруг талии, который даже куртка не может скрыть. Если бы мы играли в теннис, я бы тебя до смерти загоняла. Я бы выкачала из тебя этот свиной жир.
– Не проблема, – сказал он приветливо, когда она призналась, что забыла кассету дома. – Привезешь ее в следующий раз. У меня есть другая. – Он достал новую кассету и вставил ее в магнитофон.
После этого наступило обычное молчание. Мирна вздохнула.
– Ты выглядишь взволнованной, – сказал Эрнст.
– Нет‑нет, – стала отрицать Мирна. “Фальшивка! – думала она при этом. – Какой же лицемер! Притворяется заинтересованным. Тебе же все равно, даже если я взволнована. Тебе это до лампочки. Я же знаю, что ты на самом деле обо мне думаешь”.
Снова молчание.
– Меня очень беспокоит дистанция между нами, – отметил Эрнст. – Ты тоже это чувствуешь? Мирна пожала плечами.
– Я не знаю.
– Я все вспоминаю. Мирна, прошлую неделю. Тебе передалось мое сильное чувство с прошлой встречи?
– Ничего необычного.
У меня все козыри на руках, подумала Мирна, и я заставлю его сегодня отработать свои деньги. Пусть попотеет. Она выдержала паузу, а затем спросила:
– А должно было?
–Что?
–Должно ли было остаться сильное чувство с последней встречи?
На лице Эрнста отразилось удивление. Он посмотрел на Мирну. Она бесстрашно отразила его взгляд.
– Ну, – сказал он, – мне просто было интересно, могло ли что‑нибудь остаться. Может быть, какая‑то реакция на мое замечание о майке и бюро знакомств?
– А у тебя остались какие‑то чувства по поводу этого замечания, доктор Лэш?
Эрнст выпрямился на стуле. Он почувствовал необычайность сегодняшней ситуации, ее дерзость.
– Да, у меня было много чувств по этому поводу, – сказал он нерешительно. – И ни одного доброго. Мне казалось, я неуважительно к тебе отнесся. Представляю, как ты на меня сердилась.
– Да, я была в ярости.
– Это задело тебя?
– Да.
– Подумай об этом чувстве. Возникает ли оно при других обстоятельствах? В другое время?
Ну нет, ты не смеешь, червяк, думала Мирна. Пытаешься увильнуть. И это после всех недель уговоров оставаться в настоящем.
– Мы можем остаться с тобой здесь, доктор Лэш, в этом офисе? – сказала она с неожиданной для нее прямотой. – Я бы хотела знать, почему ты сказал это – почему ты был, по твоим словам, неуважителен?
Эрнст еще раз посмотрел на Мирну. Долгий взгляд. Он обдумывал свой следующий шаг. Благодаря своему пациенту. Это случилось впервые. Казалось, Мирна все же решила пойти ему навстречу. Несколько месяцев он уговаривал ее, призывал работать здесь и сейчас. Надо поощрить ее попытки, подумал он. И оставаться честным.
Только честность. Набожный скептик во всем остальном, Эрнст был твердо уверен в живительной силе честности. Его катехизис требовал честности – но постепенной, выборочной. И уважительной, заботливой правды: правды ради поддержки. Он бы никогда, например, не высказал резких, отрицательных – но честных – чувств по отношению к ней, которые он высказал два дня назад на семинаре, представляя случай Мирны.
Эти семинары начались год назад как еженедельная учебная группа, где встречались десять психотерапевтов для того, чтобы лучше понять свои личные реакции по отношению к пациентам. На каждой встрече один из членов рассказывал о пациенте, обращая внимание в основном на собственные чувства, вызванные пациентом в процессе психотерапии. Какими бы ни были их чувства в отношении пациента: банальными, примитивными, сексуальными, агрессивными, было это чувство ненависти или любви, участники группы искренне высказывали их и пытались обнаружить их значение и корни.
Среди многих целей, стоящих перед группой, наиболее важным было создать чувство единения. Одиночество – это главная опасность в индивидуальной практике психотерапевта, и они борются с ним, участвуя в различных организациях: учебные группы, такие, как этот семинар, институты повышения квалификации, ассоциации врачей, и еще огромное количество региональных и международных профессиональных организаций.
Семинар по контрпереносу глубоко вошел в жизнь Эрнста, и он с нетерпением ждал каждой следующей встречи – и не только из‑за духа товарищества, но и для того, чтобы получить консультацию. В прошлом году он долгое время работал под руководством ортодоксального психоаналитика Маршала Стридера, который выполнял роль супервизора, и теперь семинар был единственным местом, где он обсуждал различные случаи с коллегами. Хотя большее внимание в группе уделялось внутренней жизни психотерапевта, а не самой терапии, обсуждения, без сомнения, влияли на терапию. Просто осознание того, что ты представишь свои проблемы с пациентом на обсуждение, неизбежно влияло на путь терапевта и терапии. И во время сегодняшней сессии с Мирной Эрнст представлял членов группы, молча наблюдающих за тем, как он размышляет над ее вопросом о том, почему он отнесся к ней неуважительно. Он попытался уйти от ответа, чтобы не произошло чего‑то такого, о чем ему было бы стыдно рассказывать в группе.
– Я не совсем уверен в причинах, Мирна, но я знаю, что был раздражен во время нашей последней встречи, когда сказал это. Ты казалась мне упрямой. Мне представлялось, что я стучусь и стучусь к тебе в дверь, а ты отказываешься открывать.
– Я старалась изо всех сил.
– Наверное, просто никак это не проявляла. Мне казалось, что ты знаешь, что очень важно сосредоточиться на “здесь и сейчас”, на взаимоотношениях между нами, но ты все еще предпочитаешь игнорировать это. Бог знает как много раз я пытался тебе это объяснить. Помнишь, на первой сессии, когда ты рассказывала о своих предыдущих встречах с психотерапевтами, ты сказала, что они были слишком далеки, совсем незаинтересованы, слишком равнодушны? И я сказал тебе, что буду работать с тобой, и основной нашей задачей здесь будет изучение наших встреч? И ты сказала, что тебе это подходит?
– Это не имеет значения. Ты думаешь, я намеренно сопротивляюсь? Скажи, зачем бы мне приезжать сюда каждую неделю, проделывать такой путь и оставлять сто пятьдесят за час? Сто пятьдесят долларов – может быть, для тебя это слишком мало, но не для меня.
– С одной стороны, это не имеет значения, Мирна, но с другой стороны – имеет. Вот как я все это вижу. Ты несчастлива в своей жизни, ты одинока, тебе кажется, что тебя никто не любит, и ты никого не полюбишь. Ты обратилась ко мне за помощью, сделав большое усилие – и это действительно долгий путь. И дорогостоящий – я все же слышу тебя, Мирна. Но здесь происходит что‑то странное – мне кажется, это страх. Наверное, тебе не по себе от сближения, и ты пытаешься отгородиться, закрыться, найти во мне недостатки, насмехаться над тем, что мы делаем. Я не говорю, что ты делаешь это намеренно.
– Если ты меня так хорошо понимаешь, почему ты сказал о майке? Ты не ответил на этот вопрос.
– Я так выразился, когда ощутил свое раздражение.
– Это не похоже на ответ.
Эрнст еще раз внимательно посмотрел на пациентку. Знаю ли я ее? Откуда этот взрыв прямодушия? Но это дуновение ветерка – это лучше, чем то, что мы делали до этого. Надо постараться продолжить это как можно дольше.
– Твой вопрос понятен, Мирна. Комментарий о майке не относился ни к чему. Это был глупый комментарий. И обидный. Мне очень жаль. Я не помню, откуда он взялся. Я надеюсь, мне удастся докопаться до причины…
– Я помню из кассеты…
– Мне показалось, ты не слушала кассету.
– Я этого не говорила. Я сказала, что забыла принести ее, но я прослушала ее дома. Фраза о майке последовала сразу после моих слов о желании познакомиться с одним из твоих одиноких богатых пациентов.
– Да, точно, я помню. Я удивлен, Мирна. Я считал, что наши сессии не так много значат для тебя, чтобы запоминать их настолько хорошо. Позволь, я вернусь к своему восприятию последнего часа. Одно я помню точно – эта реплика о знакомстве с одним из моих богатых пациентов действительно вывела меня из себя. Как раз перед этим я спросил тебя, что бы я мог предложить тебе, и это был твой ответ. Мне казалось, меня унизили: твое замечание задело меня. Я должен был быть выше этого, но это оказалось мне не по силам.
– Обижен? Не были ли мы немного злы друг на друга? Так, в шутку.
– Возможно. А может быть, больше, чем в шутку. Вероятно, ты выразила свое сомнение в том, что мне есть что тебе предложить, – самое большее – знакомство с другим мужчиной. Мне показалось, я ничего не стою. Скорее всего, поэтому я и сорвался на тебе.
– Бедняжка! – пробормотала Мирна.
– Что?
– Ничего, ничего – очередная шутка.
– Я не собираюсь позволять тебе отталкивать меня такого рода замечаниями. По сути, я думаю, мы могли бы встречаться чаще одного раза в неделю. На сегодня мы должны закончить. Мы уже перерабатываем. Давай начнем с этого момента в следующий раз.
Эрнст был рад, что час Мирны закончился. Но не по обычным причинам: она не наскучила ему, не рассердила его – он был истощен. Ошеломлен. Потрясен. Заинтригован.
Но Мирна не исчерпала своих нападок.
– Я же тебе на самом деле не нравлюсь, правда? – заметила она, поднимая свою сумку и собираясь уходить.
– Напротив, – сказал Эрнст, застигнутый врасплох пациенткой. – На этой сессии я почувствовал к тебе особую близость. Сегодня была трудная, но хорошая работа.
– Я не об этом тебя спросила.
– Но это то, что я чувствую. Временами я чувствую, что между нами огромное расстояние; временами мне кажется, мы близки друг другу.
– Но я же тебе не нравлюсь?
– Симпатия – это глобальное чувство. Иногда ты Делаешь что‑то, что мне не нравится; иногда мне очень Нравится то, что ты делаешь.
"Да, да. Тебе нравится моя большая грудь и шелест моих колготок”, – думала Мирна, доставая ключи от машины. У двери Эрнст, как обычно, протянул ей руку, Она не хотела отвечать. Меньше всего ей хотелось физического контакта с ним, но отказаться не было возможности. Она слегка пожала его руку, быстро высвободила свою и ушла, не обернувшись.
В ту ночь Мирне не спалось. Она лежала в постели не зная, как отделаться от образа доктора Лэша, высказывающего свое мнение о ней. “Скучная”, “сплошные острые углы”, “ограниченная”, “вульгарная” – эти слова крутились и крутились в ее голове. Ужасные слова – но ни одно из них так не оскорбляло, как фраза о том, что она ни разу не сказала ничего интересного или прекрасного. Его желание увидеть ее когда‑нибудь пишущей стихи, жалило Мирну, в глазах стояли слезы.
В памяти всплыл давно забытый случай. Когда ей было десять или одиннадцать лет, она написала много стихотворений, но держала это в секрете – особенно от своего грубого, критичного отца. Незадолго до ее рождения он оставил ординатуру по причине алкоголизма и остаток жизни прожил разочарованным, пьющим врачом маленького городка, чей офис находился дома, проводя вечера перед телевизором со стаканом виски “Олд Грэнд”. Он никогда не утруждал себя заботами о дочери. Никогда, ни единого раза он открыто не высказался о чувстве любви по отношению к ней.
В детстве она вечно совала нос куда не следует. Однажды, когда отец звонил кому‑то по телефону, она рылась в его столе из орехового дерева и в верхнем ящике под грудой карт его пациентов нашла пожелтевшие любовные письма – некоторые от ее матери, а некоторые от женщины по имени Кристина. Она была очень удивлена, когда в самом низу увидела свои стихи, и бумага, на которой они были написаны, была странно влажная. Поддавшись порыву, она забрала их вместе с письмами от Кристины. Через несколько дней, в один из пасмурных осенних вечеров, она положила их вместе со всеми остальными своими написанными сочинениями в кучу сухих платановых листьев и подожгла. Весь вечер она просидела, наблюдая, как ветер расправлялся с пеплом ее поэзии.
С тех пор между ней и отцом опустилась непроницаемая завеса молчания. Он так и не сознался, что вторгся в ее личную жизнь. Она никогда не призналась в собственном вторжении. Он ни разу не упомянул о пропавших письмах. И хотя она не написала больше ни единой строчки, ее продолжало удивлять, почему он хранил листы с ее стихами и почему они были такими влажными. Она иногда представляла, как он читал ее стихи и умилялся их красоте.
Несколько дней назад позвонила ее мать и сказала, что у отца был обширный инсульт. Хотя она немедленно помчалась в аэропорт и вылетела первым же рейсом, приехав в больницу, она обнаружила уже пустую комнату и матрасы, покрытые чистыми простынями. За минуту до ее приезда санитары увезли тело.
Когда она впервые встретила доктора Лэша, она была поражена стоящим в его кабинете антикварным столом из орехового дерева. Он был похож на стол ее отца, и часто во время долгого молчания она ловила себя на том, что пристально разглядывает его. Она никогда не рассказывала доктору Лэшу ни о столе и его секретах, ни о стихах, ни о долгом молчании между ней и ее отцом.
Эрнст также спал очень плохо. Вновь и вновь он прокручивал в голове то, как представил случай Мирны на группе по изучению контрпереноса, которая собиралась несколькими днями ранее на Коуч Роу [16], как называли улицу Сакраменто. Первоначально на этих семинарах не было ведущего, и атмосфера в группе становилась все накаленное, пока не приобрела угрожающий характер. Поэтому несколько месяцев назад они пригласили консультанта, доктора Фрица Вернера, опытного психоаналитика, получившего признание благодаря трудам по контрпереносу. Отчет Эрнста о Мирне вызвал особенно оживленное обсуждение. Хотя его похвалили за готовность так откровенно раскрыться перед группой, доктор Вернер резко критиковал его терапию и особенно замечание о майке.
– Откуда такое раздражение? – спросил он, выбивая табак из трубки и вновь набивая ее. На первой же встрече он предупредил, что трубка будет частью разговора.
– Значит, она повторяется? – продолжал он. – Значит, она жалуется? И она не внемлет твоим просьбам? Значит, она критикует тебя и ведет себя не так, как положено хорошему, благодарному пациенту? Господи, молодой человек, вы же только четыре месяца встречаетесь с ней! Что это – пятнадцать или шестнадцать сессий? В настоящее время я наблюдаю пациентку, которая весь первый год ‑ четыре раза в неделю, двести часов – просто повторяет сама себя. Снова и снова те же самые стенания: ожидание того, что изменятся ее родители, друзья, ее лицо, тело – бесконечный список того, чего у нее никогда не будет. В конце концов, она пресытилась, слушая саму себя, стала сыта по горло собственным повторением. Она сама осознала, что тратила не только терапевтическое время, но и свою жизнь. Ты не можешь бросить правду своему пациенту в лицо: единственная правда – это та, которую мы находим для себя сами.
Спокойное отстраненное внимание, молодой человек, – твердо сказал он, – вот что необходимо пациенту. Спокойное отстраненное внимание – слова такие же актуальные сегодня, как и тогда, когда Фрейд впервые употребил их. Вот что требуется от нас – относиться к словам пациента без предубеждений, без личных реакций, ограничивающих наши взгляды. Это душа и сердце аналитического подхода. Убери это, и весь процесс пойдет под откос.
Тут группа взорвалась, и все заговорили в один голос. Критика доктора Вернера, как молния, высветила то напряжение, которое копилось уже несколько месяцев. Участники, все стремящиеся усовершенствовать свои навыки, были раздражены тем, что они расценили как аристократическое высокомерие своего консультанта. Они почувствовали себя словно бригада чернорабочих. Ежедневно они сталкивалась с сильно ограничивающими клиническими условиями, навязанными безжалостной машиной НМО, и их возмутило очевидное безразличие доктора Вернера к реалиям их практик. Один из тех счастливчиков, кого миновал стихийный поток административных требований, он просто продолжал видеться со своими обеспеченными пациентами четыре раза в неделю, имея возможность быть неторопливым, позволяя сопротивлению пациентов растворяться самому по себе. Членов семинара рассердила его бескомпромиссная поддержка жесткой психоаналитической линии. И его уверенность и самодовольство, его безусловное принятие установленных догм – тоже вызвало негодование, смешанное с досадой и завистью тревожных скептиков, испытывающих эти чувства к сторонникам оптимизма.
– Как вы можете говорить, что Эрнст виделся с ней лишь на четырнадцати сессиях? – вопрошал один. – Я радуюсь, если НМО дает мне возможность встретиться с клиентом восемь раз. И только если я смогу добиться от своего пациента одного из этих магических слов – самоубийство, месть, поджог или убийство, ‑ у меня есть шанс получить разрешение на проведение еще нескольких сессий от какого‑нибудь клинически неподготовленного судебного представителя, чья работа собственно заключается в том, чтобы отклонить как можно больше таких запросов. Вступил другой:
– В отличие от вас, доктор Вернер, я не уверен в том что Эрнст сделал что‑то неправильно. Возможно, замечание о майке и не было такой уж грубой ошибкой. Возможно, это именно то, что его пациентка должна была услышать. Мы говорили здесь о том, что терапевтическая сессия является микрокосмом жизни пациента. Так что, если она надоедает Эрнсту и разочаровывает его, несомненно, так же она влияет и на других людей, окружающих ее. Может быть, ей было полезно узнать об этом. Может быть, у него нет двухсот часов для того, чтобы она в конце концов устала от себя.
И еще один:
– Иногда эта отрегулированная аналитическая процедура слишком велика, доктор Вернер, она слишком изысканна, слишком отвлечена от реальности. Я абсолютно не согласен с тем, что, сопереживая, пациент бессознательно должен всегда улавливать чувства терапевта. Мои пациенты в основном пребывают в критическом состоянии. Они приходят ко мне один раз в неделю, а не четыре, как ваши, и слишком заняты собственными проблемами, чтобы подстраиваться под нюансы моего настроения. На это бессознательное схватывание чувств терапевта у моих пациентов нет ни времени, ни желания.
Доктор Вернер не мог оставить эту реплику без ответа.
– Я знаю, что этот семинар касается контрпереноса психотерапевта, а не психологических техник, но невозможно разделить эти две вещи. Один раз в неделю, семь раз – не имеет значения. Управление контрпереносом всегда влияет на терапию. На каком‑то уровне чувства терапевта по отношению к пациенту неизбежно начинают передаваться последнему. Исключений не бывает! – сказал он, покачивая своей трубкой. – И именно поэтому мы должны понимать, прорабатывать и ослаблять наши невротические реакции на пациента.
Но здесь, в этом случае с майкой, – продолжал доктор Вернер, – мы говорим не о нюансах, мы имеем дело не с каким‑то тонким восприятием пациентом чувств терапевта. Доктор Лэш открыто оскорбил ее, и здесь не требуется никакой догадки. Я не могу уклониться от ответственности и не назвать это вопиющей терапевтической ошибкой – ошибкой, которая подрывает основы терапевтического союза. Не позволяйте калифорнийской морали “что бы ни происходило, все дозволено” оказывать негативное влияние на вашу терапию. Анархия и терапия несовместимы. Каков ваш первый шаг в терапии? Создание безопасного пространства. Как сможет пациентка доктора Лэша после этого случая свободно выражать свои ассоциации? Как она может надеяться, что терапевт отнесется к сказанному ею непредвзято и отстраненно?
– Свойственно ли такое непредвзятое и отстраненное отношение всем терапевтам? – спросил Рон, бородатый мужчина и сильный терапевт, один из близких друзей Эрнста; они были связаны с медицинской школы совместной борьбой с предрассудками. – Уж точно не Фрейду. Вспомните его случаи – Дора, человек с крысами, маленький Ганс. Он всегда вмешивался в жизни моих пациентов. Я не верю, что человек в силах постоянно сохранять позицию нейтралитета – это же утверждается в новой книге Доналда Спенса. Вы никогда по‑настоящему не понимаете реальные переживания пациента.
– Это не значит, что вы должны отказаться от попыток слушать пациента, не позволяя личным чувствам загрязнять сцену, – сказал доктор Вернер. – Чем больше в вас нейтралитета, тем ближе вы приближаетесь к подлинной сущности пациента.
– Подлинная сущность? Открытие подлинной сущности другого человека – это иллюзия, – возразил Рон. – Взгляните, как строятся коммуникации. Сперва некоторые чувства пациента облекаются в некие образы, а затем в подходящие термины…
– Почему ты сказал “некоторые”?” – спросил доктор Вернер.
– Многие из их чувств невыразимы. Но позвольте я закончу. Я сказал о том, что пациенты трансформируют образы в слова: даже этот процесс не безупречен – выбор слов во многом зависит от того, как пациент представляет себе взаимоотношения с аудиторией. И это лишь передающая часть. Затем происходит обратное движение: если терапевты схватывают значение слов, сказанных пациентами, они должны перевести слова в личные образы, а затем в собственные чувства. Какое взаимодействие возможно к концу процесса? Какова вероятность того, что один человек действительно сможет понять переживания другого? Или, излагая иначе, поймут ли два разных человека третьего одинаково?
– Это похоже на детскую игру “Испорченный телефон”, – вставил Эрнст. – Один шепчет соседу на ухо предложение, тот передает его шепотом другому, и так по кругу. Когда фраза возвращается к первому участнику игры, в ней мало что остается от оригинала.
– Это означает, что слушание – это не запись, ‑ сказал Рон, делая ударение на каждом слове. – Слушание – это творческий процесс. Поэтому притворство аналитиков, что психоанализ – это наука, всегда терзает меня. Психоанализ не может быть наукой, так как наука требует точных измерений, надежных объективных данных. В терапии это невозможно, потому что слушать – это творчество; представления терапевта искажаются, как только он начинает оценивать.
– Мы все знаем, что допускаем ошибки, – присоединился Эрнст, – если наивно верим в безупречное восприятие. ‑ С тех пор как он несколько недель назад где‑то прочел эту фразу, он постоянно использовал ее в разговорах.
Доктора Вернера, никогда не избегающего споров, не вывели из себя уверенные ответы его оппонентов.
– Не зацикливайтесь на ложной цели установления абсолютной идентичности мыслей говорящего и восприятия слушающего. Самое лучшее, чего мы можем ожидать, это приблизительная точность. Но скажите мне, – спросил он, – есть ли среди вас хоть кто‑нибудь, включая даже мой инакомыслящий дуэт, – кивнул он в сторону Рона и Эрнста, – кто сомневается, что хорошо интегрированный человек, вероятнее всего, точнее поймет намерения говорящего, нежели, скажем, параноик, для которого каждое взаимодействие будет предзнаменованием угрозы личности? Лично я убежден, что мы, продавая себя, тут же бьем себя в грудь, стеная о нашей неспособности по‑настоящему узнать другого или воссоздать его прошлое. Эта застенчивость привела вас, Доктор Лэш, к сомнительной практике сосредоточения исключительно на принципе “здесь и сейчас”.
– Как это? – невозмутимо поинтересовался Эрнст.
– А так, что вы, из всех наших участников, наиболее скептически относитесь к идее о правдивости и точности воспоминаний пациента и ко всему процессу воссоздания его прошлого. И, я думаю, вы настолько усердствуете в этом, что приводите своего пациента в замешательство. Да, несомненно, прошлое неуловимо, и, несомненно, оно меняется от настроения пациента, и, конечно же, наши теоретические убеждения влияют на то, что именно он вспоминает. Но я все же верю, что под всем этим скрывается истинный подтекст, правдивый ответ на вопрос: “Действительно ли мой брат бил меня, когда мне было три года?”
– Истинный подтекст – это устаревшая иллюзия, – ответил Эрнст. – Нет никакого надежного ответа на этот вопрос. Его контекст – бил ли он намеренно или в игре, просто ставил тебе подножку или валил тебя на пол – этого не узнать никогда.
– Правильно, – поддержал Рон. – Или он ударил тебя, защищаясь, потому что ты сам его ударил минуту назад? Или защищая твою сестру? Или потому, что мама наказала его за то, что сделал ты?
– Истинного подтекста не существует, – повторил Эрнст. – Это все интерпретация. Об этом говорил Ницше еще столетие назад.
– Мне кажется, мы отклоняемся от целей нашей конференции, – вступила Барбара, одна из двух женщин‑участниц.
– В последний раз это называлось семинар по контрпереносу.
Она повернулась к доктору Вернеру.
– Мне хотелось бы высказать свое замечание по поводу процесса. Эрнст сделал именно то, что мы и намеревались делать на этом семинаре – рассказывать о своих сильных чувствах по отношению к пациенту, а затем избавляться от них. Я права?
– Да, да, права, – ответил доктор Вернер.
Блеск его серо‑голубых глаз говорил о том, что он наслаждался этой сценой бунта, в которой сиблинги, недавние конкуренты, объединились для общего наступления. Откровенно говоря, он был в восторге. Господи, представить только! Примитивная стая со своими страстями, – отдаем должное Фрейду, – жива и неистовствует прямо здесь, на улице Сакраменто! На мгновение он решил предложить это толкование группе, но потом подумал, что не стоит. Дети не были еще готовы к этому. Возможно, позже.
Вместо этого он ответил;
– Заметьте, я не критиковал чувства доктора Лэша по отношению к Мирне. У кого из терапевтов не возникали подобные мысли в отношении раздражающего его пациента? Нет, я не критикую его мысли. Я лишь критикую его непоследовательность, его неумение держать свои чувства при себе.
Это вызвало еще одну бурю протеста. Некоторые защищали решение Эрнста открыто выражать свои чувства. Другие критиковали доктора Вернера за то, что он не способствовал установлению доверительной обстановки на семинаре. Они хотели чувствовать себя здесь в безопасности. Они более не желали сдерживать град упреков, касающихся их терапевтических техник, особенно когда критика обосновывалась на традиционном аналитическом подходе, непригодном для тех клинических случаев, с которыми они сталкивались ежедневно.
В конце концов Эрнст первым заметил, что обсуждение утратило свою продуктивность и убедил группу вернуться к первоначальной теме – его контрпереносу. Тогда несколько членов группы рассказали о похожих пациентах, которые раздражали их и надоедали им, но замечание Барбары больше прочих заинтересовало Эрнста.
– Вряд ли это просто упрямая пациентка, – сказала она. – Ты говорил, что она доводит тебя как никто другой, и ты раньше никогда не чувствовал такого неуважения к пациенту?
– Это правда, но я не знаю почему, – ответил Эрнст. – Есть несколько моментов, которые просто выбивают меня из колеи. Меня бесят ее постоянные напоминания о деньгах, которые она мне платит. Она все время пытается превратить это в коммерческую сделку.
– А разве это не сделка? – вставил доктор Вернер. – С каких это пор? Ты оказываешь ей услуги, а она платит тебе за это. Мне кажется, это настоящая торговля.
– А пожертвования прихожан, – они же не делают из церковной службы акт купли‑продажи, – возразил Эрнст.
– Да нет же, делают! – настаивал доктор Вернер. – Обстоятельства, может быть, более рафинированные и замаскированные. Прочти изящную надпись в конце молебника: “не будет пожертвований – прекратятся службы”.
– Типичный аналитический редукционизм – все сводится к базовому уровню, – сказал Эрнст. – Я с этим не согласен. Терапия – не коммерция, а я не лавочник. Не поэтому я пришел в эту область. Если бы важнее были деньги, я бы выбрал что‑нибудь другое – юриспруденцию, банковское дело, даже какую‑нибудь высокооплачиваемую медицинскую специальность, например офтальмолога или рентгенолога. Мне кажется, терапия – это нечто большее, назовем это актом кари‑тас. Я посвятил свою жизнь оказанию помощи. За что мне, между прочим, посчастливилось получать деньги. Но эта пациентка все время задает мне пощечины вопросом о деньгах.
– Ты даешь и даешь, – успокаивающе проговорил доктор Вернер своим ровным, исключительно профессиональным голосом, по‑видимому, смягчаясь. – Но она ничего не дает в ответ.
Эрнст кивнул:
– Правильно! Ничего не дает тебе в ответ.
Ты даешь и даешь, – повторил доктор Вернер. – Ты даешь ей самое лучшее, а она требует еще лучшего
– Именно это и происходит, – сказал Эрнст спокойнее.
Этот обмен репликами произошел так плавно, что никто из членов семинара, наверное, даже сам доктор Вернер, не осознали, как он перешел на успокаивающий профессиональный тон.
– Ты сказал, что она чем‑то похожа на твою мать, – заметила Барбара.
– Я и от нее видел мало хорошего.
– Сказывается ли ее влияние на твои чувства по отношению к Мирне?
– С мамой было иначе. Я держался от нее на расстоянии. Она смущала меня. Мне неприятно было думать, что она родила меня. Когда я был маленьким – в восемь или девять лет, – стоило матери подойти ко мне слишком близко, и я чувствовал, что задыхаюсь. Я помню, что сказал своему психоаналитику: “Она поглощает весь кислород в комнате”. Эта фраза стала девизом, основным мотивом моего анализа: мой аналитик возвращался к этому снова и снова. Порой я смотрел на свою мать и думал, что должен любить ее, но если бы она была чужой, мне бы не нравилось в ней ничего.
– Вот теперь мы знаем кое‑что очень важное о твоем контрпереносе, – сказал доктор Вернер. – Хотя ты призываешь своего пациента сблизиться, ты в то же время ненамеренно посылаешь ей сигнал: “Не приближайся”. Она может зайти слишком далеко и поглотить весь кислород. Без сомнения, она воспринимает это второе послание и реагирует именно на него. И позволь мне снова повторить: мы не можем скрыть своих чувств от пациента. Это урок сегодняшнего дня. И этот факт нельзя не выделить. Ни один опытный терапевт не может сомневаться в существовании бессознательного сопереживания.
– В твоих сексуальных чувствах к ней слишком много амбивалентности, – сказала Барбара. – Я поражена твоим отношением к ее груди – и желание, и отвращение. Тебе нравятся пуговицы на ее блузке, но они вызывают неприятие, потому что напоминают о матери.
– Да, – добавил Том, еще один из близких друзей Эрнста, – а потом ты смущаешься и начинаешь задаваться вопросом, смотрел ли ты на ее грудь. Со мной это тоже часто происходит.
– И твое сексуальное влечение, сопровождаемое желанием удрать? Что ты об этом думаешь? – спросила Барбара.
– Я, без сомнения, во власти темной примитивной фантазии о зубастом влагалище, – ответил Эрнст. – Но есть и еще что‑то, что вызывает особенный страх.
Прежде чем заснуть, Эрнст еще раз спросил себя, может быть, ему стоит перестать встречаться с Мирной. Может быть, ей нужен терапевт женщина, размышлял он. Может быть, мои отрицательные чувства укоренились слишком глубоко и прочно. Но когда он поднял этот вопрос на семинаре, все, включая доктора Вернера, сказали: “Нет, не бросай это дело”. Им казалось, что основные проблемы Мирны с мужчинами быстрее разрешит терапевт мужчина. Слишком плохо, думал Эрнст: он на самом деле хотел сбежать.
Он еще раз прогнал в голове эту странную сегодняшнюю сессию. Хотя и во многом неприятную, включая очередное напоминание о плате, но в общем удачную – Мирна наконец‑то заметила его присутствие в комнате. Она спорила с ним, спрашивала, нравится ли она ему, обсуждала с ним его комментарий о майке. Это было утомительно – но по крайней мере произошло что‑то необычное, что‑то настоящее.
По дороге на следующую сессию Мирна опять прослушала ту злосчастную запись доктора Лэша, а затем запись последней встречи. Неплохо, думала она, ей понравилось, как она держала себя на последней встрече. Она радовалась, что заставила этого сосунка отрабатывать свои деньги. Как восхитительно, что он чувствовал себя неуверенно, когда дело касалось ее замечаний об оплате; я сделаю так, решила она, чтобы каждую сессию он отрабатывал свои деньги. Хватит ходить вокруг да около.
– Вчера на работе, – начала час Мирна, – я сидела в дамской комнате и подслушала, что говорили обо мне некоторые девчонки.
– И? Что же ты услышала? – Эрнста всегда интриговали истории о подслушанных разговорах.
– Вещи, которые мне не понравились. Что у меня мания зарабатывать деньги. Что я не говорю ни о чем, кроме этого, что у меня нет других интересов. Что я скучна и со мной трудно иметь дело.
– Ужасно! Как, наверное, обидно было слышать такое.
– Я чувствовала себя преданной теми, кто, как я думала, заботится обо мне. Просто удар под дых.
– Преданной? Какие между вами были отношения? – Ну, они притворялись, что любят меня, заботятся обо мне, что они мои друзья.
– Как насчет других твоих коллег? Как они к тебе относятся?
– Если вы не возражаете, доктор Лэш, я решила, что раз вы говорили о том, чтобы оставаться здесь, в этом офисе ‑ вы помните? – сосредоточиться на наших взаимоотношениях, – то я хотела бы попробовать.
– Совершенно верно. – На лице Эрнста отразилось потрясение. Он не мог поверить своим ушам.
– Так позвольте мне спросить вас, – сказала Мирна положив ногу на ногу так, чтобы слышно было шуршание чулок, – а вы так же думаете обо мне?
– Как так же? – оторопел Эрнст.
– Как я только что сказала. Вы считаете меня ограниченной? Скучной? Трудной в общении?
– Я не испытываю тех чувств, что ты назвала, к тебе, да и к любому другому.
– Иными словами, вообще никогда, – сказала Мирна, которую невозможно было удержать.
Эрнст почувствовал, что в горле пересохло. Он попытался незаметно сглотнуть.
– Давай посмотрим на это с другой стороны. Когда ты отстраняешься от меня, когда ты без конца повторяешь одно и то же – например, говоришь о своих биржевых акциях или о своем длительном конфликте с компанией, то я чувствую, что расстояние между нами увеличивается. Лучше сказать, мне это менее интересно.
– Менее интересно? Другими словами – скучно?
– О нет, я не это имею в виду, скучно – это социальная ситуация, не подходящая для терапевтической. Пациент, то есть ты – существует не для того, чтобы развлекать меня. Я обращаю внимание на то, как мой пациент взаимодействует со мной и другими, чтобы…
– Но, без сомнения, – перебила она, – ты находишь некоторых пациентов скучными.
– Ну, – сказал Эрнст, вытаскивая салфетку из коробочки на боковом столе и сжимая между ладонями, – Я постоянно исследую свои чувства, и если я… э… не заинтересован…
–. То есть тебе скучно?
– Не совсем. Если я… э… отдален от пациента, я думаю об этом без осуждения. Я думаю о встрече и стараюсь понять, что между нами происходит.
Попытка Эрнста вытереть ладони не ускользнула от Мирны. “Хорошо, – подумала она. – Стопятидесяти‑долларовый пот”.
– А сегодня? Я наскучила тебе сегодня?
– Сейчас? Я точно могу сказать, что сегодня ты не скучна и с тобой совсем не трудно общаться. Я чувствую заинтересованность. Небольшую угрозу. Пытаюсь быть открытым и не защищаться. А теперь ты расскажи мне, что ты переживаешь.
– Сегодня все намного лучше.
– Лучше? Могла бы ты выразиться еще более неопределенно?
–Что?
– Извини, Мирна. Неудачная попытка пошутить.
Я пытаюсь сказать… мне кажется, ты стараешься уклониться и утаить свои переживания.
Час заканчивался, и, поднимаясь, Мирна сказала:
– Я могу сказать тебе о других своих переживаниях.
–Да?
– Я немного переживаю от того, что слишком тороплю тебя. Заставляю тебя усиленно работать.
– И? Что же в том, что я усиленно работаю?
– Я не хочу, чтобы ты поднимал мою оплату.
– Увидимся на следующей неделе, Мирна.
Вечер Эрнст провел за чтением, но чувствовал себя утомленным и озабоченным. Хотя в этот день он встретился с восьмью пациентами, он думал о Мирне больше, чем об остальных семи.
В тот вечер Мирна чувствовала себя полной сил после просмотра объявлений о знакомствах в Интернете она позвонила сестре, с которой они не разговаривали уже несколько месяцев, и долго с ней беседовала.
Когда Мирна наконец‑то заснула, ей приснилось что она в ожидании стоит у окна с чемоданом в руке. Показалось странное такси – веселое, жизнерадостное такси из мультфильма. На его двери написано: “The Freud Taxi Company” [17]. Через мгновение она замечает что буквы поменялись: “The Fraud Taxi Company” [18].
Несмотря на задетое самолюбие и недоверие к Эрнсту, Мирна стала проявлять большой интерес к терапии; даже во время рабочего дня она ловила себя на мыслях о предстоящей сессии.
“Уловка о подслушанном разговоре в дамской комнате сработала отлично”, – думала она, намереваясь продолжать изобретать способы, позволяющие использовать услышанную запись на каждой встрече. На следующей неделе это будет его выражение “скулящая”.
– На днях сестра сказала мне по телефону, – ничуть не смущаясь своей лжи, начала она эту встречу, – что родители часто называли меня “мисс Жалоба”, когда я была маленькой. Ты говорил, что я могу использовать это безопасное место здесь, в твоем офисе, для выражения того, о чем я не могу говорить в другом месте.
Эрнст энергично закивал.
– И меня все интересовало, не думаешь ли ты, что я много скулю.
– Что значит “скулишь”, Мирна?
– Ну ты знаешь – жалуюсь, говорю жалобным голосом, говорю так, что людям хочется сбежать от меня. Так?
– А ты сама как думаешь, Мирна?
– Я не согласна с этим. А ты?
Не в состоянии ни уйти от ответа, ни наврать, ни сказать правду, Эрнст замялся:
– Если под словом “скулить” ты подразумеваешь свои повторяющиеся и непродуктивные жалобы на жизнь, тогда – да, ты так и делаешь.
– Пример, пожалуйста.
– Я обещаю ответить, – сказал Эрнст, решив, что наступило время для замечания о ходе процесса, – но позволь сначала я тебе кое‑что скажу, Мирна. Я потрясен переменами, произошедшими за последние недели. Это случилось так быстро. Ты заметила это?
– Какими переменами?
– Какими? Наверное, всеми. Посмотри, что ты делаешь: ты стала откровенной, сосредоточенной, заинтересованной. Как ты говоришь, ты сосредоточена на том, что происходит в этой комнате; ты говоришь о том, что происходит между нами.
– И это хорошо?
– Это прекрасно, Мирна! Я рад этому. Сказать по‑честному, в прошлом, бывало, мне казалось, что ты с трудом замечаешь мое присутствие рядом с тобой в этой комнате. Сказав, что это здорово, я подразумеваю, что ты двигаешься в правильном направлении. Но ты до сих пор кажешься – как бы это сказать – такой пристрастной, такой… ну, едкой, как будто ты продолжаешь злиться на меня. Это так?
– Я не сержусь на тебя, просто разочарована всей своей жизнью. Но ты обещал привести мне примеры моих жалоб.
Внезапно эта женщина, которая так медленно продвигалась, начала двигаться слишком быстро. Эрнсту пришлось сосредоточить все свое внимание на беседе.
– Не так быстро. Я не ухожу от ответа, Мирна. Мне просто кажется, ты пытаешься заклеймить меня этим. Я сказал “повторяющиеся” и приведу пример этого: твои чувства в отношении твоих работодателей. Насколько они неэффективны, как можно так истощить компанию, нанимать некомпетентных работников, как они несправедливы в вопросах оплаты труда. Ты повторяла это снова и снова. Час за часом. Так же как и свое мнение по поводу знакомств – ты знаешь, о чем я. В эти часы меня не покидало чувство непричастности и бесполезности.
– Но это то, что беспокоит меня, – ты же говорил делиться тем, что меня волнует.
– Ты абсолютно права, Мирна. Я знаю, что это дилемма, но дело не в том, что ты говорила, а в том, как ты говорила. Однако я не хочу отклоняться от первоначальной темы. Только один тот факт, что мы так открыто разговариваем, подтверждает то, о чем я говорил ранее, – ты изменилась, на наших сессиях ты работаешь лучше и усерднее. Однако на сегодня время подошло к концу, на следующей неделе давай начнем с этого места. А, да, вот чек на следующий месяц.
– Хмм, – сказала Мирна, снимая ногу с ноги, не забыв энергично прошуршать чулками, и посмотрела на чек прежде, чем убрать его в сумку. – Я разочарована!
– Что ты имеешь в виду?
– Все еще сто пятьдесят за час. Никаких скидок за то, что я была хорошим пациентом?
На следующей неделе, по дороге на сеанс терапии, слушая запись Эрнста, Мирна решила направить обсуждение в сторону его комментариев о ее внешнем виде и сексуальной привлекательности. Это было непросто.
– На прошлой неделе, – начала она, – ты сказал, что мы начнем с того, на чем остановились.
– Хорошо, с чего начнем?
– В конце прошлой встречи ты говорил о том, что я скулю по поводу одиночества…
– Ого! Ты будто цитируешь мои слова о том, что ты скулишь. Это были не мои слова – повторяю, не мои. Я говорил о твоих повторяющихся замечаниях.
Мирна, конечно же, была осведомлена лучше. “Скулила” было как раз его словом: она же слышала, как он произносил его на кассете. Но, желая продолжить, она позволила ему немного приврать.
– Ты сказал, что тебе наскучили мои разговоры об одиночестве. Как же я могу работать с этим, если не поговорю на эту тему?
– Конечно, ты хотела бы поговорить об основных своих заботах. Как я сказал, важно то, как ты говоришь об этом.
– Что значит “как”?
– Мне казалось, что ты говоришь не со мной. Я оставался вне игры. Раз за разом ты повторяла мне одно и то же – неравное соотношение между мужским и женским населением, неприятная сцена в продуктовом магазине, визуальный контроль при входе в бар для одиноких, обезличенность служб знакомств в Интернете. И каждый раз ты говорила мне это как в первый раз, будто ты ни разу не задавалась вопросом о том, говорила ли ты мне об этом прежде или как я могу относиться к таким частым повторам.
Молчание. Мирна уставилась в пол.
– Что ты почувствовала в ответ на мои слова?
– Я стараюсь переварить их. Немного горчит. Извини, что не была более внимательной.
– Мирна, я не осуждаю тебя. Хорошо, что мы подняли этот вопрос, и хорошо, что я дал тебе обратную связь. Так мы и учимся.
– Трудно думать о других, когда чувствуешь себя в ловушке, чувствуешь себя увязшей в порочном круге.
– Ты останешься в порочном круге, пока будешь думать, что виноват всегда кто‑то другой: твои некомпетентные работодатели или варварская система возрастного ценза в службе знакомств или люди в магазине – подонки. Я не говорю, что они не такие, и не оправдываю их, я говорю, – Эрнст чеканил каждое свое слово, – что ничем не могу помочь тебе с ними. Единственный способ помочь тебе разорвать этот круг – сосредоточиться на тебе, на том, что в тебе самой может провоцировать эти ситуации или усугублять их.
– Я одинока, а на каждого парня десять женщин, – Мирна была вне себя, но говорила уже не так решительно. – А ты хочешь, чтобы я обсуждала свою ответственность за это?
– Подожди, остановись, Мирна! Мы здесь, вернись в эту комнату. Послушай. Я не отрицаю – ситуация со знакомствами тяжелая. Послушай меня: я не отрицаю. Но наша работа заключается в том, чтобы помочь тебе измениться, что в свою очередь может изменить к лучшему ситуацию. Заметь, я говорю прямо. Ты умная и привлекательная женщина, очень привлекательная. Если бы ты не была скована тревожными чувствами – к примеру, негодованием и злостью, страхом и соперничеством, – ты бы без проблем смогла встретить подходящего мужчину.
Мирна была потрясена прямотой доктора Лэша. Но, хотя она понимала, что должна остановиться и отреагировать на его слова, она упорствовала в задуманном.
– Ты никогда прежде не говорил о моей привлекательности.
– А ты не считаешь себя привлекательной?
– Иногда да, а иногда нет. Но я получаю слишком мало подтверждений от мужчин. Я бы могла использовать твою прямую обратную связь.
Эрнст замолчал. Что сказать? Зная, что через несколько недель ему предстоит докладывать на семинаре о своих словах, он сделал паузу.
– Я догадываюсь, что мужчины не общаются с тобой не из‑за твоего внешнего вида.
– А если бы ты был одинок, ты бы обратил на меня внимание?
– Опять тот же вопрос; я уже отвечал на него. Еще минуту назад я сказал, что ты привлекательная женщина. Скажи мне, о чем ты на самом деле спрашиваешь?
– Нет, я задаю другой вопрос. Ты говоришь, я привлекательна, но ты не сказал, обратил бы ты на меня внимание?
– Внимание?
– Доктор Лэш, ты уходишь от ответа. Мне кажется, ты понимаешь, о чем я говорю. Если бы ты встретил меня не как пациентку, а в какой‑то иной ситуации, что тогда? Ты бы посмотрел на меня и ушел? Или стал бы заигрывать со мной? Или рассчитывал бы на одну ночь, после которой оставил бы меня?
– Давай взглянем на то, что происходит между нами сегодня. Ты ставишь меня в затруднительное положение. Что ты выигрываешь при этом? Что происходит внутри тебя, Мирна?
– Но разве я не делаю то, о чем ты меня просил, доктор Лэш? Говорю о наших отношениях, здесь и сейчас?
– Я согласен. Без сомнения, все изменилось – и к лучшему. Мне стала больше нравиться наша работа, и я надеюсь – тебе тоже.
Молчание. Мирна избегает взгляда Эрнста.
– Надеюсь, тебе тоже, – повторил Эрнст еще раз.
Мирна еле заметно кивает.
– Вот видишь? Ты кивнула, слабо, но кивнула! Самое большее три миллиметра. Это я и имею в виду Я едва заметил это. Будто ты хочешь показать мне как можно меньше. Меня это озадачивает. Мне кажется, ты в основном спрашиваешь, а не говоришь о наших отношениях.
– Но ты говорил, и неоднократно, что первый шаг – это получить обратную связь.
– Получить и усвоить обратную связь. Правильно. Но в наши несколько последних встреч ты просто собирала обратную связь – задавала много вопросов и получала ответы. То есть я даю тебе обратную связь, а ты чаще всего задаешь следующий вопрос.
– Чего именно чаще?
– Чаще, чем что‑либо другое. Например, чаще, чем заглядываешь внутрь себя, чтобы обдумать, обсудить и систематизировать значения обратной связи. Что это значило, было ли это справедливым, что это пробудило внутри тебя, что ты почувствовала от сказанных мною слов.
– Хорошо. Честно говоря, мне удивительно слышать, что ты находишь меня привлекательной. Твое поведение говорит об обратном.
– Нет, здесь, в этом офисе, я не думаю о твоей привлекательности. Меня больше занимает глубинная встреча с тобой: с твоей сущностью, с твоей – знаю, что это звучит банально, – душой.
– Может, мне не стоит настаивать, – Мирна чувствовала силу своего вопроса, – но мои внешние данные для меня очень важны и мне любопытно, что ты думаешь обо мне – какие мои черты для тебя более привлекательны? И еще: что бы произошло, если бы мы встретились не в силу профессиональной необходимости, а где‑нибудь в обществе?
Она меня замучила, простонал про себя Эрнст. Сбылся худшие из его кошмаров о ситуации “здесь и сейчас”. Он раб собственного выбора. Эрнст всегда боялся, что в один прекрасный день его прижмут к стенке, что, собственно, сейчас и произошло. Обыкновенный терапевт, без сомнения, не стал бы отвечать на этот вопрос, а отразил бы его, показав все его значения: Почему ты задаешь этот вопрос? А почему сейчас? Какие фантазии лежат в его основании? Что бы ты хотела услышать в ответ?
Но для Эрнста это было неприемлемо. Строя свой терапевтический подход на подлинном взаимодействии, он не мог сейчас отступить и пересмотреть принципы своей работы. Ничего не оставалось, кроме как, вцепившись в собственную целостность, окунуться в ледяную воду правды.
– Физически ты привлекательна со всех сторон – симпатичное лицо, прекрасные блестящие волосы, ошеломительная фигура…
– Под фигурой ты подразумеваешь мою грудь? – перебила Мирна, выпрямляясь.
– Да все – твоя осанка, ухоженность, стройность – все.
– Иногда мне кажется, что ты пялишься на мою грудь – или на пуговицы на моей блузке, – Мирна почувствовала приток жалости и добавила: – Многие мужчины так делают.
– Даже если я это и делаю, то сам того не замечаю, – сказал Эрнст. Он был слишком взволнован, чтобы заниматься тем, чем должен был, – поощрять высказывания ее глубинных чувств о своем внешнем виде, включая грудь, – он старался выкарабкаться на безопасное место. – Но я уже говорил, что считаю тебя привлекательной женщиной.
– Означает ли это, что ты захотел бы близости со мной, – я имею в виду, в гипотетической ситуации?
– Я уже не одинок, но если представить себя в том времени, когда я был свободен, я знаю, что физически ты подошла бы мне по всем параметрам. Но есть некоторые другие вещи, о которых я задумался бы.
– Например?
– Например, то, что происходит здесь сейчас, Мирна. Послушай внимательно, что я хочу сказать. Ты слушаешь и защищаешься. Ты аккумулируешь информацию, полученную от меня, но ничего не даешь взамен! Мне верится, что ты пытаешься относиться ко мне по‑другому, но я не воспринимаю это как взаимодействие. Мне также не кажется, что ты относишься ко мне как к личности – ты относишься ко мне как к базе данных, из которой ты выкачиваешь информацию.
– Ты хочешь сказать, что я не могу установить с тобой контакта из‑за своих жалоб?
– Нет, я говорю не об этом. Все, Мирна, наше время истекло, на сегодня придется прерваться. Но когда ты будешь прослушивать запись этой сессии, обрати внимание на то, что я сказал минуту назад о том, как ты относишься ко мне. Я думаю, это самое важное, что я когда‑либо тебе говорил.
После сессии Мирна, не теряя времени, поставила кассету, следуя совету Эрнста. Начав с “физически ты подошла бы мне по всем параметрам”, она слушала очень внимательно.
“– Но есть некоторые другие вещи, о которых я задумался бы… Послушай внимательно, что я хочу сказать. Ты слушаешь и защищаешься. Ты аккумулируешь информацию, полученную от меня, но ничего не даешь взамен!. Мне также не кажется, что ты относишься ко мне как к личности – ты относишься ко мне как к базе данных, из которой ты выкачиваешь информацию… Когда ты будешь прослушивать запись этой сессии, обрати внимание на то, что я сказал минуту назад… Я думаю это самое важное, что я когда‑либо тебе говорил”.
Поменяв кассеты, Мирна снова прослушала запись о контрпереносе. Ее поразили те же фразы.
“…она не собирается взаимодействовать со мной и понимать это – она утверждает, что это неуместно… Сколько же, черт побери, раз я объяснял ей, как это важно – рассмотреть наши взаимоотношения?… Все, что я делаю, недостаточно хорошо для нее… никакой нежности, никакого тепла”.
Возможно, доктор Лэш прав, подумала она. Я на самом деле никогда не думала о нем, его жизни, его опыте. Но я могу это изменить. Сегодня. Прямо сейчас по дороге домой.
Но она была неспособна сосредоточиться больше чем на минуту‑две. Чтобы успокоить свои мысли, она обратилась к технике, которой научилась несколько лет назад на занятии по медитации. Оставив часть своего сознания сосредоточенным на дороге, с помощью другой она воссоздала образ метлы, выметающей все возникающие в голове бессвязные мысли. Сделав это, она сосредоточилась на дыхании: вдох – и медленный выдох.
Хорошо. Ее мысли успокоились, она позволила себе представить лицо доктора Лэша, сначала улыбающееся и внимательное, затем хмурящееся и отворачивающееся. В течение последних нескольких недель, с того времени, как она услышала ту запись, ее чувства по отношению к нему раскручивались по спирали.
Мне нужно сказать ему одну вещь, думала она… он стойкий. Я держу бедного парня на привязи вот уже несколько недель. Заставляю его потеть. Снова и снова бросаю ему в лицо его же слова. А он продолжает отражать удары. Держится. Не сдается. И он не увиливает, не изворачивается, не пытается лгать, как делала я. Может быть, позволяет себе маленькие хитрости, как тогда когда старался отказаться от слова “скулить”. Или может быть, он старается избавить меня от боли?
Мирна вышла из задумчивости, как раз чтобы повернуть на 380‑е шоссе, а затем опять легко отдалась во власть фантазий. Интересно, что доктор Лэш делает сейчас? Диктует? Записывает замечания об их встрече? Укладывает записи в ящик стола? Или сидит за столом и в этот момент думает обо мне? Этот стол. Стол отца. А отец думает обо мне сейчас? Может быть, он до сих пор где‑то здесь, может, наблюдает за мной. Нет, папа превратился в прах. Оголенный череп. Кучка пыли. И все его мысли обо мне – тоже пыль. Все его воспоминания, его любовь, ненависть, уныние – все пыль. Даже меньше, чем пыль, – все это электромагнитные вспышки, исчезнувшие без следа. Я знаю, папа, должно быть, любил меня – все об этом говорили: тетя Элин, тетя Мария, дядя Джо, но он не мог сказать об этом мне. Если бы я только услышала от него эти слова.
Съезжая с шоссе, Мирна аккуратно припарковалась. Она взглянула вверх. Какое сегодня небо! – размышляла она. Большое небо. Слова… как можно описать его? Чистейшее – величественное – покрытое облаками. Светлые полосы облаков. Нет, прозрачные. Так лучше – мне нравится это слово. Прозрачные – прозрачные облака. А может быть, завеса волнистых облаков – облака, похожие на волны белого песка, движимые волнением ветра! Хорошо. Хорошо. Мне нравится.
Она взяла ручку и набросала несколько линий на обороте розовой квитанции из химчистки. Тронувшись с места, она снова начала размышлять. Как бы папа произнес эти слова? “Мирна, я люблю тебя, Мирна, я горжусь тобой – люблю тебя – люблю ^^д _– ты лучшая дочь, самая лучшая дочь на свете”. И что дальше? Снова пыль.
Ну и что, что он не сказал их никогда? А кто‑нибудь говорил такое ему? Его родители? Никогда. Эти истории о них – его вечно пьющий отец, который умер болезненным и безмолвным, и его мать, которая еще два раза выходила замуж за алкоголиков. А я? Я когда‑нибудь говорила ему эти слова? Хоть кому‑нибудь говорила их?
Мирна задрожала и отмахнулась от своих мыслей. Как это не похоже на нее – эти мысли. Речь, поиск красивых слов. А воспоминания об отце? Это тоже было странно: она редко возвращалась к нему в мыслях. А как же ее решение думать о докторе Лэше?
Она попробовала еще раз. На минуту она представила его сидящим за столом, но затем возник другой образ из прошлого. Поздняя ночь. Должно быть, она уже долго спала. Шаги в холле. Поток света, струящийся из‑под дверей родительской спальни. Мягкие голоса. Она услышала свое имя. “Мирна”. Должно быть, они лежали под толстым пушистым одеялом. Постельный разговор. Говорили о ней. Она прильнула к полу, прижавшись щекой к ледяному линолеуму, пытаясь разглядеть хоть что‑нибудь под дверью, услышать тайные слова родителей о ней.
А теперь, подумала она, глядя на плеер, я узнала эту тайну; я знаю эти слова. Эти слова в конце сессии – какие они были? Она поставила кассету, промотала назад и стала слушать.
“‑…Мирна. Послушай внимательно, что я хочу сказать. Ты слушаешь и защищаешься. Ты аккумулируешь информацию, полученную от меня, но ничего не даешь взамен! Мне верится, что ты пытаешься относиться ко мне по‑другому, но я не воспринимаю это как взаимодействие. Мне также не кажется, что ты относишься ко мне как к личности – ты относишься ко мне как к базе данных, из которой ты выкачиваешь информацию”.
Выкачивание информации из “базы данных”. Она кивнула. Возможно, он прав.
Она повернула обратно на шоссе 101.
В начале следующей сессии Мирна сидела молча. Как всегда нетерпеливый, Эрнст попытался подтолкнуть ее:
– Где были твои мысли несколько последних минут?
– Я думала о том, как ты начнешь сессию.
– Какие у тебя предпочтения, Мирна? Если бы желания исполнялись, каким бы ты пожелала видеть начало нашей встречи? Какая фраза была бы самой подходящей или какой вопрос? ‑
– Ты бы мог сказать: “Привет, Мирна. Я так рад видеть тебя”.
– Привет, Мирна. Я так рад видеть тебя сегодня, – немедленно повторил Эрнст, скрывая удивление от ответа Мирны. На последних встречах с ней подобные откровенно хитрые ходы постоянно терпели фиаско, и он задал вопрос без особой надежды на успех. Как чудесно, что она стала такой смелой! И ему было правда приятно видеть ее – это было больше, чем чудо.
– Спасибо. Очень мило с твоей стороны, хотя ты сказал не совсем правильно.
– Как?
– Ты вставил лишнее слово, – сказала Мирна. – Слово сегодня.
– Значение которого?.
– Помните, доктор Лэш, как вы обычно говорили мне: “Вопрос перестает таковым быть, если ты знаешь ответ”.
– Ты права, но я пошутил. Помни, Мирна, иногда у терапевтов есть особые привилегии в беседе.
– Тогда для меня ясно, что слово “сегодня” говорит о том, что обычно вы были не рады меня видеть.
“И еще недавно, – думал Эрнст, – я считал ее чуть ли не умственно отсталой?”
– Продолжай, – сказал он, улыбаясь. – Почему я не хотел видеть тебя?
Она колебалась. Она не хотела, чтобы разговор пошел в этом направлении.
– Попробуй. Попробуй ответить на этот вопрос, Мирна. Почему ты думаешь, что я не всегда рад тебя видеть? Свободные ассоциации – скажи то, что приходит тебе на ум.
Тишина. Слова быстро приходили. Она попробовала собрать их и отсортировать, сдержать их, но слов, переполняющих душу, было слишком много.
– Почему ты не рад видеть меня? – начала она. – Почему? Я знаю почему. Потому что я неутонченная и вульгарная, у меня плохой вкус. – “Как мне не хочется это делать”, – подумала она, но не могла остановиться, продолжая закипать, очищать пространство между ними, – и потому что я жесткая и ограниченная, я никогда не говорю ничего прекрасного или поэтического! – Достаточно, достаточно! Она пыталась сжать зубы, прикусить язык. Но слова набирали силу, которую она не могла сдержать, и она выплеснула их. – Я не мягкая, мужчины бегут от меня – слишком много острых углов, локти, колени, – и я неблагодарная, я отравляю наши взаимоотношения постоянными разговорами о счетах, и – и… – На мгновение она остановилась, а затем она закончила капризным тоном: – И моя грудь слишком большая. – Истощенная, она откинулась на стуле. Все было сказано.
Эрнст был потрясен. Теперь именно он погрузился в Молчание. Эти слова – его слова. Откуда они? Он посмотрел на Мирну, которая согнулась, схватившись за голову. Как ответить? Его мысли блуждали; ему хотелось сказать: “Твоя грудь не такая уж большая”. Но, слава богу, он не стал этого делать. Время подтрунивать еще не пришло. Он знал, что должен принять слова Мирны со всей серьезностью и уважением. Он хватался за спасательный круг, который доступен терапевтам даже в самом штормящем из морей: комментарий процесса, то есть замечания по процессу, значение взаимоотношений, больше внимания тому, как это произносит пациент, а не содержанию.
– Твои слова полны эмоций, Мирна, – сказал он тихо. – Кажется, ты хотела сказать их очень давно.
– Думаю, что да. – Мирна несколько раз глубоко вздохнула. – Слова живут сами по себе. Им необходим был выход.
– Выход гнева по отношению ко мне – может быть, по отношению к нам обоим.
– Обоим? Тебе и мне? Наверное, правда. Но гнев утихает. Может быть, поэтому я и смогла сказать все это сегодня.
– Мне нравится, что ты стала мне больше доверять.
– Я на самом деле хотела поговорить о других вещах сегодня.
– Каких, например? – Эрнст ухватился за эту идею – что угодно, только бы поменять направление.
Пока Мирна переводила дух, он задумался над ее странной интуицией, пугающим взрывом слов. Он был удивлен, что она так много узнала о нем! Как? Есть только одна возможность: подсознательное сопереживание. Так, как говорил доктор Вернер. Значит, все это время Вернер был прав, думал он. Почему я не позволил ему научить себя? Каким же грубияном я был. Как сказал доктор Вернер? Что я несносный ребенок, ниспровергатель идолов? Ну, может быть, пришло время выбросить из головы мои юношеские попытки допрашивать и разоблачать старших – не все, что они говорят, полная чушь. Никогда больше я не усомнюсь в подсознательном сопереживании. Возможно, это был такого рода эксперимент, который подтолкнул Фрейда серьезно отнестись к идее телепатического взаимодействия.
– Где сейчас твои мысли, Мирна? – наконец спросил он.
– Мне столько хочется сказать. Я не знаю, с чего начать. Прошлой ночью я видела сон. – Она показала блокнот. – Посмотри, я записала его.
– Ты стала серьезнее относиться к терапии.
– С пользой трачу свои сто пятьдесят. Oй! – Она прикрыла рот рукой. – Я не это имела в виду – извини.
– Извинения приняты. Ты сама поймала себя – это главное. Наверное, тебя взволновал мой комплимент.
Мирна кивнула и поспешила почитать свой сон из блокнота:
“Я сделала пластическую операцию на носу. Они снимают бинты. С носом все в порядке, но моя кожа сморщилась, рот не закрывается и похож на огромную дыру в пол‑лица. Видны мои миндалины – огромные, раздутые, воспаленные. Темно‑красные. Потом появляется врач с нимбом. Вдруг мне удается закрыть рот. Он задает мне вопросы, но я не отвечаю. Я не хочу открывать рот и показывать ему огромную зияющую дыру”.
– Нимб? – спросил Эрнст, когда она остановилась.
– Ну, знаешь, сияние, святое сияние, ореол.
– Хорошо. Нимб. Мирна, какие у тебя возникли мысли по поводу этого сна?
– Мне кажется, я знаю, что ты бы сказал по поводу этого сна.
– Старайся говорить о своем опыте. Свободные ассоциации. Что приходит на ум, как только ты вспоминаешь этот сон?
– Большая дыра на лице.
– Какие мысли приходят, связанные с этим?
– Пещеристый, глубокий, печальный, черный. Еще?
– Продолжай.
– Гигантский, обширный, громадный, чудовищный прямо тартар.
– Тартар?
– Знаешь, ад – или пропасть, где были заключены титаны.
– Хорошо. Интересное слово. Да, но вернемся к сну. Ты говоришь, что есть что‑то, что ты хочешь скрыть от доктора, чтобы он не видел этого, и я догадываюсь, что доктор – я?
– С этим трудно поспорить. Не хочу, чтобы ты видел эту зияющую дыру, эту пустоту.
– А если ты откроешь рот, то я увижу это. То есть ты охраняешь себя, охраняешь свои слова. Ты все еще видишь сон, Мирна? Все еще ясно?
Она кивнула.
– Продолжай смотреть его – какая часть сна теперь тебе интересна?
– Миндалины – в них много энергии.
– Посмотри на них. Что ты видишь? Что приходит на ум?
– Они горячие, обжигающие.
– Продолжай.
– Готовые разорваться, опухшие, раздувшиеся, распухшие, набухающие…
– Распухшие, раздувшиеся? А другое слово – “словно тартар”? Те же самые слова, Мирна?
– Я просматривала словарь на этой неделе.
– Да, я хотел бы услышать побольше об этом, но сейчас давай вернемся к твоему сну. Миндалины, они видны, если ты откроешь рот. Так же как и пустота. И они как будто горят. Что же произойдет?
– Гной, уродство, что‑то неприятное, протухшее, отвратительное, гадкое…
– Еще из словаря?
Мирна кивнула.
– Значит, сон предполагает, что ты ходишь к доктору – ко мне – и наша работа не охватывает некоторые вещи, которые ты не хочешь показывать или ты не хочешь, чтобы я это видел – обширную пустоту и миндалины, готовые взорваться и извергнуть нечто мерзкое. Эти раздувшиеся миндалины заставляют меня вернуться на несколько минут назад и вспомнить слова, которые вырвались у тебя.
Мирна опять кивнула.
– Я тронут тем, что ты рассказала сегодня свой сон, – сказал Эрнст. – Это знак доверия мне и тому, что мы делаем вместе. Это хорошая работа – действительно хорошая работа. – Он замолчал на мгновение. – Можем мы теперь обсудить словарь?
Мирна рассказала о “пламенном” окончании своей поэтической карьеры, когда была еще ребенком, и все возрастающее желание начать писать снова.
– Этим утром, когда я записывала свой сон, я знала, что ты задашь вопрос о дыре и миндалинах, поэтому я разыскала интересные слова.
– Звучит так, будто тебе что‑то было нужно от меня.
– Твой интерес, наверное. Я не хотела больше быть скучной.
– Это твое слово, а не мое. Я так никогда не говорил.
– До сих пор я уверена, что ты так обо мне думал.
– Я хочу, чтоб мы еще вернулись к этому, но сперва давай кое‑что еще обсудим в твоем сне – ореол над головой доктора.
– Нимб – да, это любопытно. Скорее всего, сейчас я отношу тебя к категории хороших парней.
– Значит, ты стала лучше думать обо мне и хочешь быть ко мне ближе. Но трудность в том, что, если мы сблизимся, я могу обнаружить что‑то стыдное про тебя: может быть, внутреннюю пустоту, может быть, что‑то еще – вспышки гнева, ненависть к себе. – Он посмотрел на часы. – Мне жаль, но мы должны остановиться. Время закончилось. У нас была трудная, но хорошая работа сегодня. Мне было с тобой хорошо.
Усердная работа продолжалась в установленные терапевтические часы, следующие один за другим. Неделя за неделей Эрнст и Мирна приходили к новым уровням доверия. Она никогда прежде не отваживалась на такой риск; он чувствовал привилегию наблюдать за изменениями, происходящими в ней. Из‑за этого опыта Эрнст и стал психотерапевтом. Через четырнадцать недель после первого представления случая Мирны на семинаре он сел за стол, взял микрофон и стал готовить следующее выступление.
“Это доктор Лэш. Я диктую запись для семинара по контрпереносу. За последние четырнадцать недель и мой пациент, и терапия прошли через потрясающие изменения. Я могу поделить терапию на две стадии: до и после моего комментария о майке.
Всего несколько минут назад Мирна вышла из кабинета, и я был очень удивлен, обнаружив, что час прошел совершенно незаметно. Мне было грустно, что она уходит. Удивительно. Когда‑то она была для меня скучной. Теперь это оживленный и легко взаимодействующий человек. Я уже неделями не слышу ее жалоб. Мы много подшучиваем – она остроумная, и мне порой трудно угнаться за ней. Она открытая, рефлексирующая, сообщает интересные сны и красиво рассказывает о них. Больше никаких жалобных монологов: она осознает мое присутствие в комнате, и процесс превратился в гармоничное взаимодействие. Я с нетерпением жду нашей следующей встречи – как ни с каким другим пациентом.
Вопрос на миллион: Как комментарий о майке запустил процесс ее изменения? Как воссоздать и интерпретировать события последних четырнадцати недель?
Доктор Вернер был уверен, что замечание о майке было вопиющей ошибкой, которая могла повлечь за собой нарушение терапевтического альянса. Он был абсолютно не прав. Мои промахи стали основным эпизодом терапии!
Но он был прав – и как прав! – по поводу способности пациента настроиться на подавленные эмоции терапевта. Она интуитивно угадала фактически все мои подавленные эмоции и описала их на нашей встрече. С удивительной точностью. Она ничего не пропустила. Она прямо пригвоздила меня. Не было ни одного комментария, из представленных группе, которые я бы высказал ей открыто. Наверное, парапсихология в некоторой степени обоснованна.
Почему ее состояние улучшилось? Что еще могло повлиять как не замечание о майке? Этот случай показал мне, что в терапии есть место и жестокой правде. И терапевты должны придерживаться этой позиции, должны оставаться в настоящем, оставаться честными с пациентом. Этого требует создание хороших взаимоотношений, которые помогут терапевту и пациенту пройти через любые испытания. А в наше время необходима еще и смелость. В последний раз, когда я рассказывал о Мирне, кто‑то – кажется, Барбара – назвал комментарий о майке “шоковой терапией”. Я согласен: это так и есть. Это радикально изменило Мирну, и в постшоковый период она стала мне больше нравиться. Я был восхищен ее манерой настаивать на обратной связи. Наверное, она почувствовала мое возросшее восхищение ею. Люди начинают любить себя, если они видят свой образ, отражающийся в полных обожания глазах кого‑то, кто им не безразличен”.
Пока Эрнст диктовал заметки к семинару, Мирна ехала домой, тоже обдумывая несколько последних встреч. “Трудная, но хорошая работа”, как назвал их доктор Лэш, и он был прав. Она гордилась собой. За несколько последних недель она увидела себя с другой стороны. Каждый раз она рисковала; она затрагивала и обсуждала каждый аспект их с доктором Лэшэм отношений. За исключением одного: она никогда не упоминала об услышанной кассете.
Почему? Сначала это было простое удовольствие помучить его, его же собственными словами. По правде говоря, ей нравилось бить его своим секретным знанием. Временами – особенно когда он казался довольным собой, уверенным в своем сверхъестественном знании – она наслаждалась мыслью о том, какое у него будет лицо, когда она ему расскажет правду.
Но все изменилось. За последние несколько недель, став к нему ближе, большая часть прежнего удовольствия испарилась. Секрет стал бременем, раздражающей занозой, от которой она хотела избавиться. Она даже репетировала свое признание. Не один раз она, входя в его кабинет и глубоко вдохнув, собиралась ему все рассказать. Но она этого не сделала – отчасти это было затруднительно из‑за того, что она слишком долго молчала, отчасти из‑за нежных чувств. Доктор Лэш играл открыто: он не отказался ни от одного слова, которое она ему выставила. Он посвятил себя ее благополучию. Зачем же затруднять его сейчас? Зачем причинять ему боль? Это был акт заботы. Но была и еще одна причина. Ей нравилось быть могущественной волшебницей, нравилось волнение от тайного знания.
Ее склонность к секретам выражалась абсолютно непредсказуемым образом. Сидя со словарем в руке, она посвящала вечера сочинению стихов на такие темы, как жульничество, секретность, письменные столы, спрятанные вещи. Интернет давал хорошие возможности – многие стихи она отправляла на чат “одинокий поэт”.
Пристально смотрю вверх
На скрепленные края ящиков,
Наполненных нектаром секретов.
Когда я вырасту,
У меня будет своя комната,
И я наполню ее тайнами.
Тайна, в которой она никогда не призналась отцу, все увеличивалась. Как никогда прежде она чувствовала его присутствие. Его медицинские инструменты, его письменный стол с секретами, обладающий для нее особым очарованием, которое она пыталась передать в стихах.
Затянутый ажурной паутиной стетоскоп,
Стул, скрипящий красной кожей.
Письменный стол, до краев наполненный ароматом тайн
Умерших пациентов,
Болтающих во тьме,
До тех пор пока утро не пронзит пыль,
Освещая деревянный стол, который,
Как луг, на котором только что танцевали,
Праздно зеленеет, и все еще помнит
Людские прикосновения.
Мирна не делилась этими стихами с доктором Лэшем. У нее было много тем, на которые они могли поговорить во время занятий, и поэзия казалась неуместной. Кроме того, стихи могли вызвать вопросы о теме секретности и могли привести прямо к ее тайне услышанной кассеты.
Она также не нуждалась в одобрении ее поэзии доктором. Она находила массу подтверждений этому. Поэтический чат в Интернете посещало множество одиноких мужчин‑поэтов.
Жизнь стала увлекательной. Никаких сверхурочных в ее офисе в Силиконовой долине. Ночью Мирна открывала свой ящик электронной почты, который был заполнен восхвалениями ее поэзии. Наверное, она слишком поспешно определила отношения через компьютер как безличные. Скорее всего правдой было другое. Скорее всего электронные отношения – не зависящие от поверхностных, внешних физических данных – были более искренними и сложными.
Электронные поклонники, которые одобряли ее поэзию, никогда не забывали выслать свои личные данные и номер телефона. Ее самооценка росла. Она читала и перечитывала свою почту. Она собирала отзывы, характеристики, номера телефонов, информацию. Смутно она помнила замечание доктора Лэша о сборе информации из базы данных. Но ей нравилось коллекционировать. Она скрупулезно разрабатывала шкалу оценки поклонников, значимость в которой имели такие показатели, как финансовый потенциал, фондовый опцион, корпоративный статус и качество строф, а также личные характеристики, такие, как открытость, великодушие и экспрессивность. Некоторые из ее воздыхателей с поэтического чата просили о личной встрече – приглашали на чашечку кофе, на прогулку, обед, ужин.
Не сейчас, ей еще нужна была информация. Но скоро…
Глава 6. Проклятие венгерского кота.
Скажи мне, Халстон, почему ты хочешь прервать терапию? Мне кажется, мы только начали. Мы встречались всего лишь сколько – три раза? – Эрнст Лэш просмотрел книгу посещений. – Да, верно. Это наша четвертая встреча.
Терпеливо ожидая ответа, Эрнст разглядывал серый галстук пациента и его серый костюм и пытался вспомнить, когда последний раз видел пациента, который бы носил костюм‑тройку или галстук.
– Пожалуйста, поймите меня правильно, доктор, – сказал Халстон. – Это не из‑за вас; это из‑за того, что происходит слишком много неожиданного. Мне трудно приезжать сюда в середине дня – труднее, чем я ожидал… вызывает больший стресс… парадокс, потому что я ездил к вам, чтобы снизить стресс… И оплата терапии, я не могу отрицать, что этот фактор… я переживаю сейчас денежные затруднения. Поддержка детей… три тысячи в месяц на алименты… старший сын начинает учебу в Принстоне осенью… тридцать тысяч в год… ну вы понимаете. Я решил закончить сегодня, но подумал, что лучше будет… я обязан прийти на заключительную встречу.
Эрнст вспомнил одно из высказываний своей матери и прошептал про себя: “Geh Gesunter Heit” (Будь здоров), похоже на пожелание здоровья после чихания. Но Geh Gesunter Heit , как произносила насмешливо его Мама, звучало скорее оскорбительно и означало: “Уйди и держись подальше” или “Слава богу, я тебя еще не скоро увижу”.
Да, правда, Эрнст отметил для себя, что, если бы Халстон ушел и больше не возвращался, ему было бы все равно. Я не могу заинтересоваться этим мужчиной. Эрнст внимательно посмотрел на своего пациента – голова в пол‑оборота, потому что Халстон никогда не встречался с ним глазами. Вытянутая, жалобная физиономия, грифельно‑черная кожа – он был из Тринидада, прапраправнук бежавшего раба. Если у Халстона и было когда‑нибудь что‑то вроде искры, то она давно уже была погашена. Он был собранием серых теней: седеющие волосы, точно подстриженная седая козлиная бородка, жесткие глаза, серый костюм, темные носки. И серое мышление. Нет ни единого цвета или движения, оживляющего тело или ум Халстона.
Geh Gesunter He it : уйди и держись подальше. Не об этом ли мечтал Эрнст? Заключительная сессия, сказал Халстон. Да, думал Эрнст, звучит заманчиво. Я смогу это пережить. Сейчас он был слишком загружен. Меган, бывшая его пациентка, которую он уже долгое время не видел, тоже была черной. Она предприняла попытку самоубийства две недели назад и сейчас упорно претендовала на его время. Чтобы защитить ее и избавить от пребывания в больнице, ему необходимо было видеться с ней по крайней мере три раза в неделю.
Эй, проснись! – подбодрил он себя. Ты терапевт. Этот человек пришел сюда за помощью, и ты взял на себя обязательство. Он тебе не слишком нравится? Он тебя не занимает? Он нагоняет скуку, держится на расстоянии? Отлично, это уже кое‑что. Используй это! Если ты воспринимаешь его таким, значит, и для остальных он такой же. Вспомни об основной причине его обращения к терапевту – глубокое чувство отчуждения.
Было понятно, что Халстон испытывал стресс больщей частью из‑за смены культурного окружения. С девяти лет он жил в Великобритании и лишь недавно приехал в Соединенные Штаты, в Калифорнию в качестве менеджера Британского банка. Но Эрнсту казалось, что эта перемена была лишь частью истории – было в нем что‑то еще, очень глубоко спрятанное.
Хорошо, хорошо, говорил себе Эрнст, я не скажу, я даже не подумаю, “ Geh Gesunter Heit ”. Он вернулся к своей работе, внимательно выбирая слова, чтобы убедить Халстона остаться.
– Да, я понимаю, что ты хочешь уменьшить стресс, а не увеличить его, тратя большое количество времени и денег. Разумно. Но знаешь, есть кое‑что в твоем решении, что озадачивает меня.
– Да, и что?
– Ну, я был предельно откровенен в вопросах необходимого времени и платы, и мы обсуждали это, прежде чем начали встречаться. Не было никаких сюрпризов, ничего не изменилось. Правда?
Халстон кивнул:
– Я не могу спорить с этим, доктор, вы абсолютно правы.
– Поэтому мне кажется, что есть еще что‑то, помимо денежных и временных обстоятельств. Что‑то, касающееся тебя и меня? Может быть, тебе было бы удобнее работать с темнокожим терапевтом?
– Нет, доктор, не то. Ложный след, как вы, американцы, говорите. Причина не в расовом различии. Вспомните, я провел несколько лет в Итоне и еще шесть – в лондонской школе экономики. Там было лишь несколько черных. Уверяю, нет никакой разницы, будет ли это черный или белый терапевт.
Эрнст решил предпринять последнюю попытку, чтобы потом никогда не упрекать себя за провал.
– Давай я поставлю вопрос иначе. Я понимаю твои доводы. Они разумны. Можно предположить, что это достаточные причины, чтобы остановиться. Я уважаю твое решение.
Халстон осторожно взглянул и легким кивком позволил Эрнсту продолжить.
– Мой вопрос в том, нет ли еще каких‑то дополнительных причин? Я знаю многих пациентов – и они есть у каждого терапевта, – которые отказываются от терапии по причинам не совсем рациональным. Если у тебя такие же причины, мог бы ты рассказать хотя бы о некоторых?
Он остановился. Халстон закрыл глаза. Эрнст почти слышал приводимые в движение шестеренки мышления. Воспользуется ли Халстон случаем? Эрнст видел, как Халстон открыл рот – лишь щель, – как будто он собирался заговорить, но не проронил ни слова.
– Я не говорю о чем‑то глобальном, Халстон. Хотя бы намек на другие причины?
– Возможно, – рискнул Халстон, – я посторонний и в этом кабинете, и в Калифорнии.
Пациент и терапевт сидели, молча глядя друг на друга: Эрнст – на идеальные ногти и серый костюм Халстона; Халстон, казалось, на неопрятные усы и белый свитер терапевта.
Эрнст решил попытаться отгадать.
– Калифорния слишком свободная? Ты предпочитаешь более формальный Лондон?
Есть! Движение Халстона головой было еле уловимо.
– А в этой комнате?
– И здесь тоже.
– Например?
– Никаких нарушений, доктор, но я привык к большему профессионализму, когда встречаю терапевта.
– Профессионализм? – Эрнст почувствовал, как у него пробуждается интерес. Наконец‑то что‑то начало происходить.
– Я предпочитаю консультироваться у врача, который ставит конкретный диагноз и назначает лечение.
– А с чем ты столкнулся здесь?
– Никаких нарушений, доктор Лэш.
– Твоя единственная задача здесь, Халстон, открыто говорить о том, что у тебя на уме.
– Здесь все – как бы это сказать? – слишком неформально, слишком… слишком фамильярно. Например, ваше предложение называть друг друга по именам.
– Тебе кажется, эта фамильярность противоречит профессиональным взаимоотношениям?
– Точно. Мне нелегко. Иногда мне кажется, что мы занимаемся бесполезной возней, будто мы рассчитываем когда‑нибудь наткнуться на ответы.
Эрнст играл открыто. Терять было нечего. Халстон был готов уйти. “Возможно, – думал Эрнст, – самое лучше, что можно сейчас сделать – это дать ему то, что он сможет использовать в общении с другим терапевтом”.
– Я понимаю, как ты представляешь себе наши формальные роли, – сказал он, – и я ценю твою готовность выразить свои чувства, касающиеся общения со мной. Позволь мне сделать то же самое и поделиться с тобой своими чувствами от работы с тобой.
Эрнст полностью завладел вниманием Халстона. Он редко встречал пациентов, которым было безразлично, что думает о них терапевт.
– Одно из моих основных чувств – это разочарование, вызванное тем, что мне пришлось столкнуться со скрягой.
– Скрягой?
– Скрягой, словесным скрягой. Ты даешь мне очень мало. Когда я задаю тебе вопрос, твой ответ напоминает мне краткую телеграмму. Ты используешь так мало слов твои высказывания содержат настолько мало описательных деталей, ты вкладываешь так мало личного отношения, как это только возможно. И именно по этой причине я старался создать более близкие отношения между нами. Мой подход к терапии зависит от того, готовы ли мои пациенты делиться своими самыми глубинными чувствами. Исходя из моего опыта, формальные роли замедляют этот процесс, и это единственная причина, по которой от них следует отказаться. И поэтому я всегда прошу тебя разобраться в своих чувствах по отношению ко мне.
– Все, что вы говорите, чрезвычайно разумно – я уверен, вы знаете то, что делаете. Но я не могу так – эта калифорнийская культура, когда все чувства наружу, действует мне на нервы. Вот такой я.
– Один вопрос. Ты удовлетворен тем, какой ты?
– Удовлетворен? – Халстон казался растерянным.
– Ну когда ты говоришь, что ты такой. Я думаю, что тем самым ты также говоришь, что выбрал именно такой путь. Поэтому я спрашиваю, ты доволен своим выбором? Тем, что держишь дистанцию, остаешься таким безличным?
– Я не уверен, что это выбор, доктор. Это, – повторил он, – то, какой я есть, – моя внутренняя сущность.
Эрнст видел два варианта развития событий. Он мог либо попытаться убедить Халстона в его собственной ответственности за отдаленность, либо поделиться своими впечатлениями об одном критическом эпизоде. Он выбрал последнее.
– Позволь мне снова вернуться к началу, в ту ночь, когда ты вошел в комнату неотложки. Я расскажу, как это выглядело с моей стороны. Около четырех утра мне позвонили из “Скорой помощи” и сообщили о пациенте в состоянии сильной паники, вызванной ночным кошмаром. Я попросил врача вывести тебя из этого состояния и сказал, что встречусь с тобой двумя часами позже, в шесть. Когда мы встретились, ты не мог вспомнить ни ночного кошмара, ни событий предыдущего вечера. Другими словами, не было никакого содержания, не с чего было начинать.
– Так это и было. Все, что касается той ночи, словно черное пятно.
– Я попробовал работать над этим, и я согласен с тобой – ты сделал некоторый прогресс. Но за эти три часа я был потрясен тем, насколько сильно ты отстранен от других, от меня, от себя самого. Я убежден, что твоя отстраненность и твой дискомфорт от того, что я акцентировал на ней внимание, – основная причина твоего желания завершить работу. Есть и еще одно наблюдение: я поражен полным отсутствием любопытства к самому себе. Мне кажется, я должен поддерживать любопытство в нас обоих – я один должен нести все бремя нашей совместной работы.
– Я ничего не скрываю от вас преднамеренно, доктор. Зачем мне делать это специально? Просто я такой, – повторил Халстон в своей манере.
– Давай попробуем еще, Халстон. Я хочу, чтобы ты вспомнил, что происходило днем накануне того вечера, когда тебе приснился кошмар. Давай еще раз пройдемся по порядку.
– Как я уже говорил, был обычный день в банке, а ночью ужасный кошмар, который я забыл… поездка в “Скорую помощь”…
– Нет‑нет‑нет, это мы уже обсудили. Давай попробуем иначе. Достань свой ежедневник. Давай посмотрим, – Эрнст взглянул на свой календарь. – Наша первая встреча была 9 мая. Посмотри, что ты делал предыдущим днем, 8 мая. Начни с утра.
Халстон достал свой еженедельник и нашел 8 мая.
– Милл Вэли, – сказал он, – что я делал в Милл Вэли? Ах да – моя сестра. Теперь я помню. Я не был в банке в то утро. Я наводил справки о Милл Вэли.
– Что значит “наводил справки”?
– Моя сестра живет в Майами, и ее фирма посылает ее в район залива. Ей нужен дом в Милл Вэли, и я предложил ей разведать, что там и как – ну вы понимаете утренние пробки, парковки, магазины, лучшие дома.
– Хорошо. Прекрасное начало. Теперь пойдем дальше.
– Все в странном тумане – даже жутко. Я не могу вспомнить больше ничего.
– Ты живешь в Сан‑Франциско – ты помнишь, как ехал к Милл Вэли через мост Золотые Ворота? В какое время?
– Думаю, рано. До пробок. Может быть, в семь.
– Что потом? Ты завтракал дома? Или в Милл Вэли? Постарайся описать это. Позволь своей памяти свободно перенестись в тот день. Закрой глаза, это помогает.
Халстон закрыл глаза. Через три или четыре минуты молчания Эрнст заинтересовался, не уснул ли он, и тихим голосом спросил:
– Халстон? Халстон? Не двигайся, оставайся там, где ты есть, но попробуй думать вслух. Что ты видишь?
– Доктор, – Халстон медленно открыл глаза, – я когда‑нибудь говорил вам об Артемиде?
– Артемиде? Греческой богине? Ни слова.
– Доктор, – сказал Халстон, моргая глазами и кивая головой, как будто хотел прогнать видение. – Я несколько потрясен. Только что я пережил удивительные ощущения. Как будто трещина образовалась у меня в памяти, позволив всплыть всем странным событиям того дня. Мне не хотелось бы, чтобы вы думали, что я преднамеренно скрывал их от вас.
– Продолжай, Халстон. Ты начал говорить об Артемиде.
– Лучше я начну с утра того проклятого дня – дня, после которого я проснулся в “Скорой помощи”…
Эрнст любил слушать истории и устроился поудобнее, весь в ожидании. У него было четкое ощущение, что этот мужчина, с которым он провел три странных часа, сейчас собирался достать ключ к тайне.
– Итак, доктор, вы знаете, что я был одинок в течение почти трех лет и всегда был немного осторожным – даже больше чем немного – по отношению к… э… связям. Я рассказал вам, что был сильно оскорблен моей бывшей женой, эмоционально и финансово?
Эрнст кивнул. Взгляд на часы. Черт, осталось только пятнадцать минут. Ему нужно было поторопить Халстона, если он хотел услышать всю историю.
– А Артемида?
– Ах да, спасибо. Забавно, что именно ваш вопрос о завтраке в то утро зацепил что‑то. Сейчас становится ясно – остановка на завтрак в кафе в центре Милл Вэли, сидение за огромным пустым столом на четверых. Затем кафе стало наполняться людьми, и одна женщина спросила, можно ли ей сесть рядом. Я посмотрел на нее, и, клянусь, мне понравилось то, что я увидел.
– В каком смысле?
– Женщина выглядела потрясающе. Красивая. Правильные черты, очаровательная улыбка. Думаю, моего возраста, лет сорока, но с гибким, как у подростка, телом.
Эрнст пристально посмотрел на Халстона, на другого Халстона, оживленного, и почувствовал, что в нем пробуждается интерес к этому человеку.
– Рассказывай.
– Похожа на Бо Дерек. Узкая талия и впечатляющая грудь. Многие из моих британских друзей предпочитают андрогинных [19] женщин, но я признаюсь, что большая грудь – мой фетиш, – и, нет, доктор, я не собираюсь отказываться от этого.
Эрнст успокоительно улыбнулся. Этого не было в повестке дня.
– И?
– Я заговорил с ней. У нее было странное имя – Артемида, и она выглядела… как бы сказать? Ну… не так, как современные женщины. Она не походила на посетителя моего банка. Представьте, она взяла багет, положила на него кусочки авокадо, затем достала из сумочки пакетики с приправами и посыпала бутерброд морской солью и тыквенными семечками… У нее был странный костюм – цветная крестьянская рубашка, длинная, яркая фиолетовая юбка, шнурок на поясе, множество золотых цепочек и бусинок. Она казалась человеком из поколения детей цветов, только выросшим.
Но, – продолжал он, и его история продолжала набирать обороты, – в действительности она оказалась вполне земной, хорошо образованной и понятной. Мы стали друзьями с первого мгновения и разговаривали несколько часов, пока официантка не пришла накрывать на стол к обеду. Я был очарован своей собеседницей и пригласил ее на обед. И это несмотря на то, что у меня была запланирована деловая встреча. И не надо мне говорить, доктор, что на меня это совсем не похоже. По сути, многое из того было на меня не похоже. Ужас.
– То есть, Халстон?
– Мне странно говорить такое, потому что этот офис кажется мне крепостью рациональности, но было что‑то необычное в Артемиде – чужеземка, это слишком мягко сказано – было ощущение, что я нахожусь под действием чар. Позвольте я продолжу. Когда она сообщила мне, что не сможет пообедать со мною, так как у нее уже была назначена встреча, я предложил поужинать вместе, опять даже не сверившись со своими планами. Она согласилась и пригласила на ужин к себе домой. Она сказала, что живет одна и собирается приготовить рагу из лисичек, которые собрала накануне в лесу горы Тамал‑пайс.
– И ты пришел?
– Пришел ли я? Безусловно, я пришел. И это был один из лучших вечеров в моей жизни – по крайней мере, до одного момента. – Он остановился, покачал головой так, будто хотел встряхнуть свою память, а затем продолжал: – С ней было замечательно. Все шло своим чередом. Прекрасный ужин – оказалось, она замечательно готовит! Я принес первоклассное калифорнийское вино, каберне “Стаг Лип”. После десерта, великолепных бисквитов со сливками, первый раз я попробовал их в этой стране, она принесла немного марихуаны. Я колебался, но решил, что если уж живу в Калифорнии, то должен вести себя как местный, и я впервые в своей жизни затянулся. Халстон замолчал.
– И? – подтолкнул Эрнст.
– После того как мы вымыли тарелки, я начал ощущать тепло, приятный жар.
Еще раз пауза, еще один кивок головой.
–И?
– Тогда случилось самое удивительное – она спросила меня, не хотел бы я лечь с ней в постель. Просто так, открыто. Она была такой естественной, такой изящной, такой… такой… я не знаю, зрелой.
“Господи! – думал Эрнст. – Какая женщина, какой вечер! Счастливец!” Затем, снова посмотрев на часы, он поторопил Халстона.
– Ты сказал, что это был один из прекраснейших вечеров в твоей жизни – но до определенного момента?
– Да, секс был явным экстазом. Необычным. Не похожим ни на что, испытываемое мною ранее.
– Что значит необычным?
– Это все еще остается черным пятном, но я помню, она облизывала меня как котенка, каждый квадратный сантиметр, от кончиков пальцев до головы, до тех пор пока все мое тело не открылось, его начало покалывать, это было таким наслаждением, я отвечал на ее прикосновения, ее язык, ее тепло и аромат… – Он остановился. – Я чувствую некоторое смущение, доктор, рассказывая вам это.
– Халстон, ты делаешь именно то, что и должен делать здесь. Попробуй продолжить.
– Хорошо. Удовольствие начинало набирать обороты. Это было что‑то неземное. Головка моего… моего… как вы говорите?… органа… налилась, стала горячей, затем у меня произошел искрящийся оргазм. Думаю, потом я отключился.
Эрнст был удивлен. Неужели это был тот же самый скучный, зажатый человек, с которым он провел эти утомительные часы?
– Что произошло потом, Халстон?
– Это и был поворотный момент; все вдруг изменилось. Следующее, что я помню, я оказался где‑то еще. Теперь я понимаю, что это, должно быть, был сон, но в то время он был настолько реален, что я мог дотрагиваться до вещей, ощущать их запах. Все исчезло, но я могу припомнить, как меня преследовал через лес угрожающе огромный кот – домашний кот размером с рысь, но весь черный, с белой маской вокруг красных, сверкающтих глаз. Толстый, сильный хвост, огромные клыки и когти, острые как бритвы. Меня преследовал кровавый дьявол! Далеко впереди я увидел озеро и обнаженную женщину в воде. Она была похожа на Артемиду, я прыгнул в воду и стал пробираться к ней за помощью. Подплыв ближе, я увидел, что это вовсе не Артемида, а робот с огромным количеством грудей, из которых льется молоко. Затем, подплыв еще ближе, я увидел, что это было вовсе не молоко, а какая‑то сверкающая жидкость. А потом я с ужасом понял, что стою в едком составе, который начал разъедать мои ступни. Я отчаянно начал грести к земле, но там, все еще шипя, ожидал меня этот чертов кот, но он стал еще больше – как лев. Вот тогда я и вскочил с кровати и побежал. Я одевался, сбегая вниз по лестнице, и без ботинок сел в машину. Я не мог дышать и позвонил своему врачу по телефону из машины. Он посоветовал мне поехать в “Скорую помощь” – вот тогда мы и встретились.
– А Артемида?
– Артемида? Хватит. Я с ней больше даже рядом не встану. Она ядовитая. Даже сейчас, когда я просто рассказываю о ней, возвращается этот панический страх. Я думаю, поэтому я и похоронил все это глубоко в памяти. – Халстон быстро проверил пульс. – Смотрите, я бегу сейчас – двадцать восемь за пятнадцать секунд – приблизительно сто двенадцать.
– А как она переживала твое внезапное исчезновение?
– Я не знаю. И мне не интересно. Она все проспала.
– Значит, она легла спать после тебя и проснулась, когда ты уже ушел, и не знала почему.
– Это будет продолжаться и дальше? Я же говорю вам, доктор, этот сон был из другого мира, другой реальности – из ада.
– Халстон, нам надо остановиться. Уже поздно, но мне ясно, что нам есть с чем поработать. Например твои чувства к противоположному полу – ты влюбляешься в женщину, затем появляется этот кот, символизирующий опасность и наказание, а затем ты оставляешь женщину без всякого объяснения. И эта грудь, которая обещает пищу, но вместо этого источает яд. Скажи мне, когда ты прекращаешь терапию?
– Теперь мне ясно, доктор, что нам есть над чем поработать. В это же время на следующей неделе?
– Да. И – мы хорошо поработали сегодня. Я доволен, Халстон, горд, что ты поверил мне настолько, чтобы вспомнить и рассказать этот значительный и страшный случай.
Двумя часами позднее, по дороге в “Жасмин”, китайский ресторан на улице Клемент, где он обычно обедал, Эрнст размышлял о встрече с Халстоном. В целом он был доволен тем, как обращался со склонностью Халстона забывать, что с ним происходило. Даже сейчас, когда его день был перегружен, он бы не позволил себе просто отпустить пациента. Халстон боролся за то, чтобы прорваться к чему‑то важному, а Эрнст был уверен, что его заинтересованные, методичные, но не чрезмерно агрессивные тактики спасли день.
Было замечательно, думал Эрнст, что все меньше и меньше пациентов преждевременно завершают терапию. Как он боялся преждевременного завершения, будучи молодым терапевтом, принимая все слишком близко к сердцу, а пациента, не завершившего терапию, считал личной ошибкой, знаком неэффективности, публичного позора. Он был благодарен Маршалу, своему бывшему супервизору, за то, что тот объяснил ему, что подобные реакции и порождают неэффективность. Всякий раз, когда эго терапевта зависит от решения пациента, и всякий раз, когда ему необходимо, чтобы пациент остался, терапия теряет свою эффективность: он начинает подлизываться, обхаживать пациента и давать ему что он пожелает – все, только чтобы он вернулся на следующей неделе.
Эрнст также был рад, что поддержал и поощрил Халстона, вместо того чтобы выразить сомнения по поводу драматических событий того вечера с Артемидой. Эрнст не знал, как оценивать только что услышанное. Конечно, он знал о внезапном возвращении вытесненных воспоминаний, но у него был недостаточный опыт работы с подобным феноменом в клинической практике.
Но это самолюбование Эрнста быстро прошло, так же как и доброжелательные мысли о Халстоне. Что действительно привлекало его внимание, так это Артемида. Чем больше он думал о происшедшем, тем более ужасающим казалось ему поведение Халстона по отношению к ней. Какое чудовище могло сначала так влюбиться в женщину, а затем оставить ее без объяснений, без записки, без телефонного звонка? Это было выше его понимания.
Душою Эрнст был с Артемидой. Он точно знал, как она, должно быть, чувствовала себя. Однажды, пятнадцать лет назад, он назначил Мирне, своей давней подружке, свидание в одном из отелей Нью‑Йорка. Они провели прекрасную ночь вместе, или так по крайней мере показалось Эрнсту. Утром он ушел на короткую встречу и вскоре вернулся с огромным букетом цветов. Но Мирна исчезла. Без следа. Собрала свои вещи и скрылась – ни записки, ни ответов на его звонки и письма. Никакого объяснения, никогда. Он был опустошен. Психотерапия полностью так и не смогла стереть ту боль, и даже сейчас, столько лет спустя, воспоминания продолжали жалить. Больше всего Эрнст ненавидел незнание. Бедная Артемида: она столько дала Халстону такое наслаждение, и в конце концов с ней так гнусно обошлись.
В течение нескольких последующих дней Эрнст от случая к случаю вспоминал о Халстоне, но жил с мыслью об Артемиде. В его фантазиях она стала богиней – прекрасной, дающей, лелеящей, но глубоко раненной. Артемида была женщиной, которую надо было уважать, ценить, гордиться ею: идея унизить такую женщину казалась ему бесчеловечной. Как ее, наверное, мучило непонимание того, что произошло! Сколько раз, должно быть, она пережила ту ночь, пытаясь понять, что она сказала, что она сделала такого, что могло оттолкнуть Халстона. Эрнст знал, что он был в состоянии помочь ей. Кроме Халстона, думал он, я единственный, кто знает правду о той ночи.
Эрнста всегда переполняли великие мысли о спасении страдающих девиц. Он замечал это за собой. И как было не заметить? Снова и снова его психоаналитик Олив Смит и его супервизор Маршал Страйдер ставили эго перед этим фактом. Фантазии спасения проявлялись как в его личных взаимоотношениях, где он часто игнорировал предупредительные сигналы очевидной несовместимости характеров, так и в психотерапии, в процессе которой его контрперенос иногда выходил из‑под контроля и он становился излишне заинтересованным в излечении своих пациентов женского пола, которых окружал чрезмерной заботой.
Вообще, когда Эрнст обдумывал варианты спасения Артемиды, на ум пришли возражения его аналитика и супервизора. Эрнст выслушал и принял их критику – но только до определенного момента. Глубоко внутри он верил, что его чрезмерная забота делала его отличным терапевтом, отличным человеком. Безусловно, женщины нуждаются в спасении. Это была сложившаяся веками истина, стратегия сохранения вида, заложенная в генах. В каком ужасе он был, когда, занимаясь на курсе сравнительной анатомии, обнаружил, что кошка, которую он препарировал, была беременна и носила пятерых малюсеньких зародышей в своем чреве. Точно так же он ненавидел икру, которую получали, убивая и потроша беременных особей осетровых рыб. Но наиболее ужасающим фактом была нацистская политика истребления женщин, носящих “семя Сарры”.
В результате Эрнст не оставлял попыток убедить Халстона исправить ошибку.
– Представь, что она могла чувствовать, – повторял он своему пациенту на последующих встречах. На что Халстон неизменно отвечал:
– Доктор, я ваш пациент, а не она.
Любые доводы, какими бы убедительными они ни были, не могли сдвинуть Халстона, который, казалось, чуть что, сразу уходил в себя и черствел. Однажды он даже упрекнул Эрнста за его мягкотелость.
– Зачем вы так романтизируете эту ночь? Это ее стиль жизни. Я не первый мужчина, к которому она обратилась, и скорее всего не последний. Я вас уверяю, Доктор, эта леди может о себе позаботиться.
Эрнста интересовало, заметил ли Халстон в его поведении недоброжелательность. Или скорее всего он почувствовал сильную увлеченность своего терапевта Артемидой и в ответ отказывался машинально от всех советов Эрнста. Так или иначе, Эрнст понял, что Халстон никогда не изменит своего отношения к Артемиде и что ему, Эрнсту, придется принять это. Странно, несмотря на свое перегруженное расписание, он не собирался оставлять этот случай. Это было похоже на моральное обязательство, и он начал думать об этом не как о бремени а как о своем предназначении. Странно также, что Эрнст, склонный к самоанализу, подвергающий любую свою прихоть, любое решение утомительному исследованию, никогда не задавался вопросом о своих мотивах Он осознавал тем не менее, что избранная им миссия не является ни общепринятой, ни этически правомерной, – какой бы другой терапевт взял на себя обязательство лично исправить ошибки своего пациента?
Несмотря на то что Эрнст осознавал необходимость быть деликатным и сохранять конфиденциальность, первые его вопросы были довольно неуклюжими:
– Халстон, давай в последний раз обсудим твою встречу с Артемидой и тип отношений, возникших между вами.
– Еще раз? Как я уже сказал, я сидел в кафе…
– Нет, постарайся рассказать эту сцену ярко и точно. Опиши кафе. Который был час? Где это кафе находится?
– Это было в Милл Вэли, около восьми утра, в одном из этих калифорнийских новшеств – сочетание книжного магазина и кафе.
– Название? – настаивал Эрнст, когда Халстон замолчал. – Опиши все, что касается вашей встречи.
– Доктор, я не понимаю. К чему эти вопросы?
– Ты удивляешь меня, Халстон. Точное воспоминание поможет тебе вспомнить все пережитые тобой чувства.
В ответ на протест Халстона вспоминать все пережитое им, Эрнст напомнил ему, что развитие симпатии было первым шагом в улучшении взаимоотношений с женщинами. Таким образом, воспоминание о своем опыте и о том, что могла переживать Артемида, стало бы ценным упражнением. “Неуклюжее объяснение, – думал Эрнст, – но зато вполне благовидное”.
Пока Халстон покорно вспоминал все детали того знаменательного дня, Эрнст очень внимательно слушал, но смог выяснить лишь несколько новых подробностей. Кафе называлось “Книжный склад”, а Артемида была большой любительницей литературы, что, по мнению Эрнста, могло быть полезным. Она сказала Халстону, что перечитывает великих немецких новеллистов – Мана, Клейста, Бёлля – и что в тот самый день купила экземпляр нового перевода книги Мусиля “Человек без свойств”.
Подозрения Халстона росли, и Эрнст решил ослабить напор – иначе его пациент мог в любую минуту сказать: “Послушай, тебе нужен ее адрес и телефон?”
Безусловно, Эрнст хотел бы иметь и то и другое. Это сэкономило бы массу времени. Но и сейчас у него было достаточно информации, чтобы начать.
Ярким и ранним утром, несколько дней спустя, Эрнст приехал на машине в Милл Вэли и вошел в “Книжный склад”. Он осмотрелся в длинном, узком книжном магазине, который когда‑то был вагоном поезда, и заметил привлекательное кафе и несколько столиков на улице, освещенных утренним солнцем. Не найдя ни одной женщины, похожей на Артемиду, исходя из описания Халстона, он подошел к стойке и заказал у официантки с толстым слоем косметики на лице багет из белого хлеба.
– Багет с чем? – спросила она.
Эрнст просмотрел меню. Авокадо не было. Неужели Халстон все выдумал? В конце концов он решил заказать двойную порцию огурцов и брюссельской капусты с пряным чесночным соусом.
Как только он сел за столик, он увидел ее, входящую в кафе. Покрытая цветами блуза навыпуск, длинная, цвета зрелой сливы, юбка – его любимый оттенок – бусы, цепочки, все, как говорил Халстон: это должна была быть Артемида. Она была еще прекраснее, чем он представлял себе. Халстон не упоминал, возможно, он просто не заметил ее сверкающие золотистые волосы собранные в пучок и сколотые на затылке черепаховой заколкой. Эрнст таял: все его очаровательные венские тетушки, первые объекты его юношеских эротических фантазий, именно так носили волосы. Он смотрел на нее, пока она расплачивалась. Какая женщина! Прекрасная во всех отношениях: проникновенные бирюзово‑синие глаза, чувственные губы, с ямочкой подбородок; рост примерно метр восемьдесят, в домашних сандалиях, подвижное, колеблющееся, пропорциональное тело.
Теперь наступила часть, которая всегда сбивала Эрнста с толку: как начать разговор с женщиной? Он достал книгу “Святой грешник” Манна, которую он купил перед поездкой, и положил открытой на столе, чтобы можно было легко прочесть ее название. Возможно, это стало бы первым шагом к беседе, если, конечно, она заказала бы столик по соседству. Эрнст нервно осмотрел полупустое кафе. Полно свободных столиков. Он кивнул, когда Артемида проходила мимо, и Артемида кивнула в ответ, проходя к свободному столику. Но затем, через несколько секунд, она обернулась.
– О, “Святой грешник”, – невероятно, но она заметила. – Какой сюрприз!
Клюнула! Клюнула! Но, застигнутый врасплох, Эрнст не знал, что делать.
– Прошу прощения? – Эрнст запнулся. Он был в шоке – шок неудачливого рыбака, изумленного внезапным рывком. Он не раз использовал книги как приманки, и не раз у него был хороший клев.
– Эта книга, – пояснила она, – я читала “Святого грешника” несколько лет назад, но никогда не видела, чтобы кто‑то другой читал эту книгу.
– Ну, мне она нравится, и я возвращаюсь к ней каждые несколько лет. Мне также нравятся некоторые из рассказов Манна, и сейчас я как раз начал перечитывать некоторые из его работ. Это одна из первых.
– Я недавно перечитывала “Смерть в Венеции”, – сказала Артемида. – Какая книга следующая в твоем списке?
– Порядок их чтения зависит от того, как я их оцениваю. Следующей будет трилогия “Иосиф и его братья”. Потом, я думаю, “Феликс Круль”. Но, – он привстал, – может быть, вы присядете?
– А последняя? – спросила Артемида, ставя свой коктейль и кофе на стол и присаживаясь напротив.
– “Волшебная гора”, – ответил, не теряясь, Эрнст, не показав ни своего искреннего удивления тем, что зацепил такую добычу, ни своей неуверенности в своих дальнейших шагах. – Мне не очень нравится этот роман – бесконечные размышления Сеттембрини утомили меня больше всего. Также в конце списка “Доктор Фаустус”. Но боюсь, что эта вещь очень скучна.
– Я полностью с вами согласна, – сказала Артемида, доставая из своей сумки авокадо и несколько пакетиков семян, – хотя я никогда не прекращала очаровываться параллелью Ницше – Леверкюн.
– О, извините, я не представился – увлекла беседа. Эрнст Лэш.
– Я Артемида, – сказала она, разрезая авокадо, укладывая половину на багет и посыпая сверху различными семенами
– Артемида – приятное имя. Знаешь, оно согревает. Как совет того, чтобы оставить этот стол и присоедиться к твоему близнецу? – Эрнст старательно делал свою домашнюю работу.
– Моему близнецу? – удивленно спросила Артемида, пока они шли к столику на улице, залитому солнцем. – Мой близнец? Ах, Аполлон! Солнечный свет моего брата Аполлона! Вы необыкновенный мужчина – всю жизнь я жила со своим именем, и вы первый, кто вспомнил, откуда оно произошло.
– Но знаешь, – продолжал Эрнст, – должен признаться, что хочу на время оставить Манна, чтобы перейти к новому переводу книги Мусиля “Человек без свойства”.
– Какое совпадение. – Глаза Артемиды широко открылись. – Я как раз сейчас читаю эту книгу. Она полезла в свою сумку и достала оттуда книгу. – Это восхитительно!
С этого момента глаза Артемиды не отрывались от Эрнста. На самом деле ее взгляд был настолько прикован к его губам, что через каждые несколько минут Эрнст застенчиво утирал усы, чтобы убрать все попавшие на них крошки.
– Мне нравится жить в Марин, но порой здесь так сложно найти кого‑то, с кем можно поговорить серьезно, – сказала она, предлагая ему кусочек авокадо. – Последний раз, когда я говорила об этой книге, рядом со мной был человек, никогда не слышавший о Мусиле.
– Ну, Мусиль не так широко известен. – Какая жалость, думал Эрнст, что такая душа, как Артемида, проводила свое время в компании затянутого в галстук Халстона.
В течение последующих трех часов они счастливо блуждали по произведениям Генриха Бёлля, Гюнтера Грасса и Генриха фон Кляйста. Эрнст посмотрел на часы. Почти полдень! “Какая замечательная женщина”, – думал он. Хотя он освободил утро, с часа дня у него были назначены пять встреч, одна за другой. Время шло, и он должен был возвращаться к делам.
– Скоро мне нужно будет уехать, – сказал он, – мне очень не хочется, но пациенты ждут. Не могу выразить, как мне понравился наш разговор. Я излил душу. Мне этого так не хватало в моей ситуации.
– Что у тебя произошло?
– Просто небольшие проблемы, – проговорил Эрнст, надеясь, что его слова, которые он репетировал несколько ночей подряд перед этой встречей, выглядели спонтанными. – Около двух недель назад я встретился со своей давней подружкой. Я не видел ее несколько лет, и мы провели вместе целый день. Утром, когда я проснулся, она уже ушла. Исчезла. Ни следа. С тех пор я в плохом состоянии. В очень плохом!
– Как ужасно! – Артемида была гораздо более заинтересована, чем он мог предполагать. – Она для тебя много значила? Ты надеялся встретиться с ней снова?
– Да нет. – Эрнст подумал о Халстоне и о том, как она должна была чувствовала себя. – Это не совсем так. Она была – как бы это сказать? – больше приятельница, сексуальный партнер. Поэтому я не очень переживаю из‑за нашей разлуки. Меня мучает неведение: может быть, я сделал что‑то не так? Может быть, обидел ее чем‑то? Что‑то сказал? Был невнимательным любовником? Может, я не подходил ей? Ну ты понимаешь. Вызывает много неприятных мыслей.
– Я тебя понимаю, – сказала она, сочувственно покачивая головой. – Со мной произошло нечто подобное – и не так давно.
– Правда? Удивительно, как у нас много общего. Может быть, нам следовало бы вылечить друг друга? Продолжим этот разговор в другой раз – может, поужинаем вместе?
– Да, но не в ресторане. Сегодня мне хочется самой что‑нибудь приготовить. Вчера я собрала несколько прекрасных лисичек, из которых собираюсь сделать венгерское рагу. Придешь?
Никогда еще терапевтические часы не ползли так медленно. Эрнст не мог думать ни о чем, кроме Артемиды. Он был очарован ею. Снова и снова он подталкивал себя: “Сосредоточься! Отрабатывай свои деньги! Забудь об этой женщине!” Но Артемида отказывалась уходить. Она прочно обосновалась в передней зоне коры его головного мозга и оставалась там. В ней было что‑то жуткое и очаровывающее, что заставило его вспомнить бессмертную, африканскую королеву из книги Райдера Хаггарда “Она”.
Эрнст понимал, что он в основном думал о чарах Артемиды, а не об облегчении ее страдания. “Эрнст, думай о приоритетах, – бубнил он себе. – Что же ты делаешь? Весь этот план жутко подозрителен, даже без сексуального приключения. Ты ходишь по тонкому льду, выуживая из Халстона информацию, как найти Артемиду, строя из себя странствующего терапевта, навещающего прекрасную незнакомку у нее дома. Грандиозно, какая неэтичность, какой непрофессионализм! Внимательнее, внимательнее!”
– Ваша честь, – представил он голос своего супервизора, говорящего с места свидетеля, – доктор Лэш прекрасный и высоконравственный клиницист, за исключением тех моментов, когда он перестает дружить со своей маленькой головой.
“Нет, нет, нет! – возражал Эрнст. – Я не делаю ничего аморального. Это акт благотворительности. Халстон, мой пациент, беспардонно нанес глубокую душевную рану другому человеку, и невозможно представить, чтобы он смог компенсировать это. Я, и только я, смогу восстановить ущерб и сделать это быстро и эффективно”.
Пряничный домик Артемиды – маленький, с остроконечной крышей, украшенный резьбой тонкой работы и окруженный плотным рядом можжевельника – больше подошел бы для черного немецкого леса, чем для пригорода Марина. Встретив его в дверях со стаканом свежего гранатового сока в руках, Артемида извинилась за то, что в доме не было алкоголя.
– Зона, свободная от наркотиков, – сказала она, а затем добавила: – Кроме марихуаны, святой травки.
Как только она села на диван времен Людовика XVI с белыми ножками, Эрнст снова начал разговор о переживаниях, связанных с разлукой, который они не закончили в кафе. И хотя он использовал все свои практические умения, чтобы вытянуть из нее хоть что‑то, скоро он понял, что преувеличил страдания Артемиды.
Да, она все осознавала, она думала так же, как и Эрнст, но это было для нее не так болезненно, как он предполагал: она была, призналась Артемида, просто вежливой. Ей просто хотелось помочь Эрнсту и поговорить обо всех его трудностях, которые, как она сказала, ее тоже недавно заставил пережить мужчина. Хотя их отношения не были для нее столь значимыми, и она была уверена, что в основном это была его проблема, а не ее.
Эрнст смотрел на нее в изумлении: эта женщина была намного более эгоцентрична, чем он думал. Расслабившись, он официально вышел из роли психотерапевта и наслаждался остатком вечера.
Живой рассказ Халстона подготовил Эрнста к будущим событиям. Но скоро стало ясно, что Халстон недооценил все произошедшее. Беседа с Артемидой была восхитительной, рагу из лисичек – маленьким чудом, а остаток вечера – намного большим чудом.
Подозревая, что опыт Халстона был результатом наркотического опьянения, Эрнст отказался от марихуаны которую предложила Артемида. Но даже без нее, казалось, происходило что‑то необычное, почти нереальное. Приятные чувства из прошлого заполнили его сознание. Запах готовящегося воскресным утром кихалаха; тепло в первые несколько секунд после того, как намочил постель; первый поцелуй; его первый – как пистолетный выстрел – оргазм, когда он мастурбировал в ванной, представляя обнаженную тетю Харриет; вкус пирожных, которые он ел на Джорджия‑авеню; невесомость во время катания на роликах в Глен Эхо Парке; ход королевой, защищенной хитрым слоном, и фраза “шах и мат”, сказанная отцу. Его чувство heimlichkeit [20] – теплого и опьяняющего приема – было настолько сильным, таким окутывающим, что он мгновенно потерял чувство реальности.
– Ты хочешь пойти наверх в спальню? – Нежный голос Артемиды выхватил его из воспоминаний. Где он был? Может быть, что‑то было в грибах, удивлялся он. Хочется ли мне идти в спальню? Я бы пошел за этой женщиной куда угодно. Я желаю ее, как никогда не желал ни одну другую женщину. Может быть, это и не трава, и не грибы, а какой‑то необычный феромон [21]. Может быть, мой обонятельный центр гармонировал с ее мускусным ароматом?
В постели Артемида начала облизывать его. Каждый дюйм тела покалывал, пылал, пока наконец все тело не стало казаться огненно‑красным. Каждое прикосновение ее языка возносило его все выше и выше, пока он не взорвался – но не по‑юношески остро, а с ревом настоящей гаубицы. В краткий момент ясности он вдруг заметил, что Артемида дремала. Он был настолько поглощен своим удовольствием, что совсем забыл о ней, не думал о том, чтобы доставить ей удовольствие. Он повернулся, чтобы дотронуться до ее лица, и ощутил, что ее щеки были мокрыми от слез. Затем он уснул самым глубоким в своей жизни сном.
Через некоторое время его разбудил царапающий звук. Сперва он не мог ничего увидеть в кромешной тьме. Но он знал, что что‑то было не так, совсем не так, ужасно неправильно. Наконец, когда тьма начала рассеиваться, комнату заполнил призрачно серый свет. Его сердце бешено заколотилось, он соскользнул с постели, натянул брюки и бросился к окну, чтобы посмотреть, что там царапалось. Но он смог разглядеть только отражение своего лица в оконном стекле. Он повернулся, чтобы разбудить Артемиду, но она исчезла. Царапанье и скрежет становились сильнее. Затем раздалось неземное ууууооооооооууууууу, похожее на вопль тысячи котов. Комната начала вибрировать, сперва слегка, а затем все сильнее. Скрежет становился громче и грубее. Он слышал постукивание гальки по земле, затем полетели камни побольше, а затем накатила лавина. Казалось, гул шел из‑за стен спальни. Осторожно подойдя к стене, Эрнст увидел трещины, появляющиеся то тут, то там; обои отрывались и падали на ковер. Скоро он уже мог видеть кладку, под которой мгновение спустя остались лишь деревянные перекрытия дома. Удар! Гигантская лапа с вытянутыми когтями ввалилась в дом.
Увиденного оказалось достаточно. Это было слишком! Схватив рубашку, он побежал к лестнице. Но уже не было ни лестницы, ни стен, ни самого дома. Позади него лежало черное звездное пространство. Он побежал не зная куда, и очень скоро обнаружил вокруг себя высокие ели темного леса. Услышав громкий рев, он обернулся назад и увидел чудовищного кота с огненно‑красными глазами – похожего на льва, только черно‑белого и намного больше. Размером с медведя. Размером с саблезубого тигра! Он бежал очень быстро, он почти летел, и все громче становился рев, и все ближе были лапы чудовища. Увидев озеро, Эрнст поспешил к нему. “Коты ненавидят воду”, подумал он и поплыл. Он слышал с середины озера, скрытой туманом, звук струящейся воды. Потом он увидел ее – Артемиду, спокойно стоящую посреди озера. Одна рука ее была высоко поднята, как у статуи Свободы, в то время как другая, словно чашку, поддерживала одну из ее многочисленных грудей, из которых лилось то ли молоко, то ли вода. Нет, увидел он, подходя ближе, это было не молоко, а какая‑то светящаяся зеленая жидкость. И это была не Артемида – это был металлический робот. И в озере была не вода, а ядовитое вещество, разъедающее его ступни и голени. Он открыл рот и изо все сил попытался закричать: “Мамочка! Мамочка, помоги мне! Мамочка!” Но он не слышал собственного голоса.
Следующее, что мог вспомнить Эрнст, это как он ехал в своей машине, одетый лишь наполовину, усердно нажимая на газ и летя вниз по Марин‑драйв подальше от домика Артемиды, скрытого в черном лесу. Он пытался сосредоточиться на том, что произошло, но страх переполнял его. Как часто он проповедовал пациентам и студентам, что кризис несет не только опасность, но и новые возможности! Как часто он говорил, что тревога ведет к озарению и мудрости! Что все наши сны, а особенно кошмары, – поучительны. Добравшись до своей квартиры в Рашн Хил, Эрнст вломился в дверь и бросился не к диктофону записывать свой сон, а в свой медицинский кабинет, к двухмиллиграммовым таблеткам ативана, сильного антидепрессанта. Но в ту ночь наркотик не принес ни облегчения, ни сна. Утром он отменил все назначенные встречи и перенес особо настойчивых пациентов на вечер следующего дня.
Все утро он провел на телефоне, обсуждая свой случай со своими хорошими друзьями, и через двадцать четыре часа ужасная судорога, сдавленность в груди начали постепенно проходить. Разговор с друзьями, полное признание были полезны, хотя никто из них и не смог уловить, что же произошло. Даже Пол, его давний и близкий друг, который был его поверенным еще в годы учебы, был не исключением: он пытался убедить Эрнста, что его ночной кошмар был предупреждающей сказкой, призывающей Эрнста быть более внимательным по отношению к профессиональным границам.
Эрнст пылко защищал себя:
– Запомни, Пол, Артемида не подружка моего пациента. И я не использовал преднамеренно своего пациента, чтобы познакомиться с женщиной. И, кроме того, мои помыслы были высоко моральными. Мои поиски этой женщины были продиктованы не плотским желанием, а стремлением снизить тот вред, который ей нанес мой пациент. Я поехал к ней не за сексуальной разрядкой – просто это невозможно было остановить с самого начала.
– Прокурор будет смотреть на это иначе, Эрнст, – Мрачно заметил Пол. – Они из тебя отбивную сделают.
Бывший супервизор Эрнста, Маршал, предложил ему Фрагмент своей предостерегающей лекции, которую он, как заведено, произносил перед своей группой: “Даже если ты не делаешь ничего дурного, избегай любой ситуации, где даже одно твое движение, запечатленное на фото, содержало бы намек на нечто неэтичное”.
Эрнст пожалел, что позвонил Маршалу. Проповедь о намеке не сильно потрясла его; наоборот, ему казалось возмутительным советовать детям вести себя осмотрительно, дабы избежать искажения в средствах массовой информации.
В конце концов, Эрнст не придал значения советам своих друзей. Все они были малодушными, поглощенными мыслями о проблемах внешней стороны дела, вопросами приличия и возможным судебным разбирательством по поводу злоупотребления служебным положением. Раздумывая обо всем этом, Эрнст был уверен в одном: он поступил полностью честно.
После того как он полностью пришел в себя, Эрнст возобновил практику и. через четыре дня встретился с Халстоном, который заявил, что в конце концов все же решил прервать терапию. Эрнст знал, что он потерпел неудачу с Халстоном, который, несомненно, ощущал неодобрение терапевта. Чувство вины Эрнста по поводу провала терапии было недолгим, потому что после прощальных слов Халстону он сделал странное открытие: в последние семьдесят два часа с тех пор как он поговорил по телефону с Полом и Маршалом, он полностью забыл о существовании Артемиды! Тот завтрак с ней, все, что случилось потом! Ни разу он не подумал о ней! “Господи, – думал Эрнст, – я вел себя так же ужасно, как и Халстон, оставив ее без единого объяснения и не утруждаясь звонками и встречами”.
Весь остаток этого дня и весь следующий день Эрнст отмечал тот же самый странный феномен: сколько бы он ни пытался думать об Артемиде, он не мог сосредоточиться: его сознание начинало блуждать по несущественным темам. Поздно вечером он решил позвонить ей, это ему стоило больших усилий – Эрнст представил, будто крутит сорокакилограммовый диск – начать набирать ее номер.
– Эрнст! Это и правда ты?
– Конечно, я. Поздно. Но это я. – Эрнст замолчал. Он ожидал вспышки гнева и был ошарашен ее ласковым голосом. – Ты удивлена? – спросил он.
– Очень удивлена. Не думала, что еще когда‑нибудь услышу твой голос.
– Я должен увидеть тебя. Вещи кажутся нереальными, но звук твоего голоса пробуждает меня. Нам многое нужно сделать: мне за многое извиниться и многое объяснить, а тебе многое простить.
– Конечно, увидимся. Но при одном условии. Никаких объяснений или прощений – они не нужны.
– Поужинаем завтра? В восемь?
– Прекрасно, я приготовлю.
– Нет, – Эрнст вспомнил свои подозрения по поводу лисичек. – Моя очередь. Ужин за мной.
Он приехал в дом Артемиды, нагруженный едой, с удовольствием выложил всевозможные пакеты на стол, рассказывая Артемиде об их содержимом. Он был удручен, когда она сказала, что является вегетарианкой, и поэтому пропустит некоторые блюда, включая цыпленка, завернутого в салат, и мясо с грибами. Слава богу, тихо пропел Эрнст, что есть рис, проросшие зерна и вегетарианские клецки!
– Я хочу тебе кое‑что сказать, – произнес Эрнст, когда они сели за стол. – Все мои друзья говорят, что я Одержим разоблачением тайн, поэтому я хочу предупредить тебя…
– Помни о моих условиях. – Артемида закрыла рукой его рот. – Никаких извинений, никаких объяснений.
– Не уверен, что смогу выполнить эти условия, Артемида. Как я уже говорил тебе предыдущей ночью, я отношусь к своей работе целителя очень серьезно. Таков я, такова моя жизнь, и я не могу это включать или выключать по своему желанию. Я в ужасе оттого, что так поступил с тобой. Я вел себя не по‑человечески. Сначала мы занимаемся любовью и это настолько прекрасно, что я даже представить себе такого не мог, а потом я убегаю без слов, без объяснений – это непростительно! Я поступил бесчеловечно, иначе это назвать нельзя. Моя невнимательность, наверное, оскорбила тебя. Должно быть, ты снова и снова удивлялась тому, какой я страшный человек и как гнусно обошелся с тобой.
– Я уже говорила тебе, я не переживаю из‑за таких вещей. Естественно, я была разочарована, но полностью понимала тебя, Эрнст, – серьезно добавила она. – Я знаю, почему ты ушел в ту ночь.
– Ты и правда знаешь? – игриво сказал Эрнст, находя ее наивно прелестной. – Не верю, что ты знаешь так много о той ночи, как думаешь.
– Я уверена, – настойчиво сказала она. – Я знаю намного больше, чем ты можешь себе представить.
– Артемида, ты даже вообразить не можешь, что произошло той ночью. Как ты можешь это знать? Я убежал из‑за сна – ужасного и глубоко личного видения. Что ты можешь знать об этом?
– Я все это знаю, Эрнст. Я знаю и о коте, и об отравленной воде, и о статуе посреди озера.
– Ты заставляешь кровь стыть в жилах, Артемида! – воскликнул Эрнст. – Это мой сон. Сны – это частная собственность, частная и неприкосновенная для другого человека. Как ты узнала мой сон?
Артемида сидела молча, низко склонив голову.
– У меня так много вопросов, Артемида. Глубина моих чувств в тот вечер – волшебный жар, непреодолимое желание, невозможность убежать от тебя и твоих чар… Но желание было неестественным. Могло оно быть вызвано чем‑то, каким‑то веществом? Может быть, лисички?
Артемида еще ниже опустила голову.
– А потом, когда мы были в постели, я трогал твои щеки. Почему ты плакала? Я чувствовал себя прекрасно; и думал, что это было взаимно. Откуда же взялись эти слезы? Почему тебе было больно?
– Я плакала не по себе, Эрнст, а по тебе. И не из‑за того, что между нами произошло – для меня это тоже было прекрасно. Я плакала из‑за того, что должно было произойти с тобой.
– Должно произойти? Я что, схожу с ума? Скажи мне правду, Артемида!
– Я не уверена, что правда удовлетворит тебя, Эрнст.
– Попробуй. Доверься мне.
Артемида встала, быстро вышла из комнаты и вернулась с вельветовой папкой, из которой достала лист, желтый и старый.
– Правду? Правда здесь, – сказала она, положив лист на стол, – в этом письме, которое моя бабушка написала моей маме, Магде, 13 июня 1931 года. Прочесть его тебе?
Он кивнул. И в свете трех благоухающих свечей Эрнст слушал рассказ бабушки Артемиды, историю, объясняющую его сон.
“Магде, моей любимой дочери, на ее семнадцатый день рождения, в надежде, что это письмо пришло ни поздно ни рано.
Настало время для тебя узнать ответы на важные вопросы твоей жизни. Откуда мы пришли? Почему тебя так часто избегали? Кто и откуда твой отец? Почему я отправила тебя подальше от себя? Семейная история, которую я описала здесь, это то, что ты должна знать и передать своим дочерям.
Я росла в местечке Юпест, в нескольких милях от Будапешта. Мой отец, Януш, твой дед, работал машинистом на огромном заводе, производившем автобусы. Когда мне исполнилось семнадцать, я переехала в Будапешт. У меня было несколько причин для этого. В частности, в Будапеште молодой девушке можно было найти более интересную работу. Но основная причина была в том – мне стыдно признаться тебе в этом, – что мой отец был как дикое животное, охотящееся на собственного ребенка. Он несколько раз приставал ко мне, когда я была слишком маленькой, чтобы защитить себя, а когда мне было тринадцать, он изнасиловал меня. Моя мама все знала, но предпочитала не показывать виду и отказывалась защищать меня. Я поехала в Будапешт с моим дядей Ласло, братом отца, и тетей Юлькой, которая устроила меня работать в качестве ее помощницы в доме, где она сама работала кухаркой. Я училась готовить и печь, и через несколько лет заняла место тети Юльки, которая заболела туберкулезом. Когда через год тетя Юлька умерла, дядя Ласло повел себя так же, как мой отец, и потребовал, чтобы я заняла место тети Юльки в его постели. Я не могла вынести этого и уехала. Везде мужчины были похожи на хищников, на животных. Все – официанты, разносчики, мясники делали мне непристойные предложения, искоса смотрели и пытались дотронуться до меня, когда я проходила мимо. Даже хозяин пытался запустить руки мне под юбку.
Я переехала в центр Будапешта около Дуная и там в течение следующих десяти лет жила одна. Мужчины преследовали меня взглядами, куда бы я ни шла, и я защищала себя, предельно ограничив круг общения. Я не выходила замуж и жила вполне счастливой жизнью, общаясь лишь с кошкой Кикой. Однажды в квартиру этажом выше переехал чудовищный мистер Ковакс. Он привез своего кота, Мергеса. Мергес означает на венгерском “полный ярости” (Артемида произнесла его имя с венгерским акцентом), и это чудовище назвали так не зря. Это был порочный, огромный, черно‑белый кот, словно вышедший прямо из ада, и он нагонял страх на мою бедную Кику. Снова и снова Кика возвращалась домой вся в кровоточащих ранах. Она потеряла глаз из‑за инфекции, ее второй глаз почти не видел.
А Ковакс нагонял ужас на меня. Ночью я баррикадировала двери и закрывала ставни, потому что он блуждал вокруг дома, выискивая хоть маленькую щелку, чтобы войти. Каждый раз, когда мы встречались в коридоре, он пытался накинуться на меня, поэтому я всякий раз старалась убедиться, что наши дорожки не пересекутся. Но я была беспомощна; мне некому было пожаловаться – Ковакс был из полиции. Пошлый, жадный человек. Я расскажу, каким он был. Однажды, я, забыв о гордости, попросила его хоть на час забирать Мергеса домой, чтобы Кика могла спокойно погулять по улице. “С Мергесом все в порядке, – глумился он. – Мы с котом похожи, нам нужно одно и то же – сладенькие венгерские кошечки”. Да, он был согласен забирать Мергеса с улицы, но за вознаграждение. И этим вознаграждением была я!
Дела были плохи, но, когда у Кики начиналась течка, все становилось еще хуже. Не только Ковакс еженощно прогуливался под моими окнами и стучал в мою дверь, его кот тоже неистовствовал: всю ночь он визжал, мяукал, царапался в стену моей комнаты, кидался на окно.
Как будто в доказательство того, что Мергес и Ковакс были не самым страшным бедствием, Будапешт в то время наводнился огромными речными крысами, которые рылись в домах у моих соседей, пожирали картошку и морковь в подвалах, таскали цыплят с заднего двора. Однажды мой хозяин помог мне установить ловушку для крыс в подвале, и в ту же ночь я услышала ужасный визг. Спускаясь со свечой по лестнице, я тряслась от страха. Что я буду делать с крысой или крысами, которых поймаю? В мерцании свечи я увидела клетку и выглядывающую оттуда громадную, самую ужасную крысу, которую когда‑либо видела или могла себе представить. Я побежала вверх по лестнице и решила позже, когда проснется хозяин, позвать его на помощь. Но час спустя, когда начало светать, я решила спуститься вниз и взглянуть на крысу еще раз. Оказалось, это была не крыса. Это было нечто похуже – это был Мергес! Как только он увидел меня, он зашипел и попытался достать меня лапой через прутья клетки. Господи, что за чудовище! Я придумала, что сделать, и испытала большое удовольствие, вылив на него целый кувшин воды. Он продолжал шипеть, а я победно обошла вокруг клетки три раза.
Но что мне было делать с Мергесом, который орал не своим голосом? Ответ возник сам собой. Первый раз в жизни я могла постоять за себя! За себя! За всех женщин! Я могла дать отпор. Я накрыла клетку старым одеялом, взяла за ручку, вышла из дома – улицы все еще были пусты, ни души – и пришла на станцию. Я купила билет до Эштергом, где‑то в часе езды, но затем решив, что это недостаточно далеко, я поехала в Зигед, до которого от города было около двухсот километров. Я сошла с поезда и прошла несколько кварталов, остановилась, сняла покрывало с клетки и приготовилась выпустить Мергеса.
Но как только я взглянула на него, его взгляд хлестнул по мне – острый, как бритва, и я задрожала. Было что‑то такое в его диком ненавидящем взгляде, отчего я поняла с ужасной уверенностью, что мы, Кика и я, никогда не освободимся от него. Известно, что животные возвращаются домой даже с другого континента. Неважно, как далеко я увезу Мергеса, он все равно вернется домой. Он достанет нас даже с того света. Я снова подняла клетку и прошла несколько метров до Дуная. Я дошла до середины моста, подождала, пока никого поблизости не будет, и бросила клетку в воду. Сначала она плыла, потом начала тонуть. Пока она уходила под воду, Мергес продолжал смотреть на меня и шипеть. Наконец, река поглотила его. Я стояла, пока не перестали идти пузыри, пока он не достиг своей могилы на дне реки, пока я навсегда не освободилась от этого дьявольского кота. Потом я села на поезд и поехала домой.
По дороге домой я думала о Коваксе, о его возмездии, и пришла в ужас. Когда я вернулась, его окна были все еще закрыты. Он работал всю ночь, проспал исчезновение Мергеса и никогда, никогда не узнает о том, что это я совершила возмездие. Первый раз в своей жизни я чувствовала себя свободной.
Но ненадолго. В ту ночь через час или два, после того как уснула, я услышала завывания Мергеса снаружи. Конечно, это был сон, но такой ясный, что он был намного реальнее, чем моя жизнь. Я слышала, как Мергес пытается процарапать дырку в стене моей спальни. Уставившись на крошащуюся стену, я увидела его лапу, проникающую в комнату. Еще визг, грохот рухнувшей стены. Затем Мергес проник в комнату. Громадный кот! Он вырос в два, а то и в три раза. Насквозь мокрый, – грязная вода Дуная все еще стекала по его шерсти, – он заговорил со мной.
Слова чудовища отпечатались в моем сознании.
– Я уже стар, – прошипел он, – и я прожил восемь жизней. У меня осталась последняя жизнь, и я клянусь здесь и сейчас, что посвящу ее мести. Я буду жить в твоих снах, и буду преследовать тебя и твоих потомков – девочек – в их снах всегда. Ты разлучила нас с Кикой, обворожительной Кикой, самой большой страстью моей жизни, и теперь я буду стремиться разлучить тебя с любым мужчиной, который проявит к тебе интерес. Я буду навещать их, когда они будут с тобой! – Тут он угрожающе зашипел. – Я буду наводить на них такой ужас, что они никогда не вернутся к тебе, – они забудут о твоем существовании.
Сначала я ликовала: Глупый кот! Вообще‑то у котов примитивное мышление, у них мозг размером с булавку. Мергес не понимал меня. Великолепная месть – я не смогу два раза быть с одним и тем же мужчиной! Не месть, а благословение! Никогда больше не видеть мужчину снова и не дотрагиваться до него – вот это будет рай!
Но скоро я поняла, что Мергес мыслил не столь примитивно. Он мог читать мысли – я в этом уверена. Он сидел, поглаживая усы, долго глядя на меня своими огромными красными глазами. Затем он заговорил, в этот раз странным человеческим голосом судьи или проповедника:
– То, что ты чувствуешь к мужчинам, теперь навсегда изменится. Ты познаешь желание. Ты будешь как кошка, и твое желание будет непреодолимым. Но оно никогда не будет исполняться. Ты будешь удовлетворять мужчин, но они не смогут удовлетворить тебя, и любой мужчина, которому ты доставишь удовольствие, убежит от тебя и никогда не вернется. Даже не вспомнит о тебе. Ты родишь дочь, и она, и ее дочери, и дочери ее дочерей будут чувствовать то, что чувствовали мы с Коваксом. И будет это вечно!
– Вечно? – переспросила я. – Такой долгий срок?
– Вечно, – ответил он. – Какое большее наказание можно придумать за разлучение меня с любовью всей моей жизни?
Вдруг, все осознав, я стала волноваться и просить за тебя, мою еще не рожденную дочь.
– Пожалуйста, накажи меня, Мергес. Я отвечу за то, что сделала. Я проживу жизнь без любви. Но только не мои дети и дети моих детей, прошу тебя. – Я склонилась перед ним и коснулась лбом земли.
– Для твоих детей есть один выход, но не для тебя.
– Какой выход? – спросила я.
– Исправить зло, – сказал Мергес, облизывая языком, большим чем моя рука, свои огромные лапы и вычищая свою большую морду.
– Исправить зло? Как? Что они должны сделать? – Я пошла к нему, умоляя.
Но Мергес зашипел и взмахнул лапой с выпущенными когтями. Я отступила назад, и он исчез. Последнее, что я видела, были его ужасные когти.
Это, Магда, стало моим проклятием. Нашим проклятием. Оно разрушало меня. Я становилась дикой и бежала за мужчинами. Я потеряла свое положение. Никто не принимал меня на работу. Мой домовладелец выселил меня. Мне ничего не оставалось, и я стала торговать своим телом. И, спасибо Мергесу, никто ко мне не возвращался. Мужчины, которые хоть раз были со мной, не возвращались обратно; они помнили не меня, а только какой‑то ужас, связанный с нашей встречей. Спустя некоторое время все в Будапеште стали призирать меня. Ни один доктор не верил мне. И даже знаменитый психиатр Шандор Ференци не смог помочь. Он говорил о моем воспаленном воображении. Я клялась, что говорю правду. Он требовал доказательства, свидетелей, каких‑то знаков. Но как я могла доказать ему это? Ни один мужчина не мог вспомнить ни меня, ни сон. Я сказала, что единственный вариант доказать это – провести один вечер со мной, и тогда он увидит сам, но он не принял моего приглашения. В конце концов, отчаявшись, я перебралась в Нью‑Йорк, надеясь, что Мергес не сможет преодолеть воду.
Остальное ты знаешь. Через год я забеременела тобой. Я никогда не знала, кто был твой отец. Теперь ты знаешь, почему. И теперь ты знаешь, почему я не могла держать тебя рядом с собой, и почему я отослала тебя в школу. Зная это, Магда, ты должна решить, что будешь делать, когда закончишь школу. Ты можешь приезжать ко мне в Нью‑Йорк. Что бы ты ни решила, я буду продолжать высылать тебе деньги каждый месяц. Я не могу больше ничем помочь тебе. Я не могу помочь даже себе.
Твоя мама Клара”.
Артемида аккуратно сложила письмо, положила его обратно в вельветовую папку и посмотрела на Эрнста. – Теперь ты знаешь мою бабушку. И меня. Эрнст был очарован только что услышанной необычной историей и одурманен запахом китайских специй, доносящимся до него. Во время чтения он поглядывал на еду, источающую аромат, но держал себя в руках и не притрагивался ни к чему. Но теперь он протянул Артемиде пророщенный горох и запустил палочки в мясо с грибами.
– А твоя мама, Артемида? – спросил Эрнст, подхватывая свежий и удивительно сочный гриб.
– Она пошла в монастырь, но через некоторое время ее выгнали оттуда за ночные похождения. Затем она пошла по стопам моей бабушки. Она отправила меня в школу и, когда мне исполнилось пятнадцать, занялась собственной жизнью. Это моя бабушка дала мне письмо; она жила еще двадцать лет после смерти моей матери.
– Совет Мергеса, как избавиться от проклятия – исправить зло, – ты догадалась, что это значит?
– Мои бабушка и мама бились над этой загадкой годами, но так и не смогли разрешить ее. Моя бабушка советовалась с другим доктором, доктором Бриллом, известным психиатром из Нью‑Йорка, но он посчитал, что она потеряла связь с реальностью. Он поставил диагноз – истерический психоз – и посоветовал ей лечение отдыхом: год или два полного отдыха в санатории. Отказавшись как от капиталов моей бабушки, так и от попытки разгадать природу проклятия Мергеса, доктор Брилл, на мой взгляд, продемонстрировал, что сам потерял связь с реальностью.
Как только Артемида начала убирать тарелки со стола, Эрнст остановил ее.
– Мы сделаем это позже.
– Наверное, Эрнст, – сказала Артемида, и в ее голосе было напряжение, – ужин подошел к концу, и ты, возможно, хочешь подняться наверх. – Потом добавила: – Ты знаешь теперь, что я не могу удержаться от этой просьбы.
– Извини, – сказал Эрнст, поднимаясь и направляясь к выходу.
– Тогда до свидания, – сказала Артемида вслед. – Я знаю. Я все понимаю. Никаких извинений не нужно. И никакого чувства вины.
– Что ты знаешь, Артемида? – спросил Эрнст, оборачиваясь возле двери. – Куда, по‑твоему, я иду?
– Ты уходишь так далеко и быстро, как это только возможно. Кто может осудить тебя? Я знаю, почему ты уходишь. И понимаю, Эрнст.
– Вот видишь, Артемида, как я тебе сказал, ты не так много знаешь, как думаешь. Я пройду двадцать шагов до машины, из которой заберу сумку с необходимыми вещами.
Когда он вернулся, она принимала наверху душ. Он убрал со стола, завернул остатки еды, а затем, взяв сумку, пошел наверх.
Следующий час в спальне доказал, что в первый раз лисички были ни при чем. Все повторилось. Тепло, чувство жажды, кошачьи вылизывания, сводящий с ума язык, салют четвертого июля, медленно продвигающийся к своей пиротехнической кульминации, сверкание бенгальских огней, рев гаубицы. На несколько мгновений Эрнста посетили странные ретроспективные кадры: все прошлые оргазмы его жизни, со свистом пролетевшие сквозь него, годы судорожных выплескиваний в ладони, полотенца, раковины. Благодарность! Благодарность! Потом наступила темнота, и он заснул мертвым сном.
Эрнста разбудили завывания Мергеса. Опять он почувствовал, как затряслась комната, снова услышал скрежет и визги за стеной дома. Страх начал подкрадываться к нему, но он быстро вскочил с кровати и, оживленно встряхнув головой и глубоко вздохнув, спокойно открыл окно нараспашку, выглянул и позвал: “Сюда, сюда, Мергес. Побереги когти. Окно открыто”.
Внезапно наступила тишина. Потом Мергес прыгнул в окно, порвав тонкие льняные занавески. Шипя, он остановился посреди комнаты и поднял голову. Его глаза сверкали, его когти были выпущены, он начал кружить около Эрнста.
– Я ждал тебя, Мергес. Может, присядешь? – Эрнст устроился на большом стуле из красного дерева около ночного столика, позади которого была пустота. Кровать, Артемида и вся комната исчезли.
Мергес перестал шипеть. Он посмотрел на Эрнста. С клыков капает слюна, мышцы напряжены.
Эрнст дотянулся до своей сумки.
– Кушать хочешь, Мергес? – сказал он, открывая некоторые из пакетов с едой, которые он принес наверх. Мергес осторожно заглянул в первый пакет.
– Грибы с мясом? Я ненавижу грибы. Поэтому она их всегда и готовит. Это рагу из лисичек! – Он произнес эти слова как насмешливую песенку, а затем повторил: – Рагу из лисичек! Рагу из лисичек!
– Сейчас, сейчас, – сказал Эрнст, резко, словно выстреливая, что он иногда использовал в терапии. – Давай я достану тебе кусочки мяса. О, боже мой, прости меня! Должно быть, я забыл. Еще есть треска. И пекинская утка. И немецкие фрикадельки. И свинина, и цыпленок. И говядина, и…
– Хорошо, хорошо, – прорычал Мергес. Он набросился на куски мяса и проглотил в один присест. Эрнст продолжал бубнить:
– Возможно, даже у меня есть морские деликатесы, соленые креветки, жареный краб…
– У тебя, возможно, есть, у тебя, возможно, есть… но у тебя нет, правда? А даже если и было бы, что из того? Что ты думаешь? Что несколько несвежих отходов могли бы исправить зло? Что я позарюсь на эти объедки? Что я просто обжора?
Мергес и Эрнст мгновение пристально смотрели друг на друга. Затем Мергес кивнул в сторону пакета с цыплятами, завернутыми в салат.
– А что там?
– Это называется завернутый цыпленок. Восхитительно. Давай я достану для тебя кусочек.
– Нет, пусть будет так, – сказал Мергес, забирая пакет из рук Эрнста. – Я люблю траву. Я из семьи баварских травяных котов. Трудно найти хорошую свежую траву, которая бы не была забрызгана собачьей мочой. – Мергес съел цыпленка и чисто вылизал миску. – Не плохо. Может, у тебя и жареный краб есть?
– Мне бы тоже хотелось, чтоб был. Я набрал слишком много мяса. А оказалось, Артемида вегетарианка.
– Вегетарианка?
– Вегетарианец – это тот, кто не ест продукты из животных, даже молочные продукты.
– Она такая же глупая, как и убившая меня ведьма. И тебе напоминаю опять, ты глуп, если думаешь, что исправишь зло, набивая мой желудок.
– Нет, Мергес, я так не думаю. Но я понимаю, почему ты подозрительно относишься ко мне и к любому, кто к тебе подходит с добрыми намерениями. С тобой никогда в жизни не обращались хорошо.
– В жизнях – не в жизни. У меня их было восемь, и каждая без исключения заканчивалась одинаково – неописуемая жестокость и убийство. Взять хотя бы последнюю! Артемида убила меня! Посадила меня в клетку, безжалостно бросила в реку и смотрела, как грязная вода Дуная медленно заливает мои ноздри. Последнее, что я видел в той жизни, были ее ликующие глаза, глядящие, как пузырями выходит из меня мой последний вздох. А знаешь, в чем было мое преступление?
Эрнст покачал голвой.
– Мое преступление было в том, что я был котом.
– Мергес, ты не похож на других котов. Ты другой, ты умный кот. Надеюсь, я могу говорить с тобой откровенно.
Мергес, вылизывавший стенки пустого контейнера, прорычал, соглашаясь.
– Я хочу сказать две вещи. Во‑первых, конечно же, ты понимаешь, что не Артемида утопила тебя. Это сделала ее бабушка, Клара, давно умершая. Во‑вторых…
– Для меня они пахнут одинаково. Артемида – это Клара в поздней жизни. Ты не знал этого?
Аргументы Эрнста были отбиты. Ему нужно было время все обдумать, и он просто продолжил:
– Во‑вторых, Клара не ненавидела котов. В действительности она любила их. Она не была убийцей, она лишь хотела спасти жизнь своей любимой Кики, ее обожаемой кошечки, и она пошла против тебя.
Никакого ответа. Эрнст слышал дыхание Мергеса. Может быть, размышлял он, я перегнул палку, нападая на него и не выразив сочуствия?
– Но, – сказал он мягко, – скорее всего, разговор не об этом. Я думаю, нам надо вернуться к тому, что ты сказал минуту назад – твоим преступлением было то, что ты был котом.
– Правильно! Я делал то, что делал, потому что я кот. Коты защищают свою территорию, они нападают на других котов, и лучшие из котов – разрываемые желанием – не позволят никому и ничему встать на их пути, когда они чувствуют запах мускуса от кошки в период течки. Я не делал ничего, кроме попыток удовлетворить свое желание.
Речь Мергеса дала Эрнсту время для размышлений. Был ли Мергес прав? Может, он действительно лишь пытался удовлетворить свои желания?
– Жил однажды великий философ, – начал Эрнст, – то есть мудрый человек, мыслитель…
– Я знаю, кто такой философ, – резко перебил его кот. – В одной из первых жизней я жил во Фрайбурге и по ночам посещал дом Мартина Хайдеггера.
– Ты знал Хайдеггера? – удивился Эрнст.
– Нет, нет. Его кошку, Ксантипу. Она была нечто! Жар! Кика тоже пылкая, но не сравнить с Ксантипой. Это было много лет назад, но я помню, как мне приходилось сражаться с толпой хулиганов, пробираясь к ней. Коты собирались со всей округи, когда у Ксантипы начиналась течка. Какие были дни!
– Позволь, я закончу, Мергес. – Эрнст старался не потерять мысль. – Знаменитый философ, о котором я говорю – он был тоже из Германии, – часто говорил, что каждый должен стать тем, кто он есть, должен выполнить то, что ему предопределено судьбой. Не это ли ты делал? Ты выполнял свое основное кошачье предназначение. В чем же преступление?
С первыми словами Эрнста Мергес хотел было открыть рот, чтобы возразить, но осекся, как только понял, что Эрнст соглашается с ним. Он начал вылизывать себя широким языком.
– Но есть, однако, – продолжал Эрнст, – парадокс – основной конфликт интересов – Клара делала точно то же, что делал ты: была собой. Она была защитницей и ни о чем так не заботилась в своей жизни, как о своей кошке. Она лишь хотела защитить Кику, сохранить ее. Таким образом, действия Клары были направлены на выполнение ее основного предназначения.
– Хххшшш! – засмеялся Мергес. – А ты знаешь, что Клара отказывалась встречаться с моим хозяином, Коваксом, который был очень сильным человеком? И лишь потому, что она ненавидела всех мужчин, она решила, что Кика такая же. Следовательно, Клара поступила так не для Кики, а для себя. Она защищала свои собственные фантазии о том, чего, по ее мнению, хотелось Кике. Поверь, когда у Кики была течка, она пылала страстью ко мне! Клара поступила несказанно жестоко, разлучая нас.
– Но Клара боялась за жизнь своей кошки. У Кики было много жутких ран.
– Ран? Ран? Простые царапины. Коты запугивают и подчиняют кошек. Коты могут душу вытрясти из кошек. Так мы их добиваемся. Это наш мир. Мы коты. Кто такая Клара и кто ты, чтобы судить нас?
Эрнст отступил. Он попробовал другую тактику.
– Мергес, несколько минут назад ты сказал, что Клара и Артемида один и тот же человек и поэтому ты продолжаешь преследовать Клару.
– Мой нос не врет.
– Когда в одной из своих первых жизней ты умер, ты оставался мертвым какое‑то время перед тем, как вошел в другую жизнь?
– Очень недолго. Затем я родился заново в другой жизни. Не спрашивай меня как. Есть вещи, которых даже коты не знают.
– Если так, значит, ты находишься в одной жизни, затем перестаешь существовать и потом входишь в следующую. Правильно?
– Да, да, продолжай! – Мергес рычал. Как и у всех, кто имеет девять жизней, у него не хватало терпения на семантические беседы.
– Но некоторое время Артемида и ее бабушка, Клара, обе были живы в одно и то же время и не раз общались друг с другом, как же могли Артемида и Клара быть одним и тем же человеком в разных жизнях? Это невозможно. Я не сомневаюсь в твоем обонянии, но, возможно, ты ощущал генетическую связь между двумя женщинами.
Мергес молча обдумывал сказанное, продолжая вылизывать лапы и морду.
– Я подумал, Мергес, возможно, ты не знал, что у людей есть только одна жизнь?
– Разве в этом можно быть уверенным?
– Мы убеждены в этом.
– Возможно, у вас много жизней, но вы не знаете об этом.
– Ты сказал, что помнишь свои предыдущие жизни. Мы нет. Даже если мы имеем несколько жизней, то, получая новую, забываем старую. Это означает, что данная жизнь, мое настоящее существование, сознание того, что есть здесь и сейчас, – исчезнет.
– Суть! Где суть? – зарычало чудовище. – Переходи к делу, а то ты все говоришь, говоришь, говоришь! Боже мой!
– Суть в том, что твоя месть прекрасно сработала. Это была хорошая месть. Она разрушила остаток единственной жизни Клары. Она жила в презрении. А ее преступление было только в том, что она забрала одну из твоих девяти жизней. Ее единственная жизнь за одну из твоих девяти. Это похоже на долг, который уже несколько раз вернули. Твоя месть завершена. Список пуст, зло исправлено. – Ликуя от своей убедительной речи, Эрнст откинулся на спинку стула.
– Нет, – прошипел Мергес, сотрясая пол своими огромными лапами. – Нет, еще не завершена! Не завершена! Зло не было исправлено! Месть будет продолжаться и дальше! Кроме того, мне по душе такая жизнь!
Эрнст не дрогнул. Он передохнул минуту или две, и у него открылось второе дыхание, он начал заново, с другого конца.
– Ты говоришь, тебе нравится твоя жизнь. Расскажи о своей жизни! Как проходит твой день?
Спокойный тон Эрнста, казалось, успокоил Мергеса, который прекратил вылизываться, сел и тихо ответил:
– Мой день? Ничего существенного. Я помню не все в своей жизни.
– Что ты делаешь в течение дня?
– Я жду. Я жду, когда меня позовет сон.
– А между снами?
– Я же сказал тебе, я жду.
– И все?
– Я жду.
– И это твоя жизнь, Мергес? И она тебя удовлетворяет?
Мергес кивнул.
– И ты хочешь, чтобы последняя жизнь продолжалась вечно?
– А ты бы не хотел? Другие не хотели бы?
– Мергес, я поражен непоследовательностью твоих слов.
– Коты – существа, мыслящие чрезвычайно логически. Иногда это недооценивают из‑за нашей способности принимать мгновенные решения.
– И все же здесь есть противоречие. Ты говоришь, что хочешь, чтобы твоя девятая жизнь продолжалась вечно, а на самом деле ты не живешь. Ты просто существуешь в каком‑то подвешенном состоянии.
– Не живу своей девятой жизнью?
– Ты сам сказал: ты ждешь. Мне вот что пришло на ум. Один психолог сказал, что некоторые люди так бояться быть в долгу у смерти, что отказываются брать ссуду у жизни.
– Что это значит? Выражайся яснее, – сказал Мергес, прекратив вылизывать живот и сев на задние лапы.
– Это значит, что ты настолько боишься смерти, что отказываешься входить в жизнь. Помнишь, что ты говорил несколько минут назад о своей кошачьей сущности? Скажи мне, Мергес, где сейчас твоя территория, которую ты охраняешь? Где коты, с которыми ты дерешься? Где похотливые самки, которых ты подчиняешь? И почему, – спросил Эрнст, выделяя каждое слово, – ты допускаешь, чтобы твое драгоценное семя, семя Мергеса не давало всходов?!
Пока Эрнст говорил, Мергес все ниже опускал голову. Потом несколько мрачно спросил:
– У тебя только одна жизнь? Сколько ты уже прошел?
– Около половины пути.
– И как ты к этому относишься?
Внезапно Эрнст почувствовал острый приступ грусти. Он достал одну из салфеток из китайского ресторана и промокнул глаза.
– Извини, – неожиданно нежно сказал Мергес, – что причинил тебе боль.
– Да ничего. Я был готов. Это был неизбежный поворот нашей беседы, – сказал Эрнст. – Ты спрашиваешь, как я к этому отношусь? Ну перво‑наперво стараюсь не думать об этом. И даже больше – иногда забываю об этом. В моем возрасте это не так трудно.
– В твоем возрасте? Что это значит?
– Мы, люди, проходим через несколько жизненных стадий. Будучи маленькими детьми, мы думаем, что смерть – это большое событие; некоторые из нас оказываются захваченными этой мыслью. Смерть нетрудно обнаружить. Мы просто смотрим вокруг и видим мертвые вещи: листья, цветы, мухи, жуки. Умирают наши домашние любимцы. Мы едим мертвых животных. И скоро мы осознаем, что смерть придет ко всем – к бабушке, к маме и папе, и даже к нам самим. Мы самостоятельно делаем выводы. Наши родители и учителя, думая, что детям вредно думать о смерти, хранят об этом молчание либо подсовывают нам сказки про рай и ангелов, про вечную жизнь, бессмертные души. – Эрнст остановился, чтобы проверить, что Мергес следит за беседой.
– А потом? – Мергес внимательно слушал.
– Мы подчиняемся. Мы прогоняем смерть из наших мыслей или открыто и безрассудно бросаем ей вызов. Потом, незадолго до того, как повзрослеть, мы снова начинаем придавать ей огромное значение. Хотя некоторые не могут вынести тяжести этих мыслей и отказываются жить, большинство из нас отгораживаются от тревожных мыслей о конце жизни, погружаясь во взрослые дела – карьера и семья, личностный рост, усиление власти, приобретение недвижимости, победа в гонках. Сейчас я как раз на этом этапе жизни. После этой стадии мы входим в последний период жизни, когда опять приходит осознание смерти. И теперь смерть угрожающе близка – и неизбежна. С этого момента у нас есть выбор – думать о смерти как о великом событии и проживать остаток жизни достойно или так или иначе притворяться, что смерть никогда не наступит.
– А ты? Притворяешься, что смерть не придет?
– Нет, я не могу делать этого. Поскольку я в своей психотерапевтической практике беседую со многими людьми, которых беспокоит вопрос жизни и смерти, мне приходится смотреть правде в глаза.
– Можно я тебя еще спрошу, – голос Мергеса, мягкий и утомленный, потерял угрожающие интонации, – как ты относишься к этому? Как ты можешь получать удовольствие на любом этапе жизни, от любой деятельности, если на горизонте маячит смерть и у тебя лишь одна жизнь?
– Я перевернул этот вопрос вверх дном, Мергес. Возможно, смерть делает жизнь более насыщенной, более яркой. Осознание смерти добавляет особую остроту, сладко‑горький вкус в человеческую жизнь. Да, может быть, правда, что жизнь в измерении сна делает тебя бессмертным, но твоя жизнь мне кажется пропитанной скукой. Когда я попросил тебя недавно описать свою жизнь, ты после паузы ответил: “Я жду”. И это жизнь? Ожидание и есть жизнь? У тебя осталась лишь одна жизнь, Мергес. Почему бы не прожить ее полноценно?
– Я не могу! Не могу! – ответил Мергес, опуская голову ниже. – Мысль о прекращении существования, о нахождении вне живых, о жизни, проходящей без меня… просто… просто… слишком ужасна.
– Значит, суть проклятия – это не месть, верно? Ты используешь месть, чтобы избежать окончания твоей последней жизни.
– Это просто ужасно, если все закончится. Небытие.
– Я понял благодаря своей работе, – сказал Эрнст, дотрагиваясь до огромной лапы Мергеса, – что больше всего боятся смерти те, кто умирает, так и не прожив полно свою жизнь. Лучше использовать всю жизнь без остатка. Не оставляй смерти ничего, кроме мрака, ничего, кроме сожженных мостов.
– Нет, нет, – стонал Мергес, качая головой, – это просто ужасно.
– Почему ужасно? Давай проанализируем это. Что именно ужасно в смерти? Ты пережил ее не один раз. Ты сказал, что всякий раз твоя жизнь заканчивалась, прежде чем возникнет новая.
– Да, верно.
– Что ты помнишь из этих коротких моментов?
– Почти ничего.
– Не в этом ли суть, Мергес? Многое из того, чем для тебя страшна смерть, – это лишь твои представления о том, что ты можешь чувствовать, будучи мертвым, и осознание того, что тебя не будет среди живых. Но когда ты мертв, у тебя нет сознания. Смерть – это исчезновение сознания.
– Ты пытаешься убедить меня? – зарычал Мергес.
– Ты же спросил, как я к этому отношусь? Это один из моих ответов. Мне также нравятся слова другого философа, который жил много лет назад: “Там, где смерть, меня нет; там, где я, нет смерти”.
– Есть какое‑нибудь отличие от фразы: “Когда ты мертв, ты мертв”?
– Большая разница. В смерти нет тебя. “Ты” и “смерть” не могут сосуществовать.
– Тяжело, очень тяжело, – сказал Мергес едва слышно, его голова почти касалась земли.
– Давай я расскажу тебе еще об одной перспективе, которая мне помогает, Мергес, то, о чем я узнал от русского писателя…
– Эти русские… Это будет безрадостно.
– Послушай. Года, века, тысячелетия прошли до того, как я родился. Верно?
– Не отрицаю. – Мергес утвердительно кивнул.
– И пройдут тысячелетия после того, как я умру. Так?
Мергес опять кивнул.
– Следовательно, я воспринимаю свою жизнь как искру между двумя огромными и одинаковыми пространствами темноты: темнота возникает до моего рождения и следует после моей смерти.
Казалось, это попало в точку. Мергес сидел и внимательно слушал, его уши были подняты.
– Тебя не удивляет, Мергес, что мы боимся второй темноты и что нам безразлична первая?
Вдруг Мергес встал и широко зевнул, его клыки сверкали в лунном свете.
– Кажется, я устал, – сказал он, подходя к окну тяжелой, не типичной для котов походкой.
– Подожди, Мергес, есть еще кое‑что!
– Достаточно на сегодня. Слишком много надо обдумать, даже для кота. В следующий раз, Эрнст, жареный краб. И еще цыпленка в зелени.
– В следующий раз? Что это значит, Мергес, в следующий раз? Разве я не исправил зло?
– Может быть, да, может быть, нет. Я сказал тебе, слишком многое надо обдумать сразу. Я ухожу!
Эрнст шлепнулся на стул. Он был выжат, его терпение было на пределе. Никогда прежде у него не было более утомительной беседы. И все напрасно! Видя, как Мергес тащится к выходу, Эрнст пробормотал про себя:
“Давай! Давай!” А потом добавил: “ Geh Gesunter ffeit ”.
При этих словах Мергес остановился как вкопанный и обернулся.
– Я слышал это. Я могу читать мысли.
Ого, подумал Эрнст. Но он держал голову высоко поднятой и смотрел прямо в глаза подходящему Мергесу.
– Да, я слышал тебя. Я слышал твое Geh Gesunter Heit . И я знаю, что это значит! Ты благословил меня. Даже не зная, что я услышу и пойму, ты пожелал мне хорошего здоровья. И я тронут твоим пожеланием. Очень тронут. Я знаю, через что я заставил тебя пройти. Я знаю, как сильно ты хочешь освободить эту женщину – не только для ее блага, но и для своей пользы. И даже не зная, принесло ли пользу твое грандиозное усилие, и не зная, сделал ли ты хоть что‑нибудь, чтобы исправить зло, даже после этого ты был настолько любезен, чтобы пожелать мне доброго здоровья. Это самый щедрый подарок, какой я когда‑либо получал. Прощай, мой друг.
– Прощай, Мергес, – сказал Эрнст, глядя, как Мергес удаляется, веселый, по‑кошачьи изящный. “Мне кажется, – думал он, – или Мергес действительно стал немного меньше?”
– Может быть, мы еще встретимся, – крикнул Мергес на ходу. – Я собираюсь поселиться в Калифорнии.
– Даю слово, Мергес, – прокричал в ответ Эрнст, – ты будешь хорошо питаться здесь. Жареный краб и цыпленок каждую ночь.
И опять темнота. И следующее, что увидел Эрнст, было зарево рассвета. “Теперь я понимаю значение “трудная рабочая ночь”, – думал он, садясь в постели, потягиваясь и глядя на спящую Артемиду. Он был уверен, что Мергес покинул измерение снов. Но что же до остального проклятия кота? Это не обсуждалось. Несколько минут Эрнст представлял себе перспективу быть рядом с женщиной, у которой, возможно, очень часто будет возникать жажда секса. Очень тихо он встал с постели, оделся и спустился вниз.
Артемида, услышав шаги, проснулась и позвала:
– Эрнст, нет! Что‑то изменилось. Я свободна! Я знаю это. Я это чувствую. Не уходи, пожалуйста. Тебе не нужно уходить.
– Вернусь через десять минут с завтраком, – отозвался он от двери. – Мне жутко захотелось свежего багета и сыра. Вчера я заметил магазинчик внизу по улице.
Он открывал машину, как вдруг услышал звук открывающегося окна и голос Артемиды.
– Эрнст, Эрнст, помни, я вегетарианка. Никакого сыра. Ты бы мог привезти…
– Я знаю, авокадо. Уже в списке.
От автора.
В этой книге я постарался быть и рассказчиком, и учителем. В тех случаях, когда эти две роли сталкивались и мне приходилось выбирать между сочным педагогическим замечанием и поддержанием драматического хода событий, я почти всегда отдавал предпочтение повествованию, пытаясь выполнить образовательную миссию в косвенных рассуждениях.
Те читатели, которые заинтересованы в дальнейшем обсуждении, могут зайти на мою страничку в Интернете.
Там вы найдете отзывы на мои книги и сможете обсудить некоторые вопросы, затронутые в этих шести главах: доверие пациента, границы между правдой и вымыслом, терапевтические взаимоотношения, подход “здесь и сейчас”, прозрачность терапевта, существующие терапевтические подходы и динамика тяжелой утраты.